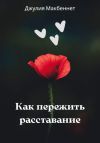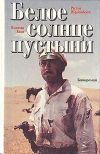Читать книгу "Лёд одинокой пустыни. Не заменяй себя никем"

Автор книги: Алина Данилкина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
На десерт нам принесли харосет с инжиром, финиками и абрикосами, яблочную шарлотку, поразительно напоминающую по вкусу бабушкин пирог из терпко-вяжущих осенних ранеток, вертуту с тыквой и изюмом и песочный пирожок гоменташ с маком. Насытившись вкусным еврейским обедом, мы отправились на израильский рынок Махане-Иегуда. По прибытии мы сразу же прошли мимо многочисленных прилавков с поношенной китайской одеждой, хипстерского бара на улице, где громко общались евреи в весёлых разноузорных кипах, и магазинчика с расписной керамической посудой, слизанной узорами с русской гжели. Мои натренированные рецепторы заставили мои ноги остановиться у бочек с восточными специями, которые тщетно пытались продать шаловливые еврейские дети. Аромат мускатного ореха, соединяющийся под умеренно-влажным израильским воздухом с заатаром и бахаратом, от которого веяло то корицей, то гвоздикой, медленно бороздил мои обонятельные луковицы. Я захотел помочь юным торговцам и скупил по килограмму каждой душистой приправы, хоть и отчетливо осознавая, что набранных специй хватит мне до конца моих дней. Внезапно маленькая девочка в застиранном потускневшем голубом платьице заплакала от радости, боязливо, но с благодарностью обняв меня и Мелек. Пока Хафиз и Эсен, не привыкшие ходить по рынкам, выбирали шёлковые скатерти для дома тётушки Акджан, Мелек помогала детям продавать куркуму и кориандр. Она пела турецкие песни своим бархатистым медовым голосом, всё больше и больше привлекая внимание привередливых посетителей рынка. Вскоре возле магазинчика специй собралась восхищённая ликующая толпа, начавшая скупать у детей то мелкие семена шамбалы, то белый индийский тмин. Я ощущал глубокое сопереживание со стороны Мелек эксплуатируемым жестокими бедняками детям, на телах которых были тщательно спрятаны отцовские побои.
После непродолжительного ажиотажа наплывших покупателей я увидел, как Мелек сняла со своей изящной бронзовой шеи тот самый кулон-талисман, в котором был спрятан волос умершего брата. Дети горячо благодарили её, пока к нам не подошли Хафиз и Эсен. Услышав поведанную мною историю, лекарь сухо протянул детям приличную сумму денег, уверенно отведя в сторону Мелек. Полезный навык подглядывания позволил увидеть мне, как Хафиз, стянув с себя никогда не снимаемый им оберег в виде серебряного медальона, повесил его на шею моей девушки. Вся злость, спрятанная внутри моего ноющего эгоистичного сердца, с непринятием выползла из меня, стремясь тотчас рассказать о трогательной сцене между Хафизом и Мелек кровожадной и никого не щадящей Эсен, которая спустя несколько секунд после услышанного устроила нервно-истерическое бесплатное представление для всего рынка Механе-Иегуда. Подобно свирепой пиренейской рыси, Эсен враждебно оголила свои острые белоснежные зубы перед Мелек. Она цепко схватила Хафиза за воротник пиджака и после яростного гортанного крика разрыдалась навзрыд на его плече.
– Как ты мог отдать ей талисман нашей матери? Как ты посмел, брат? Этот амулет пахнет мамой, её запах должен быть всегда с тобой, – жалостливо проговорила Эсен.
Хафиз, безнадежно вытерев слёзы сестры, порывисто обнял заплаканную Эсен и сказал:
– Только отдав, мы можем получить что-то ценное. Мелек оставила свой кулон детям, а мой пусть будет у неё. Никакой амулет мне не вернёт запах мамы или её голос, не вернёт, потому что никто никогда не забирал этого у меня. Память о нашей маме всегда со мной, Эсен.
Слова лекаря не успокоили взбунтовавшуюся Эсен. Она навеки возненавидела Мелек, которая по непонятной для меня причине не захотела возвращать подаренное Хафизом его сестре. В воздухе между нами уплотнялось непосильное напряжение, созданное благодаря минутном порыву вспыхнувшей во мне ревности. При необходимости я всегда умел с лёгкостью испортить настроение всем вокруг себя, и это даже доставляло мне мимолётное удовольствие. Мысленно на тончайшем плане я поддерживал в этой психологической битве Эсен, желавшую лишь оставить в семье амулет матери, но я не мог понять Мелек, открывшуюся для меня с иной неожиданной стороны. Мой ангельский музыкант, блаженно играющий на арфе под шум прибоя Чёрного моря, эгоцентрично возгордилась излишним вниманием харизматичного Хафиза, повсюду преследующего личные цели. Все эти мысли порождали в моём сознании другие идеи, ещё более провокационные и абсурдные.
Приехав в отель и направившись в душ, я заметил, как Мелек без спроса развязала тот самый подаренный случайным экскурсоводом мешок. Я подошёл к ней и справедливо забрал то, что принадлежало лишь мне. Закрывшись в ванной на трудно взламываемый замок, я тут же решил вытряхнуть наружу всё содержимое кожаного футляра странного старца. В раковину с оглушающе звенящим звуком полетела горсть из тридцати серебряных монет. Я стал думать о вере, отношениях с Мелек и неслучайности встреч, как резкий стук в дверь внезапно перебил мыслительный процесс несмышлёного русского. За дверью находился утомившийся Хафиз, который под предлогом обсуждения планов на завтра зашёл посмотреть, как мы обитаем с Мелек. Было трудно не заметить недовольство и даже некое презрительное осуждение в его томном тяжёлом взгляде, брошенном на нашу совместную с Мелек кровать. Хафиз передвигался по комнате нерасторопно, будто пытаясь запечатлеть каждую пылинку с пола и подсмотреть содержимое полураскрытых полок.
– Завтра посетим Дорогу Скорби, Павел. Проконтролируй, чтобы Мелек оделась тепло, синоптики обещали порывистый ветер, – сказал он.
Признаюсь, меня утомляли советы Хафиза насчёт каждого моего шага, но необъяснимая тревожность за Мелек щекотала мои расшатавшиеся на базаре нервы. Проснувшись утром, я не захотел делить завтрак за одним столом со своими друзьями, поэтому предпочёл подождать всех в машине. Спустя сорок минут компания была в сборе, и мы отправились на Виа Долороза, тот самый путь, по которому шел Иисус Христос от места суда до места распятия. Несмотря на то, что я бывал в Израиле с родителями, на Дороге Скорби я оказался впервые. Идя по скорбному пути, чувства опустошённости и отчаяния усиливались внутри меня. Зуд оголтело бежал по моей коже, переходя то в колкие мурашки, то в ощущение прожорливого подкожного клеща. Пульсация сосудов по венам была ритмичнее моего отяжелевшего шага, будто просящего прекратить путь. От усталости я воспринимал галлюцинации за действительность, окончательно потеряв хронотоп событий. В моём сознании я шёл больше восьми часов, трёх месяцев и семи лет. Всю дорогу меня мучил озноб, беспощадно колотивший все органы изнутри: мои сибирские зубы хаотично тряслись от холода, рассеянно скользившего по разгорячённому от мыслей телу. С новым пройденным метром я ощущал себя всё беспомощнее и ненужнее, а мои набухшие веки угрожающе нависали на моём пути. Каждая из четырнадцати так называемых станций отмечена вдоль Виа Долороза табличкой или обозначением на каменных стенах, окружающих маршрут. На некоторых остановках расположены небольшие часовни поблизости, посвящённые библейским событиям. Но на всю историю, изучение которой я обожал с раннего детства, мне было совершенно наплевать. Одним движением моего плавящегося восковидного пальца я отключил звук в некачественном аудиогиде. Только на Дороге Скорби я увидел безобразное иудино нутро, которое я скрывал от себя и окружающих много лет. Тридцать серебряников от старца уже не казались бессмысленным и неуместным сувениром. Нёбо полости рта онемело мощнее, чем при удалении трёх режущихся зубов мудрости на втором курсе университета. Задыхаясь, я сглатывал горько-вязкую слюну, заменившую на время пресную воду, которую мой организм напрочь отказывался принимать даже от переживающей за меня Мелек.
Протяжный колокольный звон, наседающий на барабанную перепонку левого уха, будто усыплял меня с каждым ударом. Не попавшие на бумагу детали того дня были впоследствии тщательно заштукатурены в моем несозревшем сознании. Я не помню, как мы добрались до конечной остановки, как обедали хрупкими, рассыпающимися круассанами с жареным марципаном во французском бистро, как собирали чемоданы, как летели обратно домой в Стамбул, и как нас встречала ждавшая шёлковые скатерти тётушка Акджан. Но несмотря на необъяснимые пробелы в памяти, которые я так и не смог заполнить ни благодаря многочисленным фотографиям Эсен, ни благодаря детальному рассказу Мелек обо всём случившемся, я отчётливо помню свою несокрушительную преисполненную решимость принять ислам, отказавшись от золотого крестика и пасхального кулича с цукатами и глазурью.
По прилете тётушка Акджан и Хафиз предложили нам с Мелек остаться у них, но я не раздумывая отстранился от этой нелепой затеи. В тот вечер я планировал наслаждаться лишь компанией своего отражения в треугольном зеркале, несуразно висевшим между современной технологичной кухней и классической викторианской гостиной. Это зеркало с незаметной зигзагообразной трещиной ненавязчиво напоминало мне, что эклектика свойственна не только интерьеру, но и человеческой душе. Каждый раз проходя мимо этого овального шедевра в стиле арт-деко, я смотрел на себя совершенно по-разному: с восхищением и буйством, с нежностью или омерзением. Наверное, моя проблема сводилась к тому, что я не мог и не хотел узнать себя. Порой мне легче было отказаться, наконец, познакомиться со своим внутренним миром, чем бежать от себя. Выйдя из аэропорта, под предлогом тошноты я попросил Хафиза проводить до дома Мелек. Приехав к себе, не раздевшись и не начав разбирать чемодан, я захотел выбросить все иконы из дома. Я приказал своим уставшим обветренным пальцам не дрожать и принялся убирать остатки святынь в чёрный полиэтиленовый пакет для мусора. Стоявшая икона сгорбленного святого Павла на прикроватной полке возле подсвечника с керамической обезьяной, висевшее на венецианской штукатурке изображение Божьей Матери, кулон с мощами Святой Матроны Московской и самая большая и главная икона Иисуса Христа в серебряном окладе с эмалью и драгоценными камнями, подаренная моему отцу кызыльским вором в законе. Всё это привезённое из Сибири и сопровождающее меня с восемнадцати лет вдруг оказалось в мусорном баке, который раз в три дня увозил на свалку пахнущий протухшими анчоусами турок с полуседой козлиной бородкой.
После содеянного я лег на кровать, надев маску с холодным компрессом для сна, как внезапно прозвенел нежданный звонок. Отворив дверь, я увидел бледное озадаченное лицо Мелек. Она не плакала, но была изрядно напугана.
– Меня выгнали родители из дома из-за водоворота сплетен, кружащегося в обществе отца. Мама сказала, чтобы я отправлялась к своему любовнику. Я могу остаться у тебя? – боясь отказа, спросила Мелек.
– Мой дом там, где ты. Спасибо, что выбрала нас с ним.
Мелек засмеялась и живо направилась к кухне. Я заварил ей мятный чай с земляникой, а затем испёк её любимые овсяные печенья с грецким орехом и бананом. Укутавшись в пледы из мериносовой шерсти, мы вышли во двор посмотреть на звёзды. Но я не мог любоваться жемчужными плевочками, когда рядом со мной находилась самая добрая и нефальшивая девушка в мире. Я не мог наглядеться на Мелек, потому что даже пушистый соседский кролик с синими пуговками вместо глаз не был таким благолепным и уязвимым, как она. В ту ночь между нами было всё будто в первый раз: смех, разговор за звоном бокалов чилийского вина, объятия, десятки поцелуев у дымного костра, малиново-пурпурный рассвет. Мелек с утра приготовила так полюбившуюся ей в Израиле шакшуку с кабачком и грибами и даже неудачно попыталась воспроизвести мой традиционный бедуинский карак-чай с топлёным молоком. Проснувшись, я сообщил Мелек, что через три дня буду знакомиться с её родителями, но не сказав о своём намерении просить у них руки их дочери. Мелек ласково, но отягощённо улыбнулась, смирившись с тупиковой для её существования ситуацией. После завтрака я поцеловал новую хозяйку моего дома в лоб, отправившись принять ислам. Благодаря связям Хафиза, которыми я постепенно обрастал в Стамбуле, мне не составило непосильного труда поговорить с авторитетным имамом насчет необходимых процедур. Всё оказалось весьма просто, и затягивать я не стал. Я произнёс слова шахады: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха!», совершил полное омовение гусль и сменил имя. Двадцать восьмого августа родился новый человек с новым именем Тахир, начавший новую безгрешную жизнь.
Приехав домой, я не сразу осмелился рассказать о содеянном Мелек. Она приготовила турецкую пиццу лахмакун с бараниной и петрушкой, надела пыльно-оранжевое платье оттенка созревшей нантской моркови и даже поставила в поломанную рамку нашу совместную фотографию из Каппадокии, на которой у меня закрыт правый глаз. Я не смог сознаться ей наедине, поэтому пригласил в гости Хафиза и Эсен. Разместившись на террасе возле кустовой светло-салатной гортензии, напоминающей свежее дыхание почти прошедшего лета, я рассказал о существенных коренных изменениях в своей жизни. Эсен любила покер и, возможно, поэтому не изменилась в лице, или, вероятно, ей было абсолютно безразлично на меня и моё новое имя. Реакция Мелек была неоднозначно запоздалой: сначала она разозлилась и приуныла, однако несколько минут спустя превеликое облегчение уже сияло на её едва загорелом лице. Хафиз долго хранил молчание, уставившись в недвижимую точку на фасаде дома. Обычно он был таким, когда рушились намеченные им планы, но из-за врождённой зловещей загадочности предугадать движение его мысли казалось для меня невыполнимой миссией. Он стал кусать посиневшие губы и потирать мизинцами закрытые глаза. Затем он нервно встал и спросил:
– И зачем ты сделал это? Для чего тебе наш ислам? Хочешь, чтобы Аллах отпустил тебе все совершённые за двадцать шесть лет грехи?
– Ислам не может быть чьим-то. Однако, почему я стал мусульманином, лишь моё дело, – коротко и наотрез ответил я.
– Павел, точнее Тахир, принял ислам ради меня и моей семьи. Из-за распространившихся непонятно от кого склизких сплетен родители отказались жить со мной, выбрав репутацию, а не родную дочь. Так что теперь мой дом здесь, рядом с ним, – вклинившись, перебила Мелек.
– А обрезание ты делать будешь, Тахир-джан? – с издёвкой спросила Эсен.
После интимного вопроса ядовитой сестры Хафиза я отправился за бутылкой Chablis в винный погреб, чтобы расщепить атомы напряжения в атмосфере. И, казалось, это удалось: все смеялись, рассказывая личные истории о семьях, работе, друзьях. Мелек грациозно порхала, мысленно вертясь в вихре беспечности. И я тихо радовался, что всё-таки увидел на её лице такую широкую искрящуюся улыбку. Тогда я, наконец, узнал, что такое счастливая женщина. Мне хотелось законсервировать этот миг, так как было понятно, что я не смогу дарить такую громадную порцию блаженства Мелек каждый день.
– Мелек, а чем занимаются твои родители? – с осторожностью поинтересовался Хафиз.
– Обычно я не люблю рассказывать о семье, но сегодня настолько замечательный день, что мысли о родителях не кажутся мне такими паническими. Моя мама, Серенай Кая, – известный акушер-гинеколог в Турции, благодаря которому появилось на свет около тысячи детей. А про отца Беркера я редко рассказываю, но у него крупнейшая строительная компания в Турции. Новый аэропорт, из которого мы вылетали, он построил. Ещё у меня есть брат, Метин Озтюрг, он архитектор, я никогда не говорю о нём в прошедшем времени.
После слов Мелек мои парализованные фаланги пальцев выпустили хрустальный бокал белого вина из рук. Мы с Хафизом переглянулись, и я понял, что Мелек Кая, почему-то носившая фамилию матери, дочь Беркера Озтюрга, холдинг которого мы ограбили ради спасения маленькой девочки. Но это не было так страшно, как то, что Мелек Кая оказалась сестрой Метина, того самого архитектора в стоптанных кедах, которого я нечаянно лишил жизни. Вдруг мне пришлось осознать, что Мелек привлекала меня внешними чертами Метина, которые я видел повсеместно: и в лужах, и в облаках, и в прохожих незнакомцах. Рядом с ней мне казалось, что тот ни в чём не повинный парень жив. Наверное, поэтому только наедине с Мелек я умел забывать о грехе нещадного убийства. Однако с момента раскрытия истины, глядя на прекрасную фею Мелек, я чувствовал себя бессердечным злодеем из сказки братьев Гримм. Всю свою гнусную, наваленную эмоциональными помоями жизнь я мечтал встретить женщину, не похожую на мою алчную сибирскую бабу-мать, ту, которая бы своим светом указала мне верный путь. Я искал её больше двадцати лет. Гигантская свалка, образовавшаяся в моей нечистой душе, завонявшись отходами, мечтала, что когда-нибудь её расчистит милосердный незнакомец. В моей судьбе этим кем-то оказалась девушка, которая раздавала жареные каштаны беднякам, женщина, на которой я захотел жениться, и девочка, брата которой я убил из-за своего страха в очередной раз бежать от себя. Что я чувствовал тогда, спросите вы? Мне казалось, я умер, я снова погиб: моей маме прислали в Сибирь телеграмму о смерти, мое бездыханное тело перевезли из Стамбула в Тыву, а на похороны и вовсе никто не пришёл. Я не хотел больше продолжать, умел бы Аллах нажать на паузу или вычеркнуть гнусного участника из игры «Бог и его рабы» навечно. Но нет. Я решил взломать игру, став на место создателя. Я убил троих: его, её и себя. Наглотаться десятков разноцветных таблеток было бы самым простым способом покончить с поглощающими угрызениями совести навсегда. Но разве такой, как я, заслуживал легкой безболезненной смерти?
В детстве родители обычно учат детей брать ответственность за свои поступки, но к каким обязательствам меня могли склонять не работающая ни дня в жизни сребролюбивая мать или ворующий косноязычный отец, не сделавший ничего полезного для Кызыла за двадцать шесть лет государственной службы. Всю жизнь я мечтал быть справедливее, благороднее и честнее их, а получилось наоборот: я стал малодушным убийцей, презренным трусом и ничтожным завистником. С новой верой я хотел по-новому начать верить в себя, однако в тот день я так и не набрался мужества признаться во всём Мелек, мучительно боясь потушить её свет, озаряющий мои дни. И в Стамбуле, и в Каппадокии, и в Израиле я жаловался на глубокое уныние, испаряющееся даже из сильно суженных пор её перламутровой кожи. Вот только оказалось, что причиной этой адемонии был внутренний Мефистофель, ловко управляющий моими дрянными поступками. Всю ночь я не мог уснуть от нависших над остатками моей совести мыслей. Я желал отомстить себе за каждую непрошеную слезу Мелек, и моим самым заклятым врагом стал Павел, имя которого я стёр в пыль, веру которого я убил, но прошлое которого я так и не смог перелистнуть.
Около семи утра по вьющимся волосам Мелек побежал свет утренней золотой зари. Пока она досматривала последний рассветный сон, я испёк ее любимый симит с кунжутом, сварил банановое какао с таитянской ванилью и зажёг индийские благовония с ароматом зелёного чая и лотоса. Потом я умылся леденящей водой, не поднимая глаз на свой укоризненный грешный облик, отражающийся даже на стеклянном потолке в ванной комнате. До переезда в Катар моя жизнь казалась мне одноцветной и тусклой картиной, не привлекающей внимание ни прохожих, ни самого художника. Однако я не мог представить, что, улетев в Доху, а затем в Стамбул, мое застойное бесцельное существование превратится в триллер с печальным концом. Спустя несколько минут, будто почувствовав неладное, Мелек спустилась к завтраку в белом халате с широкими рукавами из кожаной бахромы.
– Меня разбудил аромат какао. Ты знаешь, сегодня мне плохо спалось, брат навещал меня во сне. Он долго мычал, будто не мог в чём-то признаться, но странным было то, что за его спиной стоял Хафиз. Хорошо, что Эсен этого не слышит.
– Но здесь есть я. Садись за стол, вчера я купил твой любимый мёд из верблюжьей колючки, а утром под него испёк по рецепту твоей бабушки симит с кунжутом.
– Павел, я не могу думать о еде. Метин словно был жив пару часов назад. Знаешь, Аллах будто мне послал тебя в облегчение. Но почему ты ничего не спросил про мой сон? Я уверена, что вы с Метином поладили бы и даже, возможно, стали лучшими друзьями.
После её вопроса я немедленно отложил столовые приборы в сторону, чтобы она почувствовала себя в безопасности. Обволакивающий весь обеденный зал аромат фиалки, которым благоухала её молодая кожа, перебивал терпкий запах индийских палочек. По утрам Мелек была изящнее и нежнее, и поэтому я не желал прихода дня или вечера. Банановое какао, заграничный паспорт и она – всё, что мне было нужно для столь далекого слова «счастье». За все грехи я бы позволил забрать и любимый дом в живописном районе, и фиолетовый кабриолет, и коллекцию швейцарских часов, и даже свободу, но никогда и никому я бы не отдал возможность видеть её сверкающие изумрудные глаза по утрам.
– Я приготовил для тебя сюрприз, так что забывай про сон и иди собирайся. Через двадцать минут я буду ждать тебя в машине, – ответил я, сохраняя мнимую суровость.
Мелек тут же вскочила и восторженно побежала по лестнице, успев по пути в гардеробную два раза споткнуться. Спустя сорок минут наскучившего мне ожидания, нарумяненная Мелек не спеша открыла дверь и села в машину. Всю дорогу я отвлекал её, рассказывая занудные университетские истории, а она усердно, но, увы, неумело делала вид, что ей небезразлично и даже весьма интересно. Добравшись до района Бейоглу, я пригласил Мелек внутрь двухэтажного здания с высокими, будто сталинскими, потолками и панорамными окнами в пол. Я сказал ей, что мне необходимо сделать телефонный звонок в машине, но предложил посмотреть всё самостоятельно, бодро соврав. Вернувшись в джип, который Мелек с трепетом называла Хакки, я включил онлайн-трансляцию с камер видеонаблюдения. Вначале она присматривалась и лишь спустя несколько минут открыла первую увиденную ею дверь, за которой находились деревянные парты для детей и навороченная технологичная доска. Поднявшись на второй этаж, она увидела наваленные в одном месте музыкальные инструменты от скрипок из высокогорной ели до белого сатинированного рояля. Мелек сразу же подбежала к позолоченной арфе, которая одиноко стояла рядом со старинным банджо, изготовленным из высокосортной сушёной тыквы. В следующей комнате находился помпезный обеденный зал, на стенах которого были нарисованы масляными красками ноты арии Генри Перселла. Я выключил камеру и отправился делить с ней ликующую неизречённую радость.
– Это место прекрасно, я давно не чувствовала себя так тепло и уютно. Здесь всё о музыке, любви и о любви к музыке. Но я не понимаю, что это? – озадаченно спросила Мелек.
– Это школа музыки имени Мелек Кая. Здание, мебель и даже некоторые инструменты оформлены на тебя. В этом пакете документы и личное письмо, которое ты должна открыть не раньше девяти вечера. Это мой подарок тебе и детям, которые будут учиться любить классическую музыку так же безнадежно, как и ты.
Мелек смущенно стояла, боявшись сделать шаг. Но после нескольких минут растерянности она накинулась на меня с поцелуями, оглушая восторженными поросячьими визгами. Не вынося длительные телячьи нежности Мелек, я предложил пообедать в рыбном ресторане с открывающимся видом на полуночно-синее полотно Босфора. Нам принесли красное вино с нотами ягодного вальса из черноплодной рябины, вишни и крыжовника. Ласковые объятия морского бриза, пение толстых чаек и долгая, но кроткая улыбка любимой женщины.
Мелек заказала дорадо с булгуром и тимьяном и нежнейшие морские гребешки в соусе из андалузской спаржи. Я не хотел есть. Ничего и больше никогда. Расплатившись, я вызвал водителя Реджепа и отправил Мелек домой одну, ссылаясь на важную встречу. Открыв дверь машины, я поцеловал Мелек, пытаясь навсегда запомнить запах её губ, которые пахли перечной мятой и бергамотом. Я сел в машину и отправился в отель, мысленно перечитывая письмо, которое я ей вручил в музыкальной школе. «Здравствуй, дорогая Мелек. Хотя нужно ли это “здравствуй”, если я собрался прощаться? Уж не знаю, кого благодарить, Иисуса, Аллаха или судьбу, за встречу с тобой тогда на площади Таксим. Я до сих пор помню те безвкусные жареные каштаны, которые ты бесплатно раздавала турецким беднякам в пёстром платье. Не зная, кто ты и из какой семьи, я очаровался твоими малахитовыми глазами, воспоминания о которых будут согревать меня либо в холодной тюрьме, либо в ещё более холодной Сибири. “За добро денег не берут”. Помнишь ли ты сказанную тобою фразу? К сожалению, она не стала маятником моих поступков и мыслей. Может, за добро деньги и не берут, но за грехи можно получить многое: наш просторный большой дом с твоей любимой кустовой гортензией, новые дорогие машины, лимитированную одежду последних коллекций и даже приглашения на утомительные приёмы в посольства. Вся эта жизнь – плоды грехов, которые я осмелился принять на свою широкую русскую душу. В этот день я хотел сделать тебе предложение и провести остаток жизни вместе, и, знаешь, я тщательно подготовился: принял ислам, сменил имя, купил тебе здание для музыкальной школы и даже кольцо, позже выброшенное в море с террасы того помпезного рыбного ресторана. Счастье хотело обрести меня, но я его отпугнул. Я убил человека, а кого именно, узнал вчера. Молодой и подающий надежды архитектор с открытым взором в подкатанных вельветовых брюках стал незваным свидетелем моего ограбления. Я беспощадно отнял жизнь твоего брата Метина, который неслучайно сегодня ночью постучался в твой сон. Но я не буду извиняться, потому что мне нет прощения, ведь я убил его, тебя, себя и нас. Всю недвижимость, Мелек, я отдаю тебе вместе с израненным окаменелым сердцем. Моя жизнь тянется к твоей, но я не могу взять груз твоего будущего несчастья на себя, поэтому вновь бегу. Мой самолёт вылетит из Стамбула через двенадцать часов. До отъезда в аэропорт я буду ждать вызванную тобой полицию в отеле Джираган. Я не оставил тебе времени думать, поэтому отложи эту гнусную писанину и позвони же скорее по номеру следователя, который занимался делом твоего брата. И кто бы и что тебе ни говорил, всегда верь в то, что я тебя не люблю. Без имени».
По приезде в гостиницу гром скрипуче и вальяжно гремел в моей груди. Мелек подарила мне самое ценное, что могла – меня, но я оказался не в силах распорядиться этим благом, вновь потеряв своё внутреннее начало. В номере я заказал бутылку горького золотого вермута, которую испил в глубоком одиночестве спустя сорок минут скитаний по комнате с заострённым бокалом. Напротив барной стойки, отделанной чёрным бархатом, стояло непропорциональное зеркало, и признаюсь, мне доставляло боль видеть свой кривой образ в нём. Находясь под градусом, но совершенно трезвым, я достал из походной сумки боцманский морской складной нож и зашёл в ванную комнату в балийском стиле, пристально взглянув на своё отражение в зеркале. Неприкаянный зловещий призрак полупрозрачно уставился на меня. В левую руку я, подобно художнику, держащему кисточку, взял нож, которым принялся исписывать мою иссохшую и немного шершавую кожу. С каждым сделанным разрезом на полотне моего безобразного лица я очищался от прожилок гнетущего прошлого. Тягучая кровь стекала на мою жилистую чешуйчатую шею, как проточная вода из сломанного крана в советской хрущёвке. Я достал белоснежное махровое полотенце с запахом марсельской лаванды, вытер израненное лицо и ушёл ждать прихода гостей правопорядка. Мои мысли были похожи на пыльную аравийскую пустыню, единственным цветущим оазисом в которой была Мелек. От эмоционального истощения я бесконтрольно уснул, а проснувшись лишь утром, осознал, что Мелек решила наказать меня не тюрьмой, а совестью, которая будто не переставала выскабливать изнутри все клапаны сердца. Перед вылетом в Москву я отправился в собор Святой Софии, превратившийся недавно в действующую мечеть. Пару месяцев назад состоялся первый с 1934 года намаз, потому что президент Турции Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Христианские фрески были прикрыты, и когда-то великий музей, символ золотого века Византии, стал местом силы мусульман. Я смотрел на алебастровые эллинистические урны, величественный купол, украшенный цитатами из Корана, мраморный резной минбар и бронзовые подсвечники михраба. В Айя-Софии мне было всегда так спокойно и благодушно, что я не хотел уходить оттуда. Что держало меня? Христианское прошлое или богослужения мусульман в настоящем? Я знал лишь то, что это место было единственным, с чем я желал попрощаться, улетая из Стамбула. Из купленного недавно дома я не забрал ничего: ни носков, ни фарфоровых чашек, ни израильских специй тех торгующих на рынке детей, ни Мелек.
Будь я ей, не прошло бы и пары минут после прочтения того письма, как полиция арестовывала бы убийцу моего брата. Но утончённость, изящно переливающаяся в благородство, не позволяла Мелек такую презренную низость, как месть.
В два часа дня я со стыдливой покорностью ждал посадки на самолёт в аэропорте Стамбула, пребывая в надежде, что за мной вот-вот приедет полиция, и я останусь существовать рядышком с Мелек. Но никого не было, ведь никчёмная дрожащая тварь не нужна даже накачанному тюремному надзирателю, от которого воняет трёхдневной кашей.
В салоне запылённого самолёта все оборачивались на мое изувеченное боцманским ножом лицо. Девочка в запачканном жирным цыплёнком белом платье показала на меня своим кривым пальцем, громко шепнув своей толстой мамаше с мокрыми подмышками и неровной изогнутой чёлкой слово «урод». Прилетев спустя несколько часов в Москву, по которой я изредка тосковал, меня сразу же закружил вихрь русских многозначных глаголов, от которых я отвык почти за два года жизни за рубежом. Выйдя из аэропорта, я случайно встретил своих университетских друзей, Елисея и Тамару, с которыми я по средам пил текилу в баре на Патриарших прудах, а по пятницам участвовал в историко-научных играх института. Губы Тамары, как всегда, были накрашены жирной алой помадой, которая спустя несколько часов её непрекращающегося потока болтовни лениво скатывалась. В отличие от высокого худощавого Елисея, который отнюдь не изменился, Тамара подстриглась, пополнела и перекрасилась в пепельную блондинку. Она была метиской: наполовину русская, наполовину мегрелка. Родилась Тамара в Грузии, но, несмотря на то, что переехала с родителями в Москву в раннем возрасте, Тамро, как все её ласково называли, сохранила миленький южный акцент и характер неуправляемого, но стойкого джигита. Елисея же воспитывала одна мать, зацикленная на строительстве своей фармацевтической бизнес-империи, и возможно, поэтому Елисей, которому мы придумали на первом курсе кличку Лис, был слегка женственным и манерным. Тогда в аэропорте из-за искромсанного в психозе лица они меня не узнали, продолжив ждать чемоданы. Мне хотелось тайком исчезнуть, но в тот момент я вдруг вспомнил ночные гонки на машинах по Кутузовскому проспекту с вечно подрезающей меня Тамро и культурные походы в чеховский МХТ с Лисом. Выключив разум и на несколько секунд забыв про режущую внутри боль, я во всё горло и без стеснения крикнул: «Тамро, Лис, это я, Пашка».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!