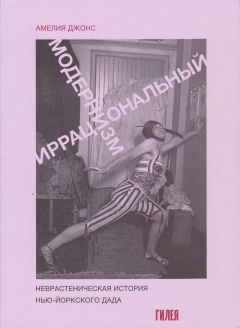
Автор книги: Амелия Джонс
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Неопределённость Мана Рэя
В августе [1914 года] в Европе разразилась война. Мы поняли, что с намеченным отъездом за границу придётся повременить… На Уолл-стрит царил небывалый ажиотаж, спекулянты за день сколачивали состояние… Словно какой-то грандиозный праздник [в городе]: все преимущества войны и никаких невзгод.
Вечером по дороге домой… мне стало тоскливо… Я всё думал: можно же как-то уберечься от этих бед, которые навлекло на себя человечество.
Ман Рэй, 196399
Насколько нам известно, Ман Рэй никогда прямо и открыто не рассуждал об участии в войне, хотя очевидно (по понятным причинам), уклонение было для него основным методом борьбы с военной угрозой, нависшей над международным сообществом и, в частности, над Нью-Йорком. Как и для многих американцев, война для Мана Рэя – вплоть до введения всеобщей воинской повинности в мае 1917 года – была скорее каким-то досадным обстоятельством, нежели реальным источником опасности: процитированный выше краткий отрывок из его автобиографии – едва ли не единственный случай, когда он напрямую говорит о хаосе, охватившем Европу (и судя по всему, ничего, кроме неудобства, он в этом не видит). Война здесь упоминается в основном как контекст для его «пророческой» картины, на которой изображены люди и лошади в некоей ритуальной процессии и для которой он впоследствии, реагируя на военную ситуацию, придумал название «Война» (“A.D.MCMXIV”)100.
Однако, по словам Фрэнсиса Науманна, Нэнси Ринг и Аллана Энтлиффа, война была для Мана Рэя всё же весьма тяжёлым психологическим переживанием, о чём в более поздних описаниях этого периода он предпочитал не распространяться. В частности, и Науманн, и Энтлифф утверждают, что Ман Рэй первоначально утвердил собственное «я» – или, можно сказать, разыграл собственную авангардную маскулинность, – сблизившись с анархистами. Он занимался рисованием с натуры в нью-йоркском центре Феррер, в “Modern School”, где собирались такие радикальные активисты, как Эмма Голдман и Эптон Синклер. Роберт Генри и Джордж Беллоуз преподавали там крайне радикализированный вариант художественного модернизма, и там же Ман Рэй впервые соприкоснулся с новым направлением авангарда, где на первый план выходил индивидуалистический материализм, унаследованный от анархистских теорий Макса Штирнера и других видных европейских политологов101.
Так, Энтлифф весьма аргументированно доказывает, что анархизм – с подачи Мана Рэя – повлиял на одну из форм дадаистских практик102. Действительно, анархистская и авангардная идеология очень удачно переплелись с деятельностью нью-йоркских дадаистов. Для Мана Рэя, который неизвестно каким образом уклонялся от призыва103, эта связь с анархизмом и брак с уроженкой Бельгии анархисткой Адон Лакруа (её родители оказались отрезанными от внешнего мира и из-за войны не могли выбраться из Бельгии) стали необходимой подготовкой к идейной синхронизации с французскими собратьями по цеху, избегавшими отправки на фронт. Незадолго до этого Лакруа развелась с другом Мана Рэя Адольфом Вольффом, который регулярно бывал в центре Феррер, участвовал во многих анархистских демонстрациях (за что был арестован и помещён под стражу) и сотрудничал с социалистическим журналом “The International”104. В 1913 году вместе с несколькими членами анархистской группировки, созданной в центре Феррер, Ман Рэй уехал в Риджфилд, Нью-Джерси, и вскоре женился на Лакруа. В 1915 году один из риджфилдских интеллектуалов, поэт и журналист Альфред Креймборг опубликовал эмоциональное антивоенное стихотворение Лакруа с простым названием «Война», дополнив им статью в “Morning Telegraph”. В строках Лакруа звучит гневное осуждение военных националистических ловушек105.
И всё же, несмотря на анархистские позиции, политическая активность Мана Рэя ограничивалась его приверженностью к типично американской модели индивидуализма и разительно отличалась, например, от крайне политизированных эстетических взглядов берлинских дадаистов. Как сам он говорил в более позднем интервью, в США тогда важно было только то, «сколько шумихи ты наделал и сколько денег тебе удалось заработать… Никакого эстетического движения, в общем-то, и не существовало; каждый был сам за себя. Никаких идей. Когда я приехал в Париж и там вдруг обнаружил дадаизм, то увидел ребят, у которых был какой-то настоящий идеал, и ради него они все и работали. Ярость, энтузиазм, убеждённость, каких в Америке я в жизни не видел, – разве что у анархистов, но те-то были своего рода маньяками. А мне нравилось общаться с маньяками»106. Если в Цюрихе дадаизм казался оазисом спокойствия по сравнению с кровопролитным пропагандистским «вулканом», который, по словам Рихарда Хюльзенбека (см. цитату в эпиграфе к этой главе), клокотал в Берлине, то Америка и подавно оставалась в стороне.
Учитывая связь Мана Рэя с анархистами и его отношения с женщиной, для которой война стала личным потрясением, неудивительно, что на одном из рисунков он изобразил войну как последствие перегибов капитализма и национализма. В 1914 году сентябрьский выпуск радикального журнала Эммы Голдман “Mother Earth” был снабжён откровенно антивоенной обложкой с рисунком Мана Рэя, на котором полосатые силуэты (политических?) заключённых сливаются с полосами американского флага. Звёзды на флаге превратились в осколки снарядов, разрывающихся над головами солдат, которые исступлённо колют друг друга штыками (илл. 11). Как ни странно (ведь Ман Рэй был евреем), на верхней части флага он решил разместить фигуру распятого Христа – скорее всего, в знак осуждения лицемерных христианских принципов братства, а не ради идеализированной отсылки к искупительной силе христианских ценностей107.
В компании анархистов Ман Рэй мог держаться на удобном расстоянии от военной истерии, оправдывая своё нежелание идти на фронт (или уклонение от призыва) формальными политическими убеждениями. Однако следует отметить, что другие анархисты, как, например, Джордж Беллоуз, несмотря на своё открытое неприятие самой идеи войны, пытались записаться добровольцами в армию108. Здесь, как и в ситуации с Дюшаном в Париже, мужские качества Мана Рэя приобрели, надо полагать, некоторую неполноценность в глазах общественности и средств массовой информации, которые в те годы обосновывали и тиражировали концепцию мужского героизма. Ман Рэй был не в состоянии помочь Лакруа, не находившей себе места от беспокойства за родителей, и это стало одним из его сильнейших военных переживаний, укрепив его в позиции вынужденного бездействия по отношению к событиям в мире. К 1915 году Ман Рэй уже был знаком с Дюшаном, и постепенно невозмутимость этого представителя гламурного европейского авангарда передалась американскому художнику, оттеснив его интерес к анархизму.
Как видно на примере личных историй Дюшана, Пикабиа и Мана Рэя, отношение к войне среди мужчин, составлявших ядро нью-йоркской дадаистской группы, было менее однозначным и гораздо более серьёзным, чем принято полагать. Их произведения едва ли можно назвать прямым откликом на войну – по сравнению с творчеством художников, сражавшихся на фронте или работавших в эти годы в Европе, как, скажем, немецкие дадаисты (а ведь среди последних были и участники сражений) – однако противоречия, затронувшие маскулинность в период войны, наложили глубокий отпечаток даже на работы Мана Рэя. Стало быть, нью-йоркский дадаизм обусловлен именно такой неопределённой маскулинностью. Творчество нью-йоркских дадаистов копирует и в то же время само производит сложные модели неопределённой гендерной идентичности, обыгрывая маскулинность как дискурс, с помощью которого преобладавший в массовой идеологии эталон мужчины (столь тесно связанный с понятиями патриотизма и нации) парадоксальным образом утвердился и вместе с тем потерял чёткие очертания.
Нью-Йорк и США в состоянии войны
В войну Нью-Йорк… взвалил на себя куда больше, чем должен в этом большом деле, которое предпринял наш народ…
Тысячи и тысячи женщин сидят теперь за столами, которые прежде занимали представители противоположного пола – так самонадеянная сентенция о том, что место женщины дома, получила очередной удар под дых…
Как будто нет ничего противоестественного [в том, чтобы], пройдя от 42-ой улицы до отеля “Plaza”, выхватить взглядом из толпы с десяток разных иностранных мундиров… Первый танк, прибывший из траншей прямиком на авеню, произвёл фурор…
Никто уже не удивляется, увидев в трамвае генерала или полковника.
Артур Хепбёрн, “Vanity Fair”, декабрь 1917109
Как следует из заметки Хепбёрна, к концу 1917 года Нью-Йорк полностью захлестнула война со всеми её проявлениями (весной 1917 года Америка официально вступила в войну). Любопытно, что идейное и физическое присутствие признаков и символов войны отражалось в гендерных смещениях: добрую четверть статьи Хепбёрн посвящает новым правам женщин, привлечённых к работе в военной промышленности и заменивших мужчин, которые ушли на фронт. Л.Л. Джонс, автор следующей заметки в “Vanity Fair”, озаглавленной «Когда у руля дамы: заглянем в женское будущее», считает, что вскоре «Женщина» добьётся своего и что «речь далеко не только о политических правах… Речь обо всех аспектах общественных и личных отношений в целом»110. Военный период не только открыл международную дискуссию об американском патриотизме после вступления США в войну, но и породил пылкую общественную полемику о гендерных ролях и взаимоотношениях полов.
Можно утверждать, что отсутствие войны, а вернее, её очевидная удалённость и неосязаемость стали основной причиной, побудившей европейских художников перебраться в начале войны в Нью-Йорк. Нью-Йорк дал приют художникам-авангардистам, покинувшим родной дом, и именно здесь наметился сдвиг в изобразительном искусстве от европейской к американской гегемонии111. Однако до цветущего нью-йоркского арт-сообщества всё же доносились леденящие отголоски войны, особенно после трагедии 1915 года, когда затонул британский лайнер «Лузитания», на борту которого находилось 128 американских пассажиров. А решительные перемены произошли после вступления США в войну и принятия «Закона о шпионаже» (который запрещал любые антивоенные действия), утверждённого в июне 1917 года. Теперь война была повсюду: на нью-йоркских улицах (где толпами ходили солдаты, почти каждый день устраивались парады112, а иногда даже демонстративно грохотал какой-нибудь танк), у вербовочных пунктов и на многочисленных ярких агитплакатах, в салонах и в малотиражных изданиях, а также в газетах и таких популярных журналах, как “Vanity Fair”. Самым вопиющим явлением были плакаты: на одном из них над лозунгом «Отобъём фрицев Облигациями свободы» нависает зловещий чёрный монстр со штыком в окровавленных руках; на другом, ещё менее изящном вербовочном плакате американской армии изображена исходящая слюнями горилла в немецком военном шлеме, с кровью на лапах и с дубинкой, на которой высечено слово «Kultur» [7]7
Культура (нем.).
[Закрыть]. На плече у зверя лежит без чувств полуобнажённая белая женщина, а подпись гласит: «Прибей Эту Дикую Тварь ⁄ Запишись в Армию США» (илл. 12)113. Кроме того, в центре Юнион-сквер для рекламы вербовочного пункта была установлена гигантская полномасштабная копия боевого судна «Рекрут».
Мало того, что разговоры о войне всё сильнее накаляли атмосферу, ещё и отношение к иностранным гражданам (и особенно к выходцам из Германии вроде баронессы) становилось всё более настороженным по мере того, как американский патриотизм побеждал здравый смысл и терпимость (те, кто считал себя «стопроцентными поборниками американских ценностей», пошли, по словам историка Джона Хайэма, «в лобовую атаку на заграничное влияние, которому подвергался американский образ жизни»)114. (Надо ли говорить, до чего знакомыми кажутся нам такие перегибы теперь, после атаки на башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, когда Америка вновь скатилась к ксенофобии и ограничению гражданских свобод).
В годы Первой мировой войны малоимущие иммигранты, как водится, больше остальных подвергались откровенным притеснениям, а на всех немцев, цитируя слова историка Дэвида М. Кеннеди, без разбора «обрушилась слепая ненависть, почти не знающая границ»115. Неудивительно, что в тот период баронессу арестовали и на некоторое время заключили под стражу. В одночасье, сразу после вступления США в войну американская культура полностью мобилизовалась. И если в “The Masses” всё ещё звучали антивоенные призывы (взять хотя бы лаконичную карикатуру на которой изображён безголовый солдат, а подпись гласит: «Врач на призывном медосмотре: “Наконец-то идеальный солдат!”»), то к 1917 году социалисты и прочие бывшие радикалы встали на сторону вильсоновского правительства, направив все усилия на поддержку военных действий116.
“Vanity Fair”, главный редактор которого Фрэнк Крауниншилд, как известно, периодически появлялся у Аренсбергов и в других авангардных салонах, представляет собой любопытный пример с точки зрения позиций, определившихся в нью-йоркской популярной прессе, хотя, заметим, случай “Vanity Fair” всё же не совсем типичен для массовых изданий, поскольку журнал был рассчитан на весьма элитарную аудиторию117. В сентябре 1914 года (а война началась в августе) на страницах “Vanity Fair” пестрели портреты лидеров «притесняемых» государств и игривые статьи об «Осенней моде в зоне боевых действий на Балканах». Каждый последующий номер заполнялся всевозможными заметками, обзорами модных коллекций и историями о жизни знаменитостей, так или иначе связанными с войной (а также статьями о феминизме и – цитируя выражение колумниста Бержере – об «эволюционном пути женщин ко всё более зрелому уму и сердцу»)118. Начиная с 1915 года Фредерик Джеймс Грегг много писал о войне и о проблемах феминизма, а в 1916 году Марсель Прево опубликовал заметку о художниках, вовлечённых в военную деятельность119.
После вступления США в войну в апреле 1917 года редакция журнала с растущим воодушевлением описывала и создавала новые сочетания искусства и войны, перемежая их феминистическими эссе, что лишь демонстрировало то смешение понятий, о котором я здесь говорила. В коммерческих публикациях на страницах журнала (и особенно в выпусках за 1917 и 1918 годы) для рекламы различных товаров – от подписки на “McClure’s Magazine” и до шин марки “Fisk” или столовых приборов “Gorham” – постоянно использовался образ героического солдата, а для оформления обложки зачастую подбирались рисунки на военную тему120. К марту 1918 года журнал окончательно утвердился в пропагандистской роли: на титульном листе рядом с оглавлением появилась вербовочная афиша ВМС США, на которой была изображена группа призывно машущих военных под лозунгом «Все заодно!», и тут же следовал крупный заголовок: «VANITY FAIR ⁄ Каждый Выпуск Поднимает Боевой Дух Нации» (илл. 13). Тот факт, что публикации “Vanity Fair”, освещавшие военные события, сменили тон с насмешливо-отстранённого на взвинченно-патриотичный, свидетельствует о стремительном и полномасштабном переходе страны от изоляционизма к шовинистской воинственности.
Проблемы, затрагиваемые в “Vanity Fair”, а также довольно упрощенческие взгляды редакции на военные действия находили определённый отклик в небольших изданиях авангардистских групп, хотя для них было всё же характерно более язвительное (а в случае дадаистских журналов более образное и эксцентричное) отображение войны. Просуществовавший недолгое время авангардный литературный журнал “Rogue” регулярно печатал колонки и рисунки на военную тему и с игривой интонацией, невообразимой в тогдашних европейских изданиях, сообщал читателям, что «после ROGUE важнее всего война»121.
Даже у завсегдатаев художественных салонов взгляды на войну не очень-то совпадали. Помимо художников-эмигрантов, пытавшихся уклониться от призыва, у Аренсбергов, где нередко появлялась наша троица, бывал также именитый специалист по военным неврозам, директор американского военного психоневрологического училища доктор Элмер Эрнест Саузард. Неизвестно, обсуждал ли он губительные для солдат психологические последствия войны с тамошними художниками и писателями, но, учитывая, что художники эти ничего общего с войной иметь не хотели, он, скорее всего, помалкивал и ограничивался толкованием их сновидений122. Любопытно, что Дюшан весьма придирчиво отзывается о Саузарде в письме к Луизе Аренсберг от 7 января 1918 года: «Передаю привет доктору Саузарду и приношу ему свои извинения за то, что так и не истрепал его мундир»123. Очевидно, Дюшан здесь иронизирует над тем, что не смог стать образцовым объектом психиатрического исследования для доктора Саузарда, который, надо думать, ходил в мундире военного врача. Впрочем, это упоминание мундира также отсылает нас к тому факту, что и сам Дюшан военной униформы не носил (и, продолжая логическую цепочку, именно этот факт не позволял ему стать пациентом у специалиста по военным неврозам).
Гэммел, автор недавно вышедшего биографического исследования о баронессе, которое содержит, пожалуй, самое подробное на сегодняшний день и самое красочное описание нью-йоркской салонной жизни, считает, что художники, собиравшиеся у Аренсбергов, а также часто бывавшие в “291 Gallery” и в других авангардистских заведениях той поры, по сути спасались от войны, «притупляя сознание сексом, алкоголем и пейотлем». Наглядными примерами тому становятся Дюшан с его безудержным пьянством, Пикабиа с лихачеством в жизни и за рулём и Мэйбл Додж со скандальной пейотлевой вечеринкой в самом начале войны124. Я же полагаю, что такое необузданное поведение художников-мужчин объясняется их попыткой освободиться от диктата войны – диктата, который строился на рассуждениях об истинной мужественности, напрямую связанных с националистической идеологией.
Важно подчеркнуть, что я ни коим образом не осуждаю этих мужчин за желание убежать от войны – об этом и речи нет (иначе бы получилось, будто я попросту подыгрываю патриотическим теориям того периода, который пытаюсь осмыслить). У мужчин были совершенно веские основания для того, чтобы любой ценой оградить себя от болезненного психического давления, источником которого стали рассуждения о национализме и истинной мужественности, – и уж тем более спастись от кровавой смерти, ожидавшей их на фронте. Но я хочу отметить, что в упорных попытках уберечься от этих бед им всё же не удалось полностью сохранить своё мужское «я». Более того, в оставшейся части главы я обрисую обстоятельства, при которых их маскулинность вообще перестала восприниматься как нечто целостное. Как говорит Эндрюс в приведённом выше отрывке из романа Дос Пассоса, «а те, которые не овцы [и не хотят воевать]? Они становятся дезертирами; дуло каждого ружья несёт им смерть; они не проживут долго». И хотя по отношению к этим художникам в предсказании Эндрюса видится излишний мелодраматизм, его яростная убеждённость свидетельствует о том, насколько серьёзными были последствия психического и социального давления, которое в годы войны испытывали на себе европейские и американские мужчины.
Изображая маскулинность
То время, что я задыхался в тисках милитаризма, стало для меня периодом постоянного сопротивления, и я знаю, я не совершил ни одного поступка, который бы не вызывал у меня чувства полнейшего омерзения.
Георг Гроссв письме к Роберту Беллу после демобилизации, сентябрь 1915
Больше всего тяготит груз войны и повсеместного верхоглядства. Прямо какой-то кровавый карнавал… Веемы будто превратились в тех самых кокоток с моих картин.
Эрнст Кирхнер,отслуживший на фронте и демобилизованный из-за неврастении, 1916125
Пожалуй, картины иллюстрируют контраст между военной и тыловой маскулинностью нагляднее, чем слова. Две работы 1915 года демонстрируют разные реакции на удары, сразившие мужское «я» в Первую мировую войну: «Автопортрет в солдатской форме» Эрнста Людвига Кирхнера передаёт потрясение, которое переживает новобранец (илл. 14), а «Девочка, рождённая без матери» Франсиса Пикабиа – это более аллегоричный образ маскулинности, которую дискредитирует отказ от участия в военных действиях (илл. 16)126. Эти картины отображают и даже подчёркивают некое принципиальное различие между мужчиной, который пошёл воевать, и мужчиной, который остался в тылу, хотя каждый из них по-своему ощущал неврастенический надлом маскулинности.
Солдат Кирхнера – это, по всей видимости, автопортрет, хотя сам Кирхнер не получил на войне никаких телесных ранений. Злоупотребляя спиртным и ведя «беспорядочный» образ жизни (точь-в-точь как Пикабиа), Кирхнер довёл себя до нервного истощения и частых панических атак. Затем, в июле 1915 года он записался добровольцем на военную службу, поступив водителем в артиллерийские войска, а в октябре 1915 года пережил нервный срыв. Наконец, трижды побывав в лечебнице, Кирхнер был демобилизован и в 1917 году переехал в Швейцарию127. Очевидно, армейские тяготы послужили столь же вероятной причиной его нервного срыва, как и собственно страх смерти (ведь Кирхнер, служивший водителем санитарной машины, непосредственного участия в сражениях не принимал). Эту же точку зрения обосновывает и Бриджид Доэрти. Рассуждая о соотечественниках Кирхнера, немецких дадаистах Георге Гроссе и Джоне Хартфилде, она утверждает, что их сломило не участие в боевых действиях, а «подневольное положение» – ещё до того, как они попали в окопы. Доэрти цитирует слова, которые сказал брат Хартфилда Виланд Херцфельде: «Едва ли не страшнее мысли о смерти или о тяжком увечье была прусская казарменная муштра»128. Как явствует из романа Дос Пассоса, демаскулинизация на почве подчинения военному руководству (особенно в самом жёстком, то есть прусском варианте) произвела на этих немецких художников разрушительное действие.
На переднем плане картины изображён Кирхнер в военном мундире, его правая рука тянется вверх, из свежей раны на месте отрубленной кисти сочится кровь, поднятая левая рука похожа на клешню. Сигарета свисает с искривлённых губ, кровь капает с изувеченной правой руки – кастрация Кирхнера болезненно выставлена напоказ как символ полового и художественного бессилия, которое акцентируют детали на заднем плане: кроваво-красная картина и андрогинная обнажённая женщина с такой же грубо выписанной, желтушной кожей, как и та, что обтягивает худое, безучастное лицо солдата129.
О своём страхе перед повторной отправкой на фронт Кирхнер писал в декабре 1915 года (по-видимому, ещё до того, как он был комиссован): «Новый призыв из запаса висит на хвосте, а ведь кто знает, когда меня снова туда упекут – так, что и работать уже невозможно, трясёшься хуже уличной девки»130. Ничего нет ужаснее – и даже сексуально активная женщина, торгующая своим телом на открытом рынке, не выдерживает сравнения, – чем траншейная война (или же, надо полагать, ничто так сокрушительно не действует на европейскую маскулинность). А мы помним, что, по мнению Кирхнера (как следует из его высказывания 1916 года, выведенного в эпиграф к этому разделу), траншейная война превращает мужчин в «кокоток»131. Поневоле представляя себе собственную смерть, Кирхнер будто наблюдает за собой со стороны и в ужасе видит, как его мужское «я» растворяется в неврастеническом потоке кастрационной тревоги, и это лишь подтверждает мысль, которую Фрейд сформулировал в 1915 году, выразив своё отношение к войне: «Действительно, невозможно представить себе собственную смерть; когда мы пытаемся это сделать, мы обнаруживаем, что всё ещё присутствуем при этом как зрители»132.
В работе Пикабиа «Девочка, рождённая без матери» настроение и гендерные соотношения совершенно другие. Как уже говорилось, в апреле 1915 года Пикабиа уехал из Франции с военной миссией. В Нью-Йорке он встретился с Дюшаном и другими участниками активно развивавшегося авангардного движения, да так там и остался. Нью-Йорк подкупал не только тем, что сохранял нейтралитет (формально, до середины 1917 года), но и тем, что казался бесконечно далёким от пагубных физических и психических проявлений войны.
В стихотворении «Большие девочки и великие мужи у Аренсбергов», описывающем тогдашнюю салонную жизнь города, сам Пикабиа утверждает, что без солдат нью-йоркский авангард приобретал своеобразную «чистоту», путь к которой лежал через избавление от стресса и «загадки»:
Приятно лицезреть
Больших эксцентричных девочек
Приятно лицезреть Шахматистов
Приятно лицезреть
Танцоров
В мастерской у моих друзей
Нет загадки
В мастерской у моих друзей
Нет солдат
В мастерской у моих друзей
Все глаза чисты133.
Стало быть, «Девочка, рождённая без матери» Пикабиа возникла из среды, которая не имела ничего общего с климатом Европы, истерзанной войной. Она создана «без матери», рукой мужчины, отказавшегося участвовать в войне, она произведена на свет в теплице богемного сообщества (салона Аренсбергов), где однозначно «нет солдат». Перед нами неопределённый механический мотив, рисунок пером со штриховками и ломаными пружинами, выступающими, как некие проекции гениталий, однако это скорее жестовый набросок, чем точный технический чертёж, машина, которая не может работать. С такой дисфункциональной конфигурацией пружин ⁄пениса она оказывается мужской особью – кастрированной и к тому же лишённой матери134. По сути, «Девочка» напрямую отражает сломленное мужское «я» Пикабиа. Рисунок был напечатан в одноимённом сборнике стихотворений Пикабиа, вышедшем в свет и поступившем в продажу в 1918 году Издание открывалось посвящением американским, французским и швейцарским врачам, которые вылечили его от неврастении (или по крайней мере улучшили его состояние)135.
И Пикабиа, и Кирхнер страдали от неврастении, до которой они отчасти довели себя самостоятельно, однако в условиях войны болезнь обострилась. Существовало ли какое-то внутреннее противоречие, заставлявшее их лечить душу алкоголем и⁄ или гоняться за юбками до полного нервного истощения, мы никогда не узнаем – впрочем, они и сами, скорее всего, не понимали, в чём дело. Но если взглянуть на этот вопрос через предложенную мной оптику, сложно удержаться от мысли, что и Пикабиа, и Кирхнер пытались ужиться с той маскулинностью, которой они нанесли мощный удар, отказавшись участвовать в войне. Должно быть, спиртное и наркотики помогали приглушить сомнения и страдания, возникавшие из-за категорического несоответствия между поведением этих людей (их самоидентификацией?) и установленными в обществе стандартами маскулинности. Разумеется, отторжение, которое вызывала у них всеобщая солидарность в определении этих стандартов, могло также послужить поводом для поведения, обостряющего проявления неврастении. Как свидетельствуют высказывания Кирхнера, мужчина с неопределённой гендерной идентификацией – будь он солдатом или гражданским – скатывался до положения проститутки (с которой сравнивали его окружающие или с которой он отождествлял себя сам).
Опасность для мужского «я» представляло собой не только то, что предположительно содержалось в женском теле. Угроза телесных повреждений в ходе траншейной войны, риск проникновения в фаллическое тело, которое польётся и вытечет, – это одно дело (и такой образ ещё хоть как-то укладывался в нормативы маскулинности через многократно перепеваемый мотив «мужской дружбы»), другое же дело – феминизация мужчин-некомбатантов. И человек, отказавшийся сражаться вместе с остальными (или против остальных), и – как ни странно – уклонист, и некомбатант-неврастеник, и даже (как в случае Пикабиа) новобранец, ушедший в самоволку, – все они оказываются в щекотливом положении по отношению к другим «пригодным» мужчинам. Кто знает, быть может, Пикабиа со своим донжуанством подсознательно стремился раствориться в чём-то чужеродном (примеряя на себя роль женщины в глубоком тылу, – в отличие от Кирхнера, тщетно пытавшегося себя этому образу противопоставить)136. Тот факт, что маскулинность, которую Кирхнер и Пикабиа старались освоить, обойти стороной и/или воспроизвести, имеет исключительно гетеросексуальный характер, говорит вовсе не об отсутствии гомосоциальных связей и столкновений между мужчинами, а о застарелой гетеронормативности, определявшей их гендерное мировоззрение (а значит, и их самовосприятие и самосоздание).
Следовательно, страхи, порождённые гендерными сдвигами в условиях войны, проецировались далеко не только на женщин с ненасытным сексуальным аппетитом, они касались и разного рода соблазнов, возникавших при вынужденном тесном общении с другими мужчинами – будь то в армии (как уже говорилось ранее в связи с психоаналитической трактовкой неврастении) или же в нейтральной на тот момент стране с её бурной салонной жизнью и вечеринками, куда стягивались мужчины-эмигранты, не ушедшие на фронт и обладавшие неопределёнными маскулинными качествами, а также многочисленные оставшиеся в тылу женщины137. Другая работа Кирхнера, картина 1915 года под названием «Артиллеристы» (илл. 15) вполне наглядно отображает эти страхи (и лежащее в их основе гомосексуальное влечение). После Второй мировой войны эта картина стала вызывать такие навязчивые ассоциации, о которых Кирхнер и не догадывался (душевые установки нацистских смертоносных газовых камер появились лишь несколько десятилетий спустя). Группа худощавых голых юношей (они похожи на подростков с неестественно большими, но вялыми половыми органами) моется под общим душем, а сбоку неподвижно стоит чопорный караульный в полном офицерском облачении. Лица у них невыразительные, раздетые юноши кажутся уязвимыми и безропотными, их истощённые, вытянутые тела повторяют очертания трубы массивного раскалённого котла, возвышающегося на переднем плане138.
Здесь или на предположительном автопортрете Кирхнер примеряет на себя (фаллический и феминизированный/гомоэротичный) образ мужчины-солдата, и это в некотором смысле сравнимо с тем, как Пикабиа отождествляет себя с «Девочкой». Кастрированная девочка, её нескладность и невозможное анатомическое строение как бы иллюстрирует телесную ущербность мужчины, который остался в тылу и сам довёл себя до неврастении: оба они – существа с дефективной, откровенно изломанной сексуальностью. В ранее приведённом стихотворении Пикабиа бьётся о стену женского лона, одновременно становясь этим женским лоном, и точно так же в «Девочке» можно увидеть своего рода автопортрет. Ведь по сути – если говорить на языке маскулинной идеологии военных лет – Пикабиа и был кастрированным (оставшимся в тылу) мужчиной. С этой точки зрения истории Кирхнера и Пикабиа похожи, поскольку оба художника выплёскивали своё бессилие и подавленную ярость через неврастеническое поведение, создавая безжалостно оскоплённые, перегруженные сексуальными ассоциациями визуальные образы, которые можно рассматривать как некие попытки справиться с собственной ущербной маскулинностью. Оба воспринимают себя как кастрированных особей мужского пола и⁄или как проституток/девочек, не знавших своих матерей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































