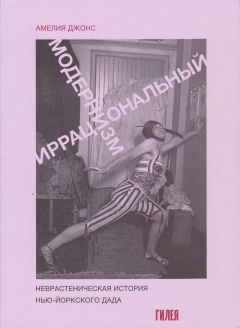
Автор книги: Амелия Джонс
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Тут важна хронология событий, связанных с нервным срывом Пикабиа: он заболел в феврале 1918 года, когда ехал в Швейцарию, собираясь получить консультацию у невролога и поправить здоровье в Гштаде. В апреле того же года он публикует сборник стихов под названием «Девочка, рождённая без матери». В августе он завершает лечение в Беньене и получает письмо от Тристана Тцара – румынского поэта, которому предстояло возглавить французский дадаизм139. В ноябре заканчивается война. Маскулинность Пикабиа, подточенная бесконтрольными вспышками неврастении, которые он по большей части сам и провоцировал, медленно, но верно переключилась на некий обратный авангардизм. Есть определённая ирония в том, что, познакомившись с одним из инициаторов «официального» европейского дадаизма, он принялся рисовать фантастические картины, полные романтики и сентиментальности. Жёсткие фигуры механоморфных женщин исчезли из его работ вместе с неврастенией, а неврастения исчезла вместе с его дадаизмом140. Первая мировая война обуздала под конец и то, и другое.
Культура ранения
Жегу умер чудовищной смертью. Он подходил к блиндажу, когда разорвался снаряд… Ему сожгло лицо, один осколок вошёл в череп за ухом, другой раскроил ему живот и сломал позвоночник, и из этого кровавого месива вываливался наружу спинной мозг. Правую ногу размозжило выше колена. Ужаснее всего было то, что он прожил ещё четыре или пять минут.
Шарль Дельвер, 1916
Великая война нанесла удар по мужскому достоинству нескольких поколений немецких мужчин, попав в самое чувствительное место… Их самолюбие [получило] ранение первой степени.
Клаус Тевелейт, 1978
Говоря о мужском теле в годы Великой войны, важней всего понимать, что его полагалось изувечить.
Джоанна Бурк, 1996141
Пользуясь довольно общей исторической терминологией, Марк Сельтцер очень точно описал «культуру ранения», сформировавшуюся на фоне радикальных перемен и резких сдвигов, в результате которых сместились границы между общественным и частным, а личные травмы превратились во всенародное зрелище («всеобщий интерес к искорёженным, растерзанным телам и искорёженным, растерзанным людям, массовое сборище вокруг шока, травмы и ранений… Ранение оказывается на пересечении между частным и общественным»)142. В основном Сельтцер применяет свою модель к таким футуристическим остросюжетным произведениям, как изданный в 1973 году роман Дж. Г. Балларда «Автокатастрофа», или же к телевизионным ток-шоу в жанре исповеди, которые появились на заре XXI века. Однако эту концепцию он распространяет и на события прошлого, рассматривая теории модернистской эпохи как потрясения начала XX века и обращаясь к ещё более ранним травматическим эпизодам, например, к истории Гражданской войны в США. Увы, в своих исследованиях он не касается гендерных характеристик того следа, который травма оставляет на человеческом теле и в общественном пространстве, но его рассуждения о травме – представляющей собой «радикальный разлом в определении субъекта изнутри или извне: субъекта самоопределяющегося или определяемого через события; субъекта как причины или как следствия; субъекта как активного создателя репрезентаций или же как их порождения» – безусловно, можно считать провокационными с точки зрения художественного восприятия Первой мировой войны и изучаемых мной структур маскулинности.
По существу, как утверждает Сельтцер, культура ранения в первую очередь разрушает, казалось бы, чётко установленную «дистанцию между субъектом или телом… и их репрезентацией»143. В результате тяжелейших физических и/или психических травм, которые в ходе Первой мировой войны получило мужское тело (причём, как мы уже видели, это относилось и к тем, кто на фронте не служил и в боях не участвовал), оно само превращается в репрезентацию ранений. А учитывая, что нью-йоркские дадаисты одержимо воспроизводили образ женского механоморфного тела, то подобный перелом приводит к любопытным последствиям. Например, если – как я предположила ранее – в «Девочке, рождённой без матери» кастрированная фигура девочки и есть в каком-то смысле сам Пикабиа, то это объясняет специфику её увечья, характерного для кастрированного мужчины.
Продолжая мысль, сформулированную в 1991 году в примечательной диссертации Нэнси Ринг, Кэролайн Джонс приводит весьма веские доводы в пользу того, что все женские механизированные образы, которые Пикабиа создавал в этот период (а почти все они именно женские), отражают мужские страхи в отношении роста промышленного капитализма, установления господства машин и появления Новых женщин, олицетворявших либерализацию гендерных ролей. По словам Джонс, изображения машин у Пикабиа – это проекции «мужской истерии вокруг “femme nouvelle”[8]8
новая женщина (фр.).
[Закрыть], а применительно к самому Пикабиа – попытки гендерной самоидентификации, вылившиеся в неврастению»144.
Эта концепция звучит убедительно, и конечно же, она задаёт направление моим оценкам, подтверждая мои выводы о взаимосвязи между «Девочкой» и искалеченностью Пикабиа. Однако я пытаюсь сделать упор на аспект, которому Джонс не уделяет должного внимания (а именно – на разрушительный для психики контекст Первой мировой войны). И вместе с тем, обращаясь к идеям Сельтцера, я хочу подчеркнуть, что этот образ – вовсе не (или не только) отражение страхов, а визуальная реализация неопределённой маскулинности самого Пикабиа, и как раз такая маскулинность – то есть мужские качества призывника с неустановленным гражданством, который ушёл в самоволку и кутил в Нью-Йорке до полного нервного истощения – в каком-то смысле преобразуется в фемининность. С этой точки зрения, можно утверждать, что Пикабиа и есть та «девочка, рождённая без матери» (без страны? без конкретного объекта «подлинного» эдипова желания? а значит, и без подлинной маскулинности?).
В соответствии с теорией фетишизма, развившейся в рамках феминизма, репрезентация служит в основном средством для проекции мужских страхов художника на/в женскую фигуру, снимая, таким образом, его собственную тревожность, связанную с подсознательным ощущением неполноценности. В данной ситуации ирония заключается в том, что ломаные пружины «Девочки, рождённой без матери», слегка прерывистые изгибы и рваные линии, которые не до конца сходятся на стыках, уже характерны для Пикабиа. Нет никакой дистанции между Пикабиа и окружающими его женщинами (или другими феминизированными мужчинами-некомбатантами?). Все они, оставшись в тылу, слились воедино. Следовательно, Пикабиа не может «отстраниться» от собственной неполноценности с помощью фетишистской проекции, ведь именно в ней и через неё он и сформировался, и я полагаю, что его работы обладают такой силой и таким значением как раз потому, что они этот факт наглядно демонстрируют. И тем самым они лишь подтверждают описанную Сельтцером концепцию культуры ранения.
Изучение культуры ранения позволяет найти и другое объяснение тому, как и почему Пикабиа стал неврастеником, хотя он даже не был на передовой. Одновременно с исчезновением дистанции между объектом или телом и их репрезентацией, которое, на мой взгляд, легло в основу образа «Девочки», неврастения выступает в качестве другого – физического – симптома и выражения ощущаемого человеком бесправия и неспособности повлиять на ситуацию. И здесь имеет смысл вновь обратиться к выводам Лида и Фасселла. Описанная Лидом потеря контроля привела, по мнению Фасселла, к формированию «крайнего дуализма», при котором солдат (вроде Юнгера) пытается вернуть себе мужское достоинство, проявляя утрированную мужественность145. Тевелейт полагает, что такой демарш требует беспощадного устранения и вытеснения любых элементов, которые воспринимаются как угроза или как нечто чуждое маскулинности. Однако у Пикабиа тело доходит до неврастении именно из-за отказа от дуалистического восприятия, это тело становится пассивным вследствие его собственных действий (и в такой перспективе сам Пикабиа и есть та «больная стена женского лона», о которую он бьётся).
Решив (если здесь вообще можно говорить о сознательном решении) проигнорировать боевой клич истинной маскулинности, Пикабиа, как и Дюшан, присоединился к женщинам и прочим – пользуясь терминологией Фрейда – «дезориентированным» и «заторможенным» мужчинам, которые не воевали и оставались в тылу. Его неврастения – это свидетельство самофеминизации, проставленная на теле отметка о «ранении»; и нет такого расстояния или такой проекции, которые позволили бы Пикабиа обезопасить себя от феминизации. Перечисленные ранее симптомы неврастении – тремор, сильнейшие эмоциональные всплески, повышенная тревожность и другие «инфантильные» реакции и потребности – отображены в сумбурных штрихах и ломких пружинах «Девочки». Вот только почему-то Пикабиа становится неврастеником точно так же, как и те, кто воевал на фронте. Его неврастеническая феминизация аналогична состоянию Кирхнера, а это лишь доказывает, что в годы Первой мировой войны уйти от насаждаемых стандартов маскулинности было невозможно.
Таким образом, ранению отводится важное место в нью-йоркском дадаизме. Более того, я уже отмечала в начале этой работы, комментируя «Фонтан», что незаполненное пространство, пустое отверстие, которое предстаёт как некий символ ранения, вполне закономерно становится частым мотивом в работах этих трёх художников, сыгравших ключевую роль в нью-йоркском дада. В таком случае можно утверждать, что картина «Воины» (героический образ немецких солдат), написанная Марсденом Хартли в 1913 году, была далеко не случайно выбрана в качестве фона для «Фонтана» на знаменитой фотографии оригинального реди-мейда, которую сделал в 1917 году Альфред Стиглиц. Я полагаю, что «Фонтан» являет собой воплощение психической травмы, вакуума, который выхолостил и сломил мужское «я», и в первую очередь жертвами стали те, кто не участвовал в этой войне или страдал от военного невроза146.
Несмотря на то что во многих работах нью-йоркских дадаистов отчётливо просматриваются женские механоморфные фигуры, я скорее склонна интерпретировать их не как проекционную фетишизацию женского тела, а как определяющее зрительное воплощение неполноценной или утраченной маскулинности, которая и лежит в основе культуры ранения, пропитавшей войну (что справедливо вне зависимости от того, кто автор «Фонтана»: Дюшан или баронесса, ведь в конце концов исходным объектом был писсуар). В таком ракурсе эти работы (с их пустотами и лакунами) становятся палимпсестами или портретами их создателей. А потому я предлагаю по-новому взглянуть на ту неполноценность, которая неизменно ощущается не только в механизированных женских образах, но и в других дадаистских работах, так или иначе отсылающих к идее ранения. Я говорю о произведениях, где присутствуют тени или иные относительно прямые указания на отсутствие, о «портретах», в которых абстракция вытесняет изображение человека, и о работах, исследующих тему насилия и/или смерти.
Тени
Падающие Тени… – выполнение[9]9
Употреблённое Дюшаном слово “execution” («выполнение», «исполнение»)
[Закрыть] картины за счёт источников света.Нарисовать тени на поверхностях, просто очерчивая получившиеся реальные контуры… ⁄ всё это нужно завершить… так, чтобы установилась связь с предметом?., падающие тени, которые образуются от вспышек, направленных снизу ⁄ словно брызги воды, плетущие узоры в прозрачности.
Марсель Дюшан, ok. 1916–1920147
В заметках к знаменитому «Большому стеклу», написанных в годы Первой мировой войны, Дюшан постоянно говорит о тени. Тень для него – это «брызги воды, плетущие узоры имеет второе значение – «казнь». в прозрачности»: она где-то там, в пространстве (образует «реальные» контуры), и вместе с тем она мимолётна, почти незрима. Тень – будто тот самый необъяснимый и беспощадный мрак, преследующий человечество. Мы идём по свету, а он крадётся за нами. Это метка или же знак, притороченный к нам так плотно, что не остаётся никакого зазора для его «репрезентации».
С 1916 по 1920 год Ман Рэй и Дюшан создали ряд работ с отсылками к теням или с их изображениями: взять, к примеру, написанную Дюшаном в 1918 году картину “Tu m’”[10]10
«Ты меня» (фр.).
[Закрыть] с этими навязчивыми, приглушёнными тенями реди-мейдов и «реальной» тенью, которую отбрасывает выступающий из холста ёрш для бутылок; или же работу Мана Рэя под названием «Аэрограф», созданную в 1919 году путём распыления краски поверх фигурного предмета, который затем убирался с поверхности картины, а на его месте оставался неоднозначный отпечаток, похожий на тень. Разумеется, тень – это индексальный признак человека или предмета, однако определяющим свойством самого признака является отсутствие. «Там» ничего нет, и фактически тень обретает форму в зависимости от отсутствия освещения: её контуры образует некий объект, загораживающий свет.
Можно сказать, что в этих циклах произведений Мана Рэя и Дюшана звучит некий печальный отголосок их неопределённого положения (ведь они будто «тени» по-настоящему мужественных солдат) в обществе, которое всё больше зацикливается на войне. Тень и есть их отсутствие в луче прожектора, освещавшего в те годы воинственную маскулинность на передовой западного мифа. Не существует «приемлемой» дистанции между увечьем изображённой тени (тёмной дыры, затягивающей двухмерную поверхность в третье измерение открытого космоса) и увечьем (метафорической кастрацией), которое символизирует несостоятельность этих двух мужчин, не способных соответствовать признанным и принятым в обществе формам маскулинности.
Тень – это след, однако природа такого следа парадоксальна. С одной стороны, она «есть» – в соотношении с тем, для чего является тенью (отсюда и непременная близость к предмету или силуэту, который эту тень отбрасывает и от которого она неотделима), а с другой – она привязана к следу, что и обеспечивает возможность собственно репрезентации148. Как отмечал Жак Деррида, след повторяется для того, чтобы установить различие и тем самым задействовать режим самой репрезентации. Соответственно, тень, трактуемая как след, видна потому, что она явно отличается от предмета или силуэта, задающего её очертания, и это различие позволяет создать графическое отображение, определяющее репрезентацию. Следовательно, репрезентация – это «разворот», «возвращение», которое (как и тень) удостоверяет предполагаемое присутствие репрезентируемого объекта и в то же время обозначает его отсутствие. По словам Деррида, этот разворот «непреодолим в присутствии или в самотождественности», а «след или различие всегда старше присутствия и обеспечивает ему его открытость». Наконец, тень, можно сказать, подтверждает тот факт, что живое настоящее «всегда уже след» и «само живое настоящее изначально является следом»149. Тень иллюстрирует то, как репрезентация и идентичность связаны с репродукцией. Изобразить некий объект (по сути, создать его тень) можно, только повторив его след.
Иными словами, тени у Дюшана и Мана Рэя не только свидетельствуют о том отсутствии, которое выбивает из равновесия мужское «я», опровергая иллюзию его целостности (например, представления о героизме фронтовика), но и доказывают неизбежность конечной пустоты, устанавливающей пределы человеческого бытия, – неизбежность смерти. В этом-то и заключается весь ужас участия и неучастия в боях на передовой. Сама действительность войны изобличает двойную неполноценность, приносящую чудовищный ущерб мужчине – как индивиду мужского пола (которого оценивают по отсутствию проявлений женственности и тем самым неминуемо к ним привязывают) и как человеку, причём человеку смертному – в индустриальном модернизированном обществе и конкретно в художественных модернистских кругах. В годы Первой мировой войны мужчина воспринимается не как трансцендентное, а как имманентное, телесное существо. Поскольку поддерживать миф о мужской трансцендентности невозможно, картезианский типаж блекнет и предстаёт в некоем ущербном виде. Завеса трансцендентности, окутывавшая мужчин, разрывается, и в результате маскулинность претерпевает коренные изменения, сливаясь со смертным, имманентным образом, который традиционно считался женским150. (Как явствует из гипермаскулинных заявлений Юнгера, милитаристская риторика нацелена, собственно, на то, чтобы скрыть или опровергнуть этот разрыв.)
Стало быть, тени отображают хрупкость мужского «я», причём не только его неопределённость и зависимость от фемининности, но и последний путь мужского (как и женского) тела вглубь земной раны. Ман Рэй однажды сказал, что «тень важна не меньше, чем реальный объект»151. Наверное, она даже важнее, чем реальный объект, ведь падающая тень (репрезентация) создаёт хотя бы иллюзию бессмертия. Строго говоря, изображение (репрезентация, быть может, тень?) не умрёт.
В 1918 году Ман Рэй и Дюшан создали три фотоработы, переносящие эту утрату, которая сформировала образ человека, ещё дальше в зрительное пространство. На двойных «портретах» Мана Рэя – “Homme” («Мужчина») и “Femme” («Женщина») – мужчина и женщина предстают в виде фигур неопределённого пола, скомпонованных из механических деталей и отбрасывающих тени. «Женщиной» (другое наименование работы – «Тени») названа фигура, имеющая выраженную фаллическую форму и составленная из двух вогнутых светоотражателей, которые закреплены на стеклянной пластине с зубцами в виде бельевых прищепок (илл. 17). У каждого элемента этого мужского приспособления есть и женские свойства (вогнутые рефлекторы перекликаются с полостью «Фонтана», напоминающей утробу, и в то же время, насколько мне удалось разглядеть, в них отражается мастерская Мана Рэя; бельевые прищепки, с помощью которых в проявочной вывешивают сушить снимки, также ассоциируются с домашним хозяйством, и т. д.). Мигающие «глаза» отражателей как будто мрачно взирают на шов из прищепок, прорезающий и одновременно скрепляющий бумагу/стекло.
В столь же андрогинном «Мужчине» (одна из версий этой работы носит название «Женщина»)152 тоже явно просматриваются фаллические очертания: тень удваивает похожий на пенис венчик взбивалки для яиц, а та в свою очередь вызывает противоречивые ассоциации, связанные с работой по дому (илл. 18). Тени оставляют рубцы: в «Женщине» они вспарывают ровное серое пространство, окружающее механический объект, а в «Мужчине» тень от рукоятки пробивает в бумаге чёрную дыру – символ проникновения и в то же время отсутствия.
В интервью и в заметках к эпохальному «Большому стеклу» (как, например, в той, что приведена в начале этого раздела) Дюшан неоднократно подчёркивает значение теней в концептуальной разработке его механико-эротической схемы, отражающей принципы гетеросексуального полового акта, а также структурообразующую роль половых различий в репрезентации (схема эта чётко разделена на две несовместимые и непроницаемые области: мужскую и женскую). Искусствовед Линда Хэндерсон приводит множество документальных подтверждений тому, что в годы Первой мировой войны Дюшан и другие нью-йоркские авангардисты обращались к работам архитектора и философа Клода Брэгдона, который подробно изучил геометрические особенности теней. В книге «Основы высшего пространства» (1913) Брэгдон пишет, что «репрезентации в низшем пространстве можно трактовать как тени, которые отбрасывают формы из высшего пространства в миры низшего пространства»153.
Опираясь на эти идеи, Дюшан утверждает в своих заметках, что тень – это двухмерная проекция трёхмерной фигуры человека или предмета. Соответственно, трёхмерную фигуру человека или предмета можно воспринимать как проекцию какого-то неизвестного объекта из четвёртого измерения, как «чего-то, нам не знакомого»154. По этой логике, мы – теневые проекции чего-то, существующего вовне. И разумеется, с точки зрения Дюшана, такая проекция наделена определённой гендерной спецификой: «Невеста» или “Pendu femelle” [женская подвеска/ повешенное женское тело]155 – это «проекция», сравнимая с проекцией четырёхмерного «воображаемого существа» на наш трёхмерный мир (а применительно к плоскому стеклу – сравнимая с повторной проекцией этих трёх измерений на двухмерную плоскость)»156.
Как проекция или тень, невеста – верхняя часть «Большого стекла» Дюшана – воспроизводит ту самую неполноценность, которая определяет человеческое существование (илл. 19). Иными словами, проецированность невесты попросту иллюстрирует, символизирует тот факт, что неполноценность считается в патриархальном обществе чисто женским признаком, однако это вовсе не закрепляет за ней сугубо вторичную роль – роль всего-навсего проекции или тени какого-то неполноценного элемента, отрезанного от мужской целостности. Напротив, поскольку спроецированный в «Большом стекле» образ невесты находится в тесной взаимосвязи с холостяцкой частью, он превращается в метафору человеческой нестабильности в целом (точно так же в феминистском психоанализе женская неполноценность рассматривается как собирательная метафора для неполноценности, свойственной всем людям). В конечном счёте, если верить теориям Брэгдона и Дюшана, все мы – лишь призрачный дым и зеркала, а наши тела – такие осязаемые и живые – быть может, только тени «воображаемых существ», которых нам не суждено узнать или понять. Мы существуем – в зыбкой реальности женского, мужского или чего-то среднего – как мимолётные тени, скользящие по коже мира. Тень – это свидетельство пристального взгляда, обращённого к хрупкой, бренной телесности, а значит, и к смерти.
Кроме того, в работе над «Большим стеклом» Дюшан исследовал похожую на тень форму, представляющую собой некое «негативное (фотографическое)… проявление» объекта – точно так же, как тень представляет собой его проекцию. В «Большом стекле» самцовые формы – это мужская «группа… мундиров или полых ливрей, которым предназначено испускать/поглощать осветительный газ». Они служат каркасами для «газовых слепков», слушающих литанию «всей холостяцкой машины», которая расположена в нижней части «Большого стекла»157. Самцовые формы – это пустые оболочки, пустая униформа: возможно, как раз та униформа, которую Дюшан, оставшись в тылу, не надевал. Это выхолощенные «газовые слепки», а их непомерно раздутые, бессмысленные манёвры повторяют функции дефектного механизма невесты, размещённого в верхней части конструкции (собственно, мы уже видели, что об их выхолощенности Дюшан говорит открытым текстом: «Каждую из восьми самцовых форм прорезает воображаемая горизонтальная плоскость в тчк., именуемой половой тчк.»)158. Стало быть, тень/слепок тоже представляет собой пустую оболочку, по форме отдалённо похожую на фаллос, но при этом порожнюю и вытравленную газом, кастрированную в «половой тчк.».
Работа 1918 года под названием «Тени реди-мейдов» – фотография, на которой засняты тени от реди-мейдов на одной из стен мастерской Дюшана в доме Аренсбергов, – становится решающим высказыванием по поводу теней (показательно, что именно эти тени послужили трафаретом, по которому Дюшан в том же году рисовал тени реди-мейдов на картине “Ти т”’; илл. 20). Самый примечательный силуэт в центре композиции (автором снимка был, вероятно, Ман Рэй) – тень от не дошедшей до нас «Скульптуры для путешествий». Эту складную резиновую «скульптуру» Дюшан создал в 1918 году: «Я накупил [резиновых шапочек для плавания всевозможных расцветок], разрезал их на маленькие неровные полоски, скрепил их вместе – только не в одной плоскости – и подвесил (в воздухе) посреди мастерской, привязав бечёвками к различным гвоздям и стенам мастерской. Получилось что-то вроде разноцветной паутины»159. В августе 1918 года Дюшан забрал эту работу с собой в Буэнос-Айрес, уезжая прочь от лихорадочного общества, которое всё сильнее зацикливалось на войне.
«Скульптура для путешествий», способная принимать любую форму в зависимости от того, каким образом её концы закреплялись на стенах комнаты, была своего рода антипамятником, условно мягким (а в натянутом виде упругим) эскизом, выполненным в негативном пространстве. Это – «паутина», сеть, расставленная для жертв (мужского пола?). Её тень, запечатлённая в «Тенях реди-мейдов», усиливает синхронную линейность и отсутствие объёма, а также подчёркивает тот факт, что, в отличие от классической скульптуры, она не повторяет человеческие очертания. Тень объекта, который сам по себе выглядит как некое призрачное явление (но при этом представляет для зрителя потенциальную угрозу, преграждая ему путь), дважды отражает отсутствие – и точно так же отъезд в Буэнос-Айрес, можно сказать, удваивает отсутствие Дюшана, не воевавшего на передовой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































