Текст книги "Политико-философская концепция И. Берлина"
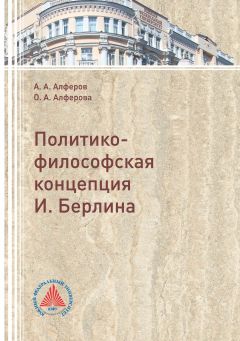
Автор книги: Анатолий Алферов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
И. Г. Гердер, немецкий философ второй половины XVIII века, на которого также указывает Берлин в связи с тезисом о плюрализме ценностей, в отличие от Вико был, в целом, лоялен к идеологии Просвещения и внес свой вклад в ее разработку. Однако ряд идей, развивавшихся им, особенно в ранний период творчества, расходится с признанием универсального общечеловеческого разума, из которого исходила просветительская идеология. К таким идеям Гердера относятся его мысли о многообразии культур, существующих у человечества, своеобразии и уникальности культур, создаваемых различными народами и выражающих дух этих народов, равноценности всех культур.
В творчестве Гердера отчетливо проявляется понимание значения индивидуального в истории. Он в отличие от просветителей, для которых значение имело лишь универсальное, делает упор на ценности народной индивидуальности и рассуждает о духе народа и времени. В этом отношении он оказывается предтечей романтизма, его учение предвосхищало, хотя и с меньшей мистикой, романтическое чувство иррационального в народном духе.
И. Гердер считал, что индивидуальное не допускает подражания. Так, например, греческую культуру он объявлял неповторимой и столь индивидуальной, что современный человек не может быть в своих ощущениях адекватен греку. Тем не менее он полагал, что исторические индивидуальности возможно постигнуть с помощью метода «вчувствования».
По мысли Гердера народ является естественной группой, органическим единством. Гердер, как известно, проявлял интерес и симпатию к славянским народам, сохраняющим, по его мнению, в чистоте народную культуру. Он перевел на немецкий язык и издал песни южных славян и привлек внимание западноевропейской общественности к этим народам. Его идеал жизни был направлен на кроткое и мирное сообщество людей, на беспрепятственное развитие духовной культуры и народных индивидуальностей.
И. Берлин, отличный знаток Гердера, выделял в его творчестве определенные темы, в которых, на взгляд Берлина, заключалось самое оригинальное и революционизирующее у этого немецкого мыслителя. В качестве такового он указывает прежде всего на присутствующее у Гердера представление о том, что принадлежность человека к какой-либо социальной группе является первейшей потребностью человека. Берлин пишет: «…Как бы ни ошибался он в качестве пророка… в качестве социального психолога он был выше своего поколения; более ясно, чем какой бы то ни было другой автор, он понял и пролил свет на первостепенную важность такой социальной функции, как “принадлежность” − на то, что означает принадлежать к группе, культуре, общественному движению, образу жизни» [6, c. 481]. Быть членом группы, по Гердеру, – значит думать и действовать определенным образом, ориентируясь на определенные цели, ценности, ту или иную картину мира, – отмечает Берлин. В качестве важнейшей группы, с которой идентифицирует себя человек, выступает культура. Она характеризуется определенными образцами жизни и деятельности человека. Мысль о том, что существуют основные образцы, с помощью которых можно и должно определить всякую культуру и людей, ее создающих, проходит через большинство произведений Гердера, – говорит Берлин. Еще одна мысль Гердера состоит в том, что человек чувствует себя комфортно именно в родной среде, в ней он может творить естественно и свободно, а отрывать людей от их жизненного мира – значит уничтожать их. «Ни один писатель не подчеркивал так ярко вред, наносимый людям, когда их отрывают от тех условий, в которых они, в силу исторического развития, только и могут жить полной жизнью. Он снова и снова настаивает на том, что ни одна среда, ни одна группа, ни один образ жизни ни в коем случае не превосходит никакой другой; но что есть, то и есть, и свести всех к какому-то единому образцу, заставить жить по общим для всех законам, говорить на одном языке, составить единую социальную структуру, как проповедуют французские просветители, означало бы уничтожить все самое жизненное и ценное и в жизни и в искусстве. Отсюда его яростная полемика с Вольтером…» [6, c. 485].
Из признания своеобразия духовной жизни тех или иных народов, культур, исторических эпох следовало, что неверно подходить к иной культуре или эпохе с мерками своей культуры, эпохи. Это означало, что для того, чтобы постигнуть чужую духовную жизнь, надо уметь в нее вжиться, почувствовать ее изнутри. И Берлин отмечает, что Гердер в высшей степени обладал этой способностью. «Даже самые резкие критики Гердера признавали мощь и богатство его творческого воображения. Он обладал изумительной способностью переноситься мысленно в самые разные реальные или возможные общества прошлого и настоящего и испытывал к ним всем необычайную сердечную симпатию. Его вдохновляла сама по себе возможность восстановить ушедшую форму жизни, он наслаждался, выявляя ее индивидуальные проявления и все человеческие переживания, воплощенные в них…» [6, c. 425].
И. Берлин задается вопросом, является ли признание Гердером самобытного духа наций национализмом? Его ответ отрицательный. Гердер не давал преимущества какой-либо нации, для него все нации, и большие, и малые, одинаково ценны. Если даже признать позицию Гердера национализмом, то это – культурный национализм, но никак не политический. У Гердера нация не есть политическая единица. «Национальность для него есть чисто и строго культурное свойство; он убежден, что народ может и должен защищать свое культурное наследие: никогда не должен отступаться от него», – пишет Берлин [6, c. 464]. «Он прославляет германские истоки потому, что они являются частью его родной культуры и помогают ее понять, а вовсе не потому, что немецкая культура по какой-то космической шкале стоит рангом выше, чем другие культуры» [6, c. 462]. «Гердер не желает могущества и не собирается отстаивать превосходство того класса, к которому он принадлежит, своей культуры и нации. Он хочет построить общество, в котором люди, кто бы они ни были, могли жить полной жизнью, имели бы свободу самовыражения, могли бы «быть кем-то»; и он полагает, что чем меньше правительства, тем им будет лучше» [6, c. 462]. Берлин считает, что представление Гердера о хорошем обществе ближе всего к анархизму, что ему ближе представления, которых придерживались такие либералы, как Гете и Гумбольдт, нежели идеалы Фихте, Гегеля и политических социалистов.
Самую же революционную сторону учения Гердера Берлин усматривал в отрицании им абсолютных ценностей, в той мысли немецкого философа, что ценности различных культур одинаково значимы. Раскрывая эту мысль Гердера, Берлин говорит: «“Физиогномии” культур неповторимы: каждая представляет замечательный пласт человеческих возможностей в свое собственное время, в своем месте и в определенной ситуации. Мы не имеем права высказывать суждения об относительной их ценности, ибо это означало бы измерение несоизмеримого…» [6, c. 500]. Он также отмечает определенную непоследовательность Гердера, который в своей философии истории развивал представление о закономерном движении человечества к воплощению, торжеству гуманности в жизни людей, то есть к некоей единой цели, единому образцу. Это представление Гердера, очевидно, отдавало дань мировоззрению Просвещения. «…В “Идеях”[4]4
Труд Гердера «Идеи к философии истории человечества».
[Закрыть] он провозглашает всеобщий идеал Humanität[5]5
Человечность, гуманность (нем.).
[Закрыть], к которому человек постепенно приближается, и некоторые интерпретаторы Гердера честно пытались представить его ранний релятивизм как одну из фаз развития его мысли, которую он со временем «перерос», или же примирить его с туманным гердеровским понятием прогрессивного развития в направлении к Humanität… Но это остается смутным представлением; его мастерство и воображение даже в “Идеях” уходит на воскрешение отдельных культур, а не на нахождение связей между ними» [6, c. 500–501].
И. Берлин отмечает, что у Гердера было много общего с Просвещением, что он весьма красноречиво писал о восхождении человека к идеалу Humanität и высказывал мнения, под которыми мог бы подписаться Лессинг, равно как и Гете. Тем не менее, − говорит Берлин, − «…я не верю, что хоть кто-нибудь, читавший сочинения Гердера с тем Einfühlung[6]6
Вчувствование, проникновение (нем.).
[Закрыть], о котором он просит и который так хорошо описывает, − вынес впечатление, что сознанием Гердера владеет именно этот идеал – идеал просвещенного Веймара. Он яркий, наводящий на размышления, многословный, наделенный изумительным воображением писатель, но редко бывающий ясным, строгим и убедительным… В результате этого его слова можно интерпретировать (что уже и делалось) по-разному. Но то, что составляет самую суть его мысли, то, что оказало влияние на более поздних мыслителей… это тема, к которой он постоянно возвращается: что нельзя оценивать одну культуру по критериям другой; что разные цивилизации развиваются по-разному, преследуют разные цели, воплощают разные уклады жизни и обусловлены разными отношениями к жизни; поэтому, чтобы понять их, необходимо совершить воображаемый акт “проникновения” в их сущность, понять их, насколько это возможно, “изнутри” и посмотреть на мир их глазами – быть “пастухом среди пастухов” в древней Иудее, быть моряком в северных штормовых морях и перечитывать Эдду на борту корабля, преодолевающего Скагеррак. Это совершенно разные общества, и их идеалы несопоставимы. Следовательно, вопросы типа: какие из них лучше, какие следует предпочесть, как оценить, какое из них ближе подошло к универсальному человеческому идеалу Humanität, пусть даже и субъективно понимаемому, − к тому образцу, который в наибольшей степени должен (или считается, что должен) соответствовать человек, − все подобные вопросы для мыслителя такого рода, в конце концов, бессмысленны» [6, c. 503–504].
И. Берлин подчеркивает, что признаваемая Гердером ценностная несоизмеримость культур не дает возможности разместить их таким образом, чтобы образовать из них некоторое поступательное восхождение. Поэтому понятие прогресса в мировоззрении Гердера оказывается проблематичным, а то, что он называет Fortgang[7]7
Прогресс (нем.).
[Закрыть] есть внутреннее развитие культуры в собственной окружающей среде и в направлении к собственным целям. «…Если все эти формы жизни можно понять только с помощью их собственного языка (единственного, что имеется), если каждая из них есть “органическое” целое, образец целей и средств которой не может быть воскрешен и тем более с чем-то соединен, то вряд ли они могут составлять многоступенчатые звенья космического, объективно познаваемого прогресса, некоторые стадии которого автоматически становятся более ценными, чем другие, в зависимости от их отношения – скажем, насколько они близки или насколько точно отражают – конечные цели, к которым идет, пусть даже и неуверенно, человечество. Это ставит Weltanschauung[8]8
Мировоззрение (нем.).
[Закрыть] Гердера, насколько оно вообще последовательно, вне современной философии “прогрессизма”, несмотря на все интуитивные прозрения, которые оно с ними разделяет…» [6, c. 501–502].
И. Берлин вполне соглашается с Гердером в том, что культурное многообразие лучше однообразия. Поэтому любое культурное подавление и искусственное нивелирование есть преступление против человечества. Показательно следующее высказывание Берлина: «Нет ничего хуже империализма. Рим, разрушивший туземные цивилизации Малой Азии с тем, чтобы создать унитарную, однородную Римскую культуру, совершил преступление. Мир тогда был огромным садом, в котором росли различные цветы, каждый по-своему, каждый со своими собственными притязаниями, правами, прошлым и будущим. Таким образом, хотя у людей есть много общего… тем не менее, не существует универсально правильных ответов, так же обоснованных для одной культуры, как и для другой. Гердер – отец культурного национализма. Хотя он не был политическим националистом (в его время не был развит этот вид национализма), он верил в независимость культур и в необходимость сохранить каждую культуру в своей неповторимости. Он считал, что желание принадлежать к какой-либо культуре, к чему-то, что объединяет группу, область или нацию, является основной человеческой потребностью, такой же важной, как потребность в еде, воде, свободе» [18, c. 54].
Мысль о многообразии культур и их уникальности развивалась также романтизмом. Это течение тоже оказало влияние на Берлина, по его собственным словам размышления над историей этого движения способствовали созреванию у него мысли о плюрализме ценностей. Но другие стороны учения романтиков, именно идеализация прошлого и превознесение ими национального духа, были чужды Берлину. В эссе «Чувство реальности» он рассуждал о невозможности возврата к прошлому, его повторения. Тем, кто вынашивает подобные планы, не достает, по его мнению, чувства реальности. ХХ век, деятельность таких вождей, как Ленин, Сталин, Гитлер, показали, что люди намного более податливы, чем предполагалось ранее, что из них действительно можно лепить те или иные формы жизни. Однако эти возможности не безграничны, считает Берлин, так, невозможно буквально воспроизвести какую-то прошлую эпоху. То, что история не содержит в себе необходимости, закона (а именно таково было убеждение Берлина, доказательству которого он посвятил специальные работы), не означает, что можно вернуть людей в прошлое, вновь его построить. «Мы совсем не уверены в существовании таких законов, но остро ощущаем всю нелепость романтических попыток вернуть былую славу», – пишет английский философ [38, с. 33]. Он отмечает, что каждая конкретная историческая ситуация определяется огромным множеством факторов и обстоятельств, о многих из которых мы даже не подозреваем, поэтому воспроизведение прошлого невозможно, а в результате попыток такого рода неизбежно получится подделка, «синтетическая древность на современной основе».
Однако появление движения «романтизм» Берлин оценивает как важный мировоззренческий поворот, изменивший характер европейского мышления. «Это восстание… потрясло основы старого традиционного порядка и оказало глубокое и непредсказуемое воздействие на европейское мышление и практическую деятельность. Это, наверное, самое большое изменение в европейском сознании со времен эпохи Возрождения…» [2, c. 668].
И. Берлин анализирует идейные и социальные истоки романтизма. Он показывает, что романтизм, зародившийся в Германии, был своеобразной немецкой реакцией на французское Просвещение, претендовавшее тогда на то, чтобы быть властителем умов. Берлин указывает как на исторические корни романтизма на чувство отсталости, испытываемое немцами, поскольку Германия была тогда в экономическом отношении действительно отсталой полуфеодальной европейской страной, а в политическом отношении она была раздроблена на множество мелких княжеств, и на ущемленную национальную гордость немцев, не желавших принимать идейное лидерство французов. «Это ощущение сравнительной отсталости, ощущение себя объектом покровительства или презрения со стороны французов с их высокомерным сознанием своего национального и культурного превосходства породило чувство коллективного унижения, превратившееся позднее в чувство негодования и вражды, корни которого – в ущемленной гордости. Немецкая реакция сначала заключалась в подражании французским образцам, а затем она обернулась против них» [2, c. 679]. Зародившись в Германии, идейное движение романтизма в последующем своем развитии нашло приверженцев в различных странах Европы.
К романтизму вполне может быть отнесен и ранний Гердер. Он принимал активное участие в движении «Sturm und Drang»[9]9
«Буря и натиск» − литературное и философское движение в Германии в 70-х гг. XVIII века, явившееся прелюдией романтизма.
[Закрыть]. Мысль Гердера об уникальности и самоценности наций и культур вполне вписывается в мышление романтизма. И. Гердеру, как уже отмечалось, не была свойственна идеализация прошлого, стремление к его повторению, и он не допускал мысли о каком-либо превосходстве одних наций и культур по отношению к другим. Что же касается движения романтизма в целом, то оно явилось питательной почвой для последующего появления и расцвета национализма[10]10
Идейную связь национализма с романтизмом И. Берлин анализирует в эссе «Национализм: вчерашнее упущение и сегодняшняя сила». Эта связь прослеживается через отрицание универсализма, апелляцию к воле, интерес к духовной жизни народа. Берлин подчеркивает, что национализм – это определенный способ самоотождествления и определенная доктрина, идеология, которых не было ни в Древнем мире, ни в Средние века.
[Закрыть].
Характеризуя переворот, совершенный романтизмом в искусстве и философии, Берлин отмечает, что он поломал представление о неизменных формах, канонах, правилах, которым должно следовать художественное творчество. Этого представления в XVIII веке придерживался классицизм, а уходило оно своими корнями еще в античность. Восстание, которое поднялось против подобного понимания художественного творчества, было направлено, как подчеркивает Берлин, не только против этого разлагающегося формализма – оно заходит гораздо дальше, так как отрицает роль универсальных истин, вечных форм вообще, которые наука и искусство, познание, творчество и жизнь должны научиться воплощать. Берлин отмечает также, что возникновение науки и эмпирических методов в свое время всего лишь заменило один набор форм другими, была поколеблена вера в априорные аксиомы и законы, предлагаемые теологией или аристотелевской метафизикой, но на их место были поставлены законы и правила, удостоверенные эмпирическим опытом.
Однако на рубеже XVIII и XIX веков обнаружилось критическое отношение ко всем правилам и нормам, возникло стремление к свободе самовыражения в художественном творчестве и не только в нем. Вместе с этим возникло сознание ценности неповторимости, разнообразия. Берлин пишет: «Идеалистически настроенные студенты немецких университетов под влиянием романтического движения той эпохи совершенно не задумывались о таких целях, как счастье, безопасность или научное познание, политическая и экономическая стабильность и социальный мир, и даже смотрели на такие вещи с презрением. Для последователей новой философии страдание было благороднее, чем наслаждение, неудача предпочтительнее, чем мирской успех, в котором всегда есть что-то нечистое и оппортунистическое и который достигается лишь путем предательского отказа от честности, независимости, внутреннего света и того идеального образа, что живет в душе. Они были убеждены, что только меньшинство, прежде всего те, кто страдает за свои убеждения, являются носителями истины, а не бездумное большинство, что мученичество, неважно во имя чего, − свято, что искренность, подлинность и сила чувства, а главное, непокорство − которое предполагает непрерывную борьбу с соглашательством, с угнетением со стороны церкви, государства и обывателей, с цинизмом, торгашеством и безразличием, − они-то и являются священными ценностями, даже если, а может быть потому что, оно ведет в выродившийся мир господ и рабов; что бороться, и если надо, умереть, это прекрасно, правильно и почетно, тогда как пойти на компромисс и выжить − это трусость и предательство» [2, c. 675].
При этом Берлин считает, что главным в романтическом движении был не поворот от разума к чувству, хотя он тоже имел место, а поворот к волевому началу в человеке, к волевой цели и устремленности. В этом он усматривает суть и философское содержание романтизма. Очерк, посвященный романтизму, он озаглавил «Апофеоз романтической воли». «Эти люди были поборниками не чувства в противовес разуму, а другой способности человеческого духа, источника всей жизни и деятельности, героизма и жертвенности, благородства и идеализма, как личного, так и коллективного – гордой, неукротимой, ничем не сдерживаемой человеческой воли» [2, c. 675].
Своими корнями подобные представления уходят в период, предшествовавший Французской революции. И мыслителем, сделавшим возможным этот коренной поворот от мышления к воле, Берлин считает не кого иного, как И. Канта. Он имеет в виду учение Канта о морали и свободе. И. Кант, как известно, различал теоретический и практический разум. Теоретический разум у него – это научное сознание, а практический разум, по Канту, определяет поведение людей, их поступки, и он у Канта оказывается моральным сознанием. Кантовское решение антиномии детерминизма и свободы воли состояло в том, что он относил причинную обусловленность и свободу воли человека (свободную причинность) к разным сферам, а именно, к теоретическому разуму и практическому разуму. Согласно Канту, в сфере теоретического разума человек мыслится обусловленным, как явление среди других явлений природы, и в этой сфере свобода человека не может быть доказана. Но свобода человека, по мысли Канта, открывается в сфере практического разума, где человек предстает как моральное существо, определяющее собственные поступки.
Немецкий философ настаивал на том, что отличительный признак человека – его нравственная автономия, в противоположность его же физической зависимости от природы. Свободная воля делает моральный выбор, определяя поступки человека, его линию поведения, и тем самым позволяет человеку реализоваться в качестве морального существа. В этом учении Канта о свободном моральном волении человека Берлин и видит предпосылку того поворота к воле, который совершился в эпоху романтизма. Он пишет: «Ни один мыслитель не был настроен более оппозиционно по отношению к свободному вдохновению, всплеску эмоций… смутному, неопределенному жару и томлению (присущему романтизму. – Прим. авт.), чем Иммануил Кант. Сам будучи первооткрывателем в науке, он ставил себе целью дать рациональное объяснение и оправдание методов естественных наук, в которых справедливо усматривал главное достижение века. Тем не менее в своей моральной философии он приподнял крышку с ящика Пандоры, что высвободило тенденции, которые он одним из первых с абсолютной откровенностью и последовательностью осудил и от которых отрекся» [2, c. 676].
Берлин отмечает, что кантовское представление о воле совпадало с представлением о разуме в действии. Немецкий философ спасался от субъективизма и иррационализма благодаря тому, что считал волю подлинно свободной только в том случае, если она подчинена велениям разума, который вырабатывает общие правила, обязательные для всех разумных людей. «И лишь когда понятие разума становится невразумительным (а Канту так ни разу и не удалось убедительно сформулировать, что это означает на практике), и только независимая воля остается единственным достоянием человека, выделяющим его из природы, − лишь тогда новое учение начинает заражаться “sturmerisch” настроением» [2, c. 681].
К мыслителям-романтикам И. Берлин относит И. Г. Фихте. Он называет Фихте подлинным отцом романтизма. Отцом романтизма делает этого немецкого философа, по его мнению, прославление воли и действия, определяемого волей, − в противовес размышляющему мышлению. «Мы не потому действуем, что познаем, а познаем потому, что предназначены действовать», − приводит Берлин цитату из Фихте. Во-вторых, немецкий философ провозглашал, что ценности и цели (нравственные, политические) – это не объективная, а субъективная данность, они не открываются, а устанавливаются людьми. По мнению Берлина, это совершенно новый подход к ценностям. «Это нечто новое и дерзкое: цели нельзя обнаружить внутри человека или в трансцендентальной реальности с помощью некой особой способности, как думали в течение более двух тысячелетий. Цели вообще нельзя открыть, их производят, не находят, а создают» [2, c. 690]. Обращает внимание Берлин и на эстетику абсолютного творчества в философии Фихте. Последний интерпретировал человека как творческое существо, создающее нечто принципиально новое, то есть преодолевающее любые правила и шаблоны, причем творческие акты Фихте распространял на все сферы человеческой деятельности. Романтическая принадлежность Фихте прослеживается и в его учении о героях, которые творят новые формы, новую действительность и новое понимание действительности, при этом они не заботятся ни о сиюминутной выгоде, ни о мирских благах, а подчиняют всю свою жизнь служению определенной идее, которая только и имеет для них ценность. Берлин пишет: «…В эпоху, о которой я говорю, герой уже больше не открыватель и не победитель в состязании, а творец, даже если, а быть может больше всего именно потому, что он сгорает от своего внутреннего пламени… Ибо в жизни духа нет никаких объективных принципов или ценностей – они делаются таковыми решением воли, которая формирует мир человека или мир народа и его нормы…» [2, c. 695]. Берлин подчеркивает также прославление свободы у Фихте, объявление им свободы сущностью человека. Это тоже прописывало Фихте по романтизму.
Прослеживая корни романтизма, Берлин значительное внимание уделяет такому немецкому философу, как И. Гаман, его он называет пророком движения Sturm und Drang. И. Гаман, религиозный мыслитель, представитель пиетизма, с позиций религиозного иррационализма обрушился с резкой критикой на просветительский рационализм и сциентизм. Он отвергал общие понятия, абстрактные теоретические построения, которыми пользуется наука, полагая, что они уводят от действительности, искажают ее. Действительное, по его мнению, индивидуально и, следовательно, неповторимо, истина всегда имеет частный, а не общий характер, а познание – это непосредственное восприятие индивидуальных объектов. Это отношение Гамана к индивидуальному и общему, несомненно, оказало влияние на Гердера, который считал себя его учеником, способствовало созреванию у Гердера мысли о неповторимости национальных и культурных индивидуальностей. Гердер, однако, был несравнимо лояльнее к Просвещению и науке, чем Гаман, занимавший по отношению к ним непримиримую позицию. И. Берлин следующим образом характеризует взгляды Гамана: «Гаманн исходил из убеждения, что истина может носить исключительно частный характер и никогда – общий; что разум бессилен доказать существование чего бы то ни было и может служить лишь орудием удобной классификации и упорядочения данных помимо какой-либо связи с реальностью; что понять человека или Бога значит стать для него субъектом общения. Вселенная, в духе старой немецкой мистической традиции, мыслится как своего рода язык. Вещи, растения и животные суть символы, посредством которых Бог общается со своими тварями» [29, c. 307].
Рассуждения Берлина о романтизме и иррационализме позволяют думать, что он, в общем, согласен с иррационализмом в том, что научное познание только приглаживает, спрямляет мир, но не проникает внутрь него, не постигает его суть. Согласен он и с тем, что отношение человека к действительности основывается не только на мышлении, что оно не может быть правильно понято и оценено без учета такого мощного фактора человеческой индивидуальности и общности, как воля. Берлин подчеркивает, что никто из представителей романтизма не отрицал, что истины науки, как и истины здравого смысла полезны для определенных прагматических целей, но они считали, что это − не тот мир, который имеет первостепенное значение для человека, не тот мир, который является источником всякого творчества, поэзии, понимания, всего, чем на самом деле живут люди, мир, в котором воля превыше всего, в котором абсолютные ценности сталкиваются в непримиримом конфликте. «Когда… научно мыслящие рационалисты заявляют, что они способны объяснить и контролировать этот уровень опыта с помощью своих понятий и категорий, и утверждают, что конфликт и трагедия возникают только из-за незнания фактов, неправильных методов, из-за некомпетентности или злой воли правителей и невежества, в котором пребывают их подданные, так что в принципе, по крайней мере, все это можно уладить, установить гармоничное, разумно организованное общество, и тогда темные стороны жизни исчезнут как старый, нереальный, с трудом вспоминаемый кошмар, − вот тогда поэты и мистики, все, кто остро ощущает индивидуальные, неорганизуемые, непередаваемые аспекты человеческого опыта, как правило, начинают бунтовать. Такого рода люди против того, что представляется им сводящим с ума догматизмом, скучным здравым смыслом “резонеров” просветительства и их современных последователей» [2, c. 698–699].
Заслугу романтизма Берлин усматривал как раз в том, что романтизм не разделял иллюзий относительно возможности идеального, совершенного мира, отвергал миф об идеальном мире[11]11
Правда, что касается И. Г. Фихте, то он в своей философии истории предполагал движение человечества к совершенному обществу, которое будет воплощать в себе разум. Это – просветительский мотив в его творчестве.
[Закрыть]. «Не обязательно ими восхищаться, и даже не обязательно смотреть сквозь пальцы на экстравагантные выходки романтического иррационализма, но надо признать, что – обнаружив многочисленность, а зачастую непредсказуемость человеческих целей, и несовместимость некоторых из них друг с другом, − романтики нанесли роковой удар по предположению, что… окончательное решение головоломки, по крайней мере в принципе, возможно, что сила на службе у разума может этого достигнуть… Если некоторые цели, признаваемые вполне человеческими, являются в то же время высшими и взаимно несовместимыми, то представление о золотом веке, о совершенном обществе, соединяющем в едином синтезе все правильные решения всех основных проблем человеческой жизни, оказывается в принципе несостоятельным. Вот та услуга, которую оказал романтизм, и в частности, учение, составляющее самую суть его, а именно, – учение о том, что нравственность формируется волей, цели же создают, а не открывают» [2, c. 701–702].
И. Берлин говорит о том, что вера в возможность рациональным и научным методом провести коренные социальные преобразования и раз и навсегда решить важнейшие социальные проблемы человечества и войти в золотой век несмотря на некоторые сомнения, поколебавшие ее, все еще очень сильна. Эта вера, по-видимому, выражает некую вечную потребность человеческого рода. «Может быть, − предполагает Берлин, − люди не могут вынести слишком много реальности, не могут вынести неопределенного будущего, если нет гаранта счастливого конца – провидения, самореализующегося духа, невидимой руки, хитрости разума или истории, производительного и творческого общественного класса» [2, c. 700]. Но если все же окажется, что не все высшие человеческие ценности совместимы друг с другом, тогда не удастся избежать выбора, руководствуясь каким-нибудь принципом, и этот выбор может оказаться мучительным. Поэтому задача заключается в создании такой социальной структуры, которая «…как минимум, позволяла бы избегать морально невыносимых альтернатив, а в лучшем случае способствовала бы действенной солидарности людей в поисках общих целей, это, может быть, лучшее, чего мы можем ожидать…», − высказывает соображение Берлин [2, c. 700]. «Но курс, требующий столь высокого искусства и практического ума… зависящий исключительно от поддержания того неустойчивого равновесия, которое нуждается в постоянном внимании и починке, − очевидно, недостаточно вдохновляет большинство людей, жаждущих найти решительную и универсальную панацею, которая излечила бы раз и навсегда», − добавляет он [2, c. 700].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































