Текст книги "Игра в игру"
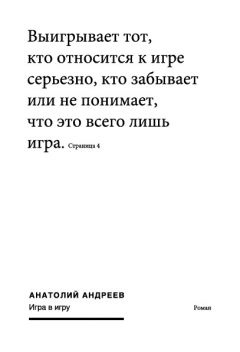
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 11. Любовь?
Правда, ненадолго.
Однажды я, стремясь домой с авоськой персиков, увидел на проспекте парочку (бессознательно я все время, как Одиссей, стремился домой, к своей Машеньке). Как я выхватил из толпы прохожих именно эту парочку – уму непостижимо. Еще не осознавая, что произошло, я почувствовал во рту кровянистый привкус катастрофы. Это была Маша со своим бывшим, кажется, Платоном, большим негодяем, если мне не изменяет память. Он изводил Машу мольбами, пытался ее шантажировать, имитировал самоубийство, даже предлагал изнасиловать ее – и вот теперь как ни в чем ни бывало они прохаживались по проспекту. Загадочная женская душа?
Или прозорливая мужская?
Тут не сам факт совместной прогулки жестоко уязвил меня. Темп движения, беззаботная болтовня, частый смех… Они двигались с удовольствием и со вкусом. Я словно приклеенный следовал за ними, и не было на свете таких сил, которые заставили бы меня одуматься и оставить мою подленькую затею. Да, подлую, к чему таить. Примите исповедь мою. В один миг вирус ревности спровоцировал рецидив. Ревность – это болезнь навсегда. Точка.
Зная Машу, я читал все ее бессознательные движения, которые были знаками симпатии. Ее излюбленный жест: взять мою руку, как бы от избытка чувств (еще и промурлыкать что-нибудь при этом), и погладить легкими-легкими касаниями. В такие мгновения у меня мутился рассудок. По своей интимности эта ласка не уступала полунощным постельным сценам.
То же самое она проделывала с рукой Платона. Возьмет под руку, прижмется – и на секунду отпрянет, находясь, однако, в пределах досягаемости. Я знаю эту ее манеру льнуть ко мне, прямо таки намазываться на меня. Я никогда не предполагал, что она льнет так к мужчине, думал, что только ко мне.
Смотреть на них было подлинной мукой. Вновь отточенной словесной формулировкой моему мысленному взору предстала замшелая в веках прохладная мудрость древних: Injuriam aures, quam oculi facilius ferunt. Несправедливость легче переносят уши, чем глаза. Можно подумать, что эти древние знали все, и тебе остается только идти вслед за ними. Если вернусь домой, выброшу словарь к чертовой бабушке. В форточку. Полетит он у меня нетопырем.
Подойти и на улице устроить «выяснение отношений»? Но что выяснять? Я почти уверен был, что наткнусь на твердый и ясный взгляд голубых глаз Маши, делающий меня серийным идиотом.
Я решил обогнать их и пойти им навстречу: наткнуться на них «случайно». «Здравствуйте! Какая неожиданность! Приятная, надо сказать. Иду домой – и встречаю свою жену. Ты со мной, дорогая?»
С бьющимся сердцем я втиснулся в подоспевший автобус и проехал остановку. Сошел и двинулся им навстречу. Я уже дошел до того места, где расстался с их спинами – они как сквозь землю провалились. С их прогулочным темпом они не могли далеко уйти. Я кинулся в погоню. Единственное место, куда они могли свернуть, был солидный арочный проход (кстати, вот они, следы античного влияния) во внутренний дворик. Опасаясь нарваться на худшее (он целует ее, рука на бедре, а глаза ее, как со мной, закрыты), я ринулся во дворик. Пусто. Ничего не соображая, я выскочил на проспект и припустил в том направлении, в котором они шли: а вдруг им пришло в голову бежать и они запросто обогнали автобус?
Промчавшись пару километров, я остановился, чтобы посмотреть правде в глаза. Сердце стучало. Пот катил градом. Банальная симптоматика пожилого. Видимо, здоровье уже не то. И я не нашел в себе мужества, чтобы посмотреть правде в глаза. Ее персики в чужих ладонях – это было буквально выше моих сил.
Маша вернулась домой в беззаботном расположении духа и, к моему удивлению, не слишком задержалась.
– Персики! М-м-м! – замурлыкала она.
Притворяться казалось мне унизительным, обнаружить свою слабость – тем более; я просто молчал.
– Что случилось? – ее глаза мгновенно нырнули в бездну моих зрачков и схватили самую суть. Может ведь, когда захочет.
– Где ты была, Маша?
Вопрос прозвучал тысячелетиями отрепетированной репликой. Весь мир театр. Ловко подмечено, Петроний. Браво! Bis! Боже мой, сколько раз одураченные седые мужья задавали его своим прелестным женам, желая, чтобы им соврали поубедительнее. Тут даже сама попытка сохранить достоинство выглядит унизительной. Не думал я, что и меня не обминет чаша сия. Что-что, но уж эта пошлятина – увольте. И вот как раз я сделался одним из героев классического эпизода. «Не позорь мои седины, дорогая!» Тьфу!
– Я прошлась по городу.
Все правильно. Все точно. «Прошлась». Это правда. Но правда и то, что от меня потребовали уточняющего вопроса, то есть поставили меня в двусмысленное положение. Раньше так небрежно обходиться с моим достоинством себе не позволяли. Ну, что ж:
– Ты гуляла одна?
– Нет, не одна. С Платоном.
И это правда. Помимо воли на меня накатила волна мелкой унизительной радости: «Не врет! Следовательно, ей нечего скрывать…»
Это и вернуло мне чувство самоуважения. С меня хватит: я готов был идти до последнего.
– И где вы были?
– В баре.
В баре шикарного ресторана «Три счастья».
– Это же безумно дорого, – слегка стушевался я.
Действительно, рядом с арочным проходом находился упомянутый Машей ресторан. Просто мне и в голову не могло прийти, что мужчина может повести даму в такое шикарное заведение. Это была не моя среда обитания.
– Надо уметь выбирать себе кавалеров.
Мне было не до юмора, если она, конечно, изволила шутить. Но я помнил: если человеку не до юмора, дела из рук вон плохи.
– Немного похоже на допрос, не так ли? – виноватая и одновременно извиняющаяся улыбка подло изогнула мои губы. Жертве только что поставили на вид, что она ведет себя как палач. И потребовали извинений.
– Немного похоже.
– Извини. Но еще один вопрос я не могу не задать.
Мне показалось, что она напряглась, и чуткая моя ревность уловила эти колебания и донесла: ей есть что скрывать. На таком фоне мой кинжальный вопрос прозвучал бедно и беспомощно, словно выпад смертельно раненного: слабый бездарно прикидывался сильным:
– Ты меня любишь?
Это было похоже на капитуляцию.
– Геракл, ну как можно тебя не любить? Ты ведь такой хорошенький!
Это был ответ совсем на другой вопрос. Сильный поставил слабого на место.
Я был унижен, хотя и получил ночь любви. Как любовник я был на высоте. Не всякий, имеющий возможность посещать «Три счастья» мог бы составить мне конкуренцию, в этом я не сомневался. Но я не сомневался и в том, что моя нечистая страсть произрастала оттуда, где шевелилось нечто такое, что трудно совмещалось с привычным для меня порядком вещей.
Даже любовь делала меня одиноким.
Наутро я заглянул в ее ясные непроницаемые глаза – и ощутил ее природу (не понял ее, как следовало бы сказать в романе, а понял, что ее невозможно понять, можно только ощутить): до меня с последней степенью откровенности дошло, что я не буду уверен в ней никогда. Никогда! Это единственное, в чем я мог быть уверен.
Для меня понять женщину означало: уяснить для себя действительные стимулы и механизмы ее поведения; меня интересовало не то, что она о себе думает и как истолковывает свои поступки, а ее реальная природа, толкающая ее к реальным действиям. Поэтому я привык разговаривать с женщинами как с иностранцами: я всегда переводил на язык здравого смысла и разума то, что они считали загадочным и непостижимым. В такой игре все козыри были у меня на руках.
Сейчас я ощутил: она сама за себя не отвечает. Она сама толком не знает, что ей придет в голову в следующую минуту, не говоря уже о планах на год. Она со мной, и ее глаза ясны. И они ничего не скрывают. И совесть ее чиста.
А вот она с Платоном. И ее глаза ясны. И совесть чиста.
Она из семейства протеев, хвостатых земноводных. Proteo mutabilior. Изменчивее Протея. Одинаково уверенно она чувствует себя на суше и в воде. Она никого не обманывает: просто она одновременно может жить в разных стихиях. Как вполне земная женщина, рожденная, однако, от одного из небожителей.
Она никогда не будет абсолютно моей – и это ощущать было мучительно; но в этой ее двуприродности, в этой органичной двойственности была обжигающая прелесть.
С этого дня я стал называть ее Русалкой. Прощать ее было глупо, ибо обвинять – было не в чем. (Заглянул в словарь: Ut desinat in piscem mulier formosa superne. Что кончается рыбой, сверху прекрасная женщина. Снимаю шляпу, Гораций!)
Вы думаете, я не знал, как поступить в этой ситуации, чтобы и беды не натворить и самому уцелеть?
Великолепно знал. Я был главным в мире специалистом по разруливанию таких ситуаций, по выходу из кризиса подобного рода. Это была задачка для начинающего мудреца. Надо было на полную мощь включить мозги и отключить эмоции. Для этого надо было провести серию мероприятий именно в такой последовательности:
– с глаз долой травмирующий тебя объект;
– какое-то время заниматься исключительно рутинной деятельностью, как-то: писать пьесу (я ведь был драматургом, разве я этого не говорил? Впрочем, это настолько неважно, что мог и не сказать), ругаться и мириться с режиссерами, устроить генеральную уборку кабинета и т. п.;
– когда уже почти из сердца вон – хладнокровно принять верное решение.
Почему же я не действовал по отлаженной схеме?
Да потому что я хотел быть счастлив, черт побери. И счастье сфокусировалось для меня в этой, в общем-то, заурядной женщине. Я не стремился к покою и воле (а мой рецепт как раз и гарантировал этот суррогат счастья); я безумно хотел Счастья. Ибо: против счастливого и Бог бессилен. Contra felicem vix deus vires habet.
Обо всем этом размышлял я, стоя перед Стеной. Счастье всегда связано с риском для жизни, он всегда, мягко говоря, укорачивает жизнь, продляет ее как раз покой и воля. Что из того? Определение счастья (и не одно) располагалось у меня где-то на задворках моего Новейшего Завета, бабочкой распластавшегося на Стене. Это был целый сектор счастья. Одно из определений гласило: «Счастье – это когда истина твой союзник; проблема только в том, что считать истиной». В бок ему упиралось следующее: «На свете счастья нет, но есть те, кто об этом не подозревают». Два предыдущих перечеркивались третьим: «Счастье – это миг удовольствия, который заканчивается тогда, когда за удовольствие, увы, приходится платить. Счастье несет в себе несчастье». Отдельно блистало следующее вкрапление истины: «Счастье – это состояние, которое ты испытываешь здесь и сейчас. Завтра и вчера лишь повод быть счастливым сегодня». Совсем уж сиротливо жалось: «Счастье – это волшебное состояние, когда ты рвешься на свободу из объятий любимых людей».
Наконец, заканчивалась счастливая полоса заблудившимся определением, залетевшим в чудный сектор непонятно откуда: «Самое смешное в жизни – ум, который убежден, что он нашел в любви смысл жизни».
Ну, и что из того? Чугунная литая Спина Платона и льнущие движения Маши (бабочка, бабочка!) не выходили у меня из головы. Спина заслоняла все.
Я действительно не знал, как поступить.
Но иногда, особенно по утрам, когда она, еще полусонная, что-то мурлыкала в постели, на меня накатывала волна такой сумасшедшей нежности, что я втайне завидовал сам себе. Я перебирал ее волосы цвета спелого каштана и жадно всматривался в лицо. Оно завораживало меня своей заурядностью. Никаких особенных совершенств. Узкие черные бровки (сколько потрудились Машкины щипчики, чтобы сотворить непринужденный изгиб!) ласковой шелковистой змейкой взлетели над глазами. В тот миг, когда она взмахивала ресницами, у меня райской прохладой замирал в груди айсберг, – юношеское ощущение, словно ожидание предстоящего интригующего приключения. М-м-м… А глазки были мутненькие, ничего не соображающие с утра. Боюсь, даже нежность моя перезрелая казалась Машке неуместной и раздражающей. А я не мог не целовать эти глаза: они просто пронзали мне душу, превращая прохладу в горячий смолистый нектар. При этом я со смехом отдавал себе отчет, что Маша диву дается мужскому идиотизму и «думает» при этом о чем-нибудь в высшей степени прозаическом. Например: Маша любит кашу. И что же?
Целовать глазки с поволокой хотелось еще больше. Иногда она прогоняла меня, отмахиваясь, как рассерженная тигрица, и я потом спрашивал ее: «Я был недостаточно настойчив или излишне назойлив?»
Она изумленно вскидывала бровки: принцесса ничего не помнила.
Насладившись глазами (хищный и в то же время женственный разрез которых притягивал и отпугивал), я соскальзывал губами к ее рту. Линиями ее губ, волнующими своей неуловимой прелестью, я мог любоваться вечность. Мне кажется, самый уголок ее рта ласково тронула морщинка, которая то появлялась, то исчезала (Машкина скользкая природа сказывалась даже в таких мелочах!). У двадцатилетней – морщинка! Но эта тонкая ускользающая паутинка не имела ничего общего с увяданием. Эти штрихи, придающие Машке неповторимую индивидуальность, словно уникальные узоры анаконды, еще больше привязывали меня к ней. Молодость красит даже увядание…
Уголки губ складывались таким образом, что казалось, будто она улыбалась мудро и иронично, и персонально в мой адрес, хотя она и не думала улыбаться. Это была типично Джиокондина гримаска, только Машкин рот был крупнее и чувственнее. Мне кажется, я окончательно разгадал улыбку Джиоконды: это улыбка бессознательного, пустого существа, которое просто нежится, сосредоточившись на своем подшерстке. Женщины испытывают чувства кошки: вот содержание ее улыбки. Божественная пустота. Или первозданная чистота: как вам будет угодно. Я, божественный маляр, наполнял ее улыбку значением, актуальным для меня; посредством ее улыбки я разговаривал сам с собой. Так иногда зрелище заката наводит на нас безотчетную грусть: мы воспринимаем то, что сами же и сотворили (незаметно для себя). Мне становилось страшновато от того, что Машкины чары развеются, и мне станет опять скучно жить. Но я упорно продолжал развеивать туман женских загадок, пугая себя своим упорством. Своеобразный Эдипов комплекс, не так ли? В хорошем смысле этого слова.
До персиков мой взгляд обычно так и не добирался, потому что руки мои знали свое дело и в процессе «чистого созерцания» они не дремали, подбираясь к персикам глубоко снизу. Машкины щеки в какой-то момент вдруг розовели, губы приоткрывались, спинка начинала изгибаться, а голова уже металась по подушке. Я впивался долгим поцелуем в ее губы, и нас окружал густой туман Млечного пути. «М-м-м…»
Однажды я поймал себя на мысли: как бы покойная жена мною гордилась, если ей довелось узреть мои сексуальные подвиги с Машей. Клянусь, это было чистое переживание. Тут мне стало тошно от моей игровой натуры. Неприятно. Чтобы быть игроком экстра-класса, мне явно не хватало цинизма. Хотя…
По моей версии, игрок экстра-класса – это всего лишь потерявший чувство меры игрок.
Моя подруга не любила утренних ласк, но я всегда «нечаянно» добивался своего, что неизменно удивляло Машку. Ей, находившейся в невинных объятиях Морфея, казалось, что это происходило не с ней. Она смотрела на меня ясными глазами, как на фокусника с сомнительной репутацией, – и я благодарен был тому, кто имел отношение к сотворению женщины, за то, что он так трогательно позаботился о мужчинах: этот ясный утренний взгляд, разлет бровей, задумчиво жующие губы – и жизнь уже казалась прекрасной, светлой и чистой. Стена раздвигалась, крылья Бабочки складывались, она бесшумно срывалась и улетала к холодной сине-золотой звезде.
В эти минуты я всегда вспоминал Елену: почему сильнее любишь тех, кто меньше любит тебя? Когда я был очень счастлив, я всегда вспоминал Елену. Здесь была какая-то загадка, которую мне, почему-то, разгадывать не хотелось.
И Бабочка (в этот момент имеющая несомненное сходство с божественной Машкиной попочкой) вновь опускалась на Стену, охорашивалась, расправляя крылья от пола до потолка, и незаметно прирастала к равнодушному бетону многоэтажного панельного дома, превращаясь в Книгу.
Осознание своей любви как слабости придавало мне силы (так Ахиллес, зная секрет своей пяты, становился непобедим). Я ощущал просто невероятный прилив сил, наполняющих паруса моего достоинства; вместе с тем я понимал, что Маша вращается совсем не на той орбите, где обитаю я, настоящий, невыдуманный. И я в каком-то смысле чувствовал себя хозяином своей судьбы. Это были эпизоды, почти мгновения, но я никогда не забывал о них. Я уже знал, что я могу быть сильнее всего того, что ниспослано мне Судьбой. Тем более ценил я минуты слабости: я понимал, что и она преходяща…
Почувствовав, что я могу быть сильнее любви, я нажил себе другую проблему. Убивать любовь было бы грехом по отношению к породившему меня космосу – по крайней мере, до тех пор, пока сама любовь не начала разрушать мою личность. До такого безобразия, я был уверен, дело не дошло бы. Я бы не допустил этого; иными словами, честь достоинство и разум человека я ставил выше слепой любви. Но что за подлое устройство вселенной под названием человек! Дать ему все – для того, чтобы все разрушить.
И мне стало грустно от осознания собственной силы. Неужели я справлюсь с любовью? Справлюсь, конечно. Получается, что я контролирую развитие чувства. Знакомое ощущение игры и здесь не покидало меня. Нет, чувство, само собой, зарождается помимо моей воли, оно крепнет, зреет, расцветает – но в любой момент – в любой, вот он, мой последний козырь, который мне хотелось утаить от самого себя! – оно может быть поражено в самое сердце, и не кем-нибудь, а мною, изнывающим от любви. Я, личность, сильнее себя, человека. Я сам себе радость и кошмар. Неужели нет такой всемогущей любви, которая спалила бы все к чертовой бабушке?
Есть, конечно. Но это любовь для слабаков. И с этой стороны грустно. Есть, правда, теоретический вариант. Например, любить Елену как Машу. Почему-то не получается. Все дороги ведут к Стене.
Мне казалось (это «казалось» я потом уже по крупицам соскребал с самых задворков моего сознания), что всю свою жизнь я шел к этому сладчайшему мигу. И шел не зря. Уберите из моей жизни Машу – и что останется? Жалкая Стена. В такие минуты я разделял прелестную наивность древнего Петрония, который, sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности), был мальчишкой: Amor etiam deos tanit. Любовь ранит даже богов.
Тем горше были минуты протрезвления и, я бы сказал, своеобразного раскаяния. Мне становилось неловко перед Стеной, и я неуклюже поворачивался к ней спиной. Иногда даже не заходил в кабинет: было неловко.
Это был период полноценной жизни. Космические часы пробили какую-то вселенскую полночь, а может, полдень – словом, какой-то звездный час. Время как бы остановилось, ибо бессмысленно ему было течь далее. Вотще. Зачем, чего ради? Все было достигнуто, все сошлось, все шестеренки благополучно попали в пазы, и райская машинка времени, развернутая в сторону ада, бесшумно катилась в бездну. Больше, чем записано на моей Стене, этом Философском Камне, – я не узнаю. Там и некролог, и эпитафия. Рядом с прологом. Там же вырезка из «Науки и жизни», в которой сказано, что феромоны не имеют запаха. Эти гормоны, кстати сказать, источаются железами, обильно окружающими сосок. Может, именно поэтому мне так нравились Машкины персики?
Больше, чем может дать Машка, не может дать женщина. Время, предоставляя мне все, одновременно работало против меня, ибо постепенно все отбирало. Проклятые диалектические часы: в какую сторону вы тикаете?..
Я стал просыпаться среди ночи, чтобы отогнать вездесуще понимание, которому в этот звездный час не спалось.
Из окна моего кабинета видно темное ночное небо. Полумесяц был похож на ухоженную бровь капризной красавицы. Бровь кокетливо приподнялась – и чуть выше чистой линии надбровной дуги игриво замерцали разной величины звездочки: то ли родинки, то ли блестки макияжа. Красавица заставляла вас любоваться личиком, с которого призывно сползла синяя паранджа небес. Молодая луна делала вид, что не замечает устремленных на нее жадных взоров.
Я подошел к полке с книгами.
«Дай мне звезду, – твердит ребенок сонный, —
Дай, мамочка…» Она, обняв его,
Сидит с ним на балконе, на ступеньках,
Ведущих в сад. А сад, степной, глухой,
Идет, темнея, в сумрак летней ночи,
По скату к балке. В небе, на востоке,
Краснеет одинокая звезда.
«Дай, мамочка…» Она с улыбкой нежной
Глядит в худое личико: «Что, милый?»
«Вон ту звезду…» – «А для чего?» – «Играть…»
Бунин. Глупый, в сущности, писатель. Но что-то в нем есть.
Если ты любишь ночь, в тебе непременно что-то есть.
Пусть стоит на моей полке.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































