Текст книги "Игра в игру"
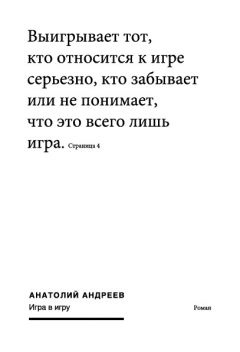
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 15. Ах, эти ясные глаза!
Через два месяца после нашей дружеской встречи Елена позвонила мне и пригласила на чашечку чая. В кафе. Не домой, а в кафе. Этот милый, ни к чему не обязывающий жест порадовал меня.
Но как только я увидел ее, сразу почуял недоброе. Моя мужская интуиция последнее время стала почти женской: я нервно реагировал на тонкости, но как-то упускал главное. Глаза Елены лучились, говорила она, вопреки обыкновению, много и оживленно. На мой невысказанный вопрос она ответила будничной скороговоркой, скрывая волнение:
– Зачем я тебя сюда пригласила? В таких случаях обычно говорят: милый, у нас будет ребенок. Но в данном случае не у нас. У меня. Если хочешь – то от тебя. Если не хочешь – это будет мой ребенок. Это даже и лучше: Гераклович – звучит несколько комично, правда? Геракловна – еще хуже. Не сказать тебе об этом было бы свинством. Вот. Но я хочу, чтобы ты знал: я очень счастлива. Я даже не ожидала, что буду так счастлива. Вот.
– Ты сделала это специально! – зло прошипел я, сминая десертной вилкой остатки пирожного. – Ты не можешь простить мне Машку!
Ее ясные непроницаемые глаза не впустили обиду:
– Нет, не специально. Я ничего не планировала. Это Судьба.
– Почему бы тебе не сделать аборт?
Елена вскинула на меня свои ясные глаза, в которых отразился мой гнев, встала и ушла, не попрощавшись.
Ну, вот, теперь я не только перед Машей виноват, но и перед Еленой. И перед еще не родившимся ребенком. Сильный ход, аплодирую Вам, Госпожа Судьба. Все вы, женщины, заодно: Est illud quoque mite malum blandum atque dolosum. Нежное зло, утешное зло и коварное очень.
В один миг мое горькое пребывание в сладком раю закончилось. В одно мгновение все перевернулось. Ощущение гигантской потери морским узлом затягивалось где-то в глубине души.
Я возвратился домой и, не дойдя до кабинета, включил телевизор. Выступала знаменитая актриса, которой особенно удавались глубокие драматические роли. Очевидно, отвечала на вопросы зрительного зала.
– Две вещи перевернули мое представление о мире, – вещала она сокровенным голосом. – Первая: рождение дочери. Второе: моя клиническая смерть…
Дальше я не слушал. Что нового или интересного может сказать женщина, да еще актриса? Много ли им надо, чтобы «перевернуть представление о мире»? Новые ощущения – и мир переворачивается. В их «представлениях о мире» нет места пониманию. Одни только старые, как мир, ощущения, приводящие к «новым» «представлениям». Я десятилетиями корпел над Стеной, испещряя хрупкие крылья Бабочки узорами истин, мой мир покоится на этих крыльях прочно и незыблемо. Я вам не кошка драная, прости Господи, чтобы новые ощущения обновляли мое мировоззрение. Каждый день. За завтраком.
Стоп. Отчего же мой мир перевернулся? Может, актриса мне неприятна потому, что я сам веду себя как актриса? Увидел в ней себя? Или мой мир вовсе и не переворачивался?
К Стене, к Стене!
Теперь я, словно отбывая епитимью, простаивал у Стены долгие печальные часы. Умом я объяснял себе, что ровным счетом ничего не изменилось. Ну, хорошо. Родится ребенок. Не первый и не последний на этом свете. Хорошо, пусть Гераклович. Никто об этом не будет знать. В конце концов, о нем можно как-нибудь эдак позаботиться. Дело житейское. Где здесь моя вина? Я не планировал зла. Почему, черт побери, не спросясь меня, эти актрисы вытворяют Бог знает что! Я что вам, игрушка? У меня есть свои планы, свое представление о мире, свои убеждения. Зачем же так агрессивно вторгаться в мой мир? Кто вас об этом просил? А? Может, я не хочу быть папашей? Нарожаете без спросу, а потом вас бросают…
С другой стороны, получалось, что ребенок все же мой. Как ни крути. И я, хоть и без вины, – но здорово виноват. Прямым тому подтверждением было мое поведение: я не мог открыто смотреть в глаза Маше. Более того. Я гадко желал, чтобы она ушла к своему Платону (а ревность была при мне-е!). Мне было бы так легче. Иногда я спрашивал ее со страхом, не беременна ли она. Нет, со смехом отвечала она, не бойся, не беременна.
– Почему я должен бояться? – строил я мнимую обиду.
– Потому что.
Эта ее дурацкая реплика казалась мне глубокомысленной, и я начинал нервничать.
Я знал о жизни все. И это знание было записано на Стене. Но эти знания не решали моих проблем. Единственным ответом на все мое понимание была кривая усмешка Судьбы, которая чудилась мне в мелочах, окружавших мою жизнь. Например, пламя свечи (я полюбил вечером сидеть при свечах). Мне казалось, что оно ехидно вытанцовывало и кривлялось, да вдобавок показывало мне язык. Мне даже чудился легкий смех.
Пламя, само собой, было женского пола.
Однажды ночью я вспомнил о женщине, которая любила ночь. Капля здорового цинизма мне бы сейчас не повредила. И я набрал телефон Верки. Она плакала.
– Ты чего? – спросил я, понимая, что и тут женщина не прочь получить помощь от меня. От них дождешься. Только детей умеют рожать. Да и то…
– Я уезжаю на острова. К Мишке Брауну. Навсегда. Кстати, спасибо тебе: этот безвольный пижон – мой формат. Я мечтала о нем всю свою жизнь.
– Ты о формате кошелька?
– Не только.
– Вау!
– Представь себе.
– Верка Похоть, тебе не к лицу романтика. Ты ведь не Бейрон.
– Не называй меня так. Я бы сейчас обиделась, если бы мне не было так грустно.
– Может, мне приехать к тебе? Мишка ведь на островах. В Великобритании.
– Приезжай, если хочешь. Только ничего не будет.
– В смысле?
– В смысле я не буду с тобой спать.
– Я тебе и не предлагал.
– Знаю я вас. Все мужчины одинаковы. Мой бандит тоже хотел со мной горячо попрощаться.
– А ты?
– А я приглашаю тебя. Как друга.
– Ты что, влюбилась в Брауна?
– Нет, конечно. Мне жалко себя. Некому себя отдать. Нет достойных. Тьфу на вас.
– Спасибо на добром слове. Я уже еду к тебе.
Ну, вот зачем, спрашивается, нужна мне была Каро, тьфу, Верка?
А вот поехал же. Я словно бы караулил сам себя. Все ждал, что мои иррациональные поступки выведут меня зигзагами на стезю привычного понимания, к моей Стене, которая превратилась для меня в панельную перегородку, испачканную набором пустых фраз. Лучше бы уж коллекционировал бабочек. Или вышивал по шелку.
С Веркой нам говорить было не о чем; нам было о чем поплакать. Она, услышав мою историю, просто залилась горючими слезами. Такого от нее я не ожидал. Я даже упустил из виду, что struit insidias lacrimis, dum femina plorat (не без задней мысли женщина плачет). «Ты подлец, Гераклик, какой же ты подлец», – шептала она, подобрав к подбородку свои безупречно круглые колени. Ясные глаза смотрели в одну точку на стене. Несколько раз я, растроганный, мямлил, поглаживая великолепную упругую грудь, тяжестью двух персиков мягко навалившуюся мне ладонь:
– Верка, иди ко мне…
– Нет!
– Каро!
– Нет!
Вот дура. Двойная. Нет, тройная. Уперлась, как носорог. Просто Минотавр. Лишила дорогого читателя редкой возможности полюбоваться на райские прелести соблазнительного тела; а надо сказать, шелковый атлас прохладной кожи ее бедер (внутренняя их сторона – гладь озера, в которой волшебно вязнет ладонь, преодолевая тихое сопротивление воды) как-то особенно гармонировал с нежным мармеладом теплой плоти.
Дура.
Она пришла ко мне только тогда, когда погасила свет. Я, обескураженный ее стыдливостью, ничего не видел, только ощущал жадные толчки ее роскошного тела, ненасытного и доверчивого, вбирающего меня бережно и неутомимо. Она стеснялась быть просто женщиной, скрывая это как слабость; она приучила себя к роковым ролям. Отдаваться она могла только в темноте; при свете дня она своими позами считала обязательным диктовать свои условия этим несносным мужчинам. Бедная женщина. Это действительно была уже не Каро; пожалуй, Вера. Нет, Медея. С трогательной фамилией Комок. Я даже не мог бы сказать, с кем я сплю: с Машей, Еленой или Электрой?
Lucerna sublata nil discriminis inter mulieres. Если убрать светильник, нет разницы между женщинами… Такое могло прийти в голову только непутевому мальчишке. Да и что эти древние понимали в женщинах? Или в мужчинах? Они только говорили красиво. Закладывали основы цивилизации: не ведали, что творили. Но к ним нет претензий: какие претензии к мальчишкам? Первобытная честность: что на уме – то и на языке.
Мне было хорошо с женщиной, которая прощалась со мной навсегда. Она была… Lusus naturae. Игра природы. Лучше не скажешь.
Наутро Вера по паспорту холодно сказала мне (в ответ на мой дежурный мужской комплимент, делающий меня мужчиной, а ее женщиной; но я знаю: комплимент вошел в ее тело):
– Ты потеряешь Машу.
– Как, интересно знать?
– По своей вине, как обычно. Ее отнимут у тебя. Возможно, она заболеет. У нее красивые пальцы. Красота – самое хрупкое место. Возможно, будет что-нибудь с рукой… Ты думаешь, я по своей воле лечу в Британию? Нет. Меня отняли у кого-то.
На этот раз я не клюнул на глубокомысленность ее бреда. Она не сказала мне ничего нового. Ни о Маше. Ни о себе. Ни обо мне.
Женщина, которая любила ночь, утром показалась мне всего лишь жалкой феминисткой. Трогательной феминиськой. И я ее понимаю: иначе с мужчиной Майклом Брауном не выживешь. Тут другой вопрос напрашивается: зачем ей нужен был этот средненький Браун?
Но и эти вопросы цивилизация давно решила и за женщин, и за мужчин.
Глава 16. Резервация культуры
На левом крыле Бабочки, плотно вросшей в Стену, маленьким пятнышком притулилось вот это zeгообразное изображение.

Схема 1
Это родимое пятнышко очень шло моей Бабочке, кокетливо ее оживляло. Кстати, в нем есть смысл. Много смысла. Очень много смысла.
А теперь пробежимся по воображаемой оси, симметрично складывающей мою Бабочку в узкую вертикальную полоску, едва различимую черточку. Если совместить огромные распластанные крылья – получишь большой минус, торчащий вертикально. Бабочка исчезнет.
Итак, путешествуем по оси, которая держит Бабочку и в бездне которой исчезает легкокрылое существо, эфемерно несущее на своих крылышках-конспектах неподъемную фундаментальность знания. Здесь располагаются три сформулированных мной Закона, по которым я живу, сужу себя и других. Включая бородатых древних. В том-то все и дело: не будешь судить – тебя и не оценят. Суди – и судим будешь. Я взял на себя смелость и ответственность судить. Теперь ваш ход, судьи…
Впрочем, пора переходить к Законам.
Закон 1. Гуманитарная парадигма культуры, отражённая в соответствующих формах общественного сознания, – эстетической, нравственной, религиозной, правовой, политической, научной, философской – есть не что иное, как форма проявления духовного мира личности.
Коротко назовем первый закон – законом личности, который, в свою очередь, можно трактовать как проявление вездесущего закона целостности. Личность порождает культуру, а культура – личность.
Закон 2. Существуют две культуры, каждая из которых ориентирована на разные (противоположные) системы ценностей и, соответственно, функционирует на разных языках: культура психоидеологическая («женская») и научно-рациональная («мужская»), «литература» и «философия» (в широком, символическом значении). Эти культуры соотносятся по принципу дополнительности, порождая эффект своеобразной гуманитарной «мультипликации», взаимоусиления своих потенциалов.
Назовем второй закон – законом двух языков культур, который непосредственно связан с законом личности и также является частным моментом проявления закона единства и борьбы противоположностей.
Закон 3. С точки зрения закона сохранения информации, личность представляет собой сложнейшую, иерархически упорядоченную информационную систему, где эффективное управление (самопознание, если угодно) возможно только сверху вниз, от разума к душе, от науки к искусству. Путь снизу вверх, «от психики к сознанию» – всегда и только приспособление, которое выдается за познание. Закон сочетания или сопряжения информации – закон, регулирующий меру объективности отражения, – можно считать третьим гуманитарным законом. Для краткости этот закон можно назвать законом объективности познания (своеобразным законом гарантии объективности).
Законы – это географический и философский центр моего кабинета. Пуп Земли, по-вашему. Или Три Кита. Кто как привык. В эпоху плюрализма можно так и этак.
Рядом с этими Законами – дорогая моему сердцу запись:
«Собственно, мышление как таковое начинается там, где отдельное интерпретируется с позиций всеобщего. Связи отдельного с отдельным (сравнения, уподобления, метафоры) – это еще не мышление разумом, это экзерсисы интеллекта. Умение видеть феномен в целостном контексте – вот разумное качество. Иначе сказать, мышление высокоразвитое, полноценное (собственно разумное) всегда осуществляется сверху вниз, от универсалий к частному; эмпирический путь снизу вверх через сопряжение фактов и явлений – это интеллектуальное освоение мира.
Именно поэтому интеллект становится слугой двух господ: он обслуживает потребности психики и в то же время стремится в превращению в разум. Последний шаг от натуры к культуре – это шаг от психики к сознанию, от интеллекта к разуму, шаг, не улавливаемый локаторами психики, но совершенно реальный в информационном пространстве человека.
Превращение интеллекта в разум означает многое: это решающая предпосылка для появления личности и, следовательно, культуры; с возникновением высших культурных ценностей (структуры духовности) появляется, наконец, не груда фактов и событий, а прошлое, настоящее и, возможно, будущее. Мир буквально переворачивается с головы на ноги. «Культура», созданная психикой и интеллектом, в мгновение ока становится прошлым, историей. Этот продукт становится архаичным раз и навсегда – хотя еще сегодня творческая элита человечества воспроизводит по бессознательному алгоритму именно его.
Собственно культура, результат усилий разума, если и появляется сегодня, то в крайне малых дозах и без фанфар. Оно и понятно: в силу чрезвычайной сложности подлинный культурпродукт – просто невидимка для «культуры» традиционной. Он не фиксируется в силу своей ни с чем не соотносимой природы. Завтрашний день сегодня никто не ждет, человек явно не жаждет появления личности.
Вселенское, но никому не видимое поле битвы, где интеллект доказывает разуму его идиотизм, – это рай и ад, комедия и трагедия, чудо и вместе с тем никем не замечаемое событие. Собственно, жизнь».
Не ждите никаких комментариев. Я зол, не в духе, и совершено не желаю распространяться. Я вовсе не за тем вас сюда пригласил, чтобы вы что-то поняли. Если понимаете – разберетесь и без меня. Я пригласил вас сюда затем, господа, чтобы сообщить…
В общем, все это придает мне силы. Стоит мне прикоснуться к бессмысленным, на ваш взгляд, скрижалям – и я, словно Антей, получаю дополнительную силу. И источник этот, прошу заметить, соорудил я сам.
– In saxis seminas. Ты сеешь на скалах.
– Возможно. Только не надо прикрываться авторитетными мнениями и громкими цитатами. Это прием из арсенала слабоумных.
– Но ведь ты же прикрываешься!
– Я? Боже упаси. Эти цитаты всего лишь иллюстрируют мою правоту, но не создают ее. Я и без них могу обойтись. Я живу в автономном режиме, будто на космической станции. Это мой… В общем, opus Herculeum. В некотором смысле – подвиг Геракла. Четырнадцатый. Гм-гм. Не такой пикантный, как предыдущий, конечно, но тут же я работал головой. Неужели мне так и не переплюнуть opus тринадцатый? Геракл, совершивший подвиг понимания, останется в памяти людей грозой целомудренных дев! Это ли не смешно!
– Не видим ничего смешного. В тринадцатом подвиге хоть смысл есть, а в четырнадцатом… Это же игра!
Превосходно. Чудно. В таком случае, я поведу вас своими лабиринтами. Раз уж мы попали в мою обитель (кто знает, захочу ли я привести вас сюда вновь? Я ведь тотально диалектичен, капризен, если хотите, как Бабочка), посетим и «Резервацию культуры», о которой вы уже столько наслышаны.
Поскольку культура принципиально не интересует цивилизацию, однако объективно является следующей стадией развития человечества, – если выражаться бейроновским слогом, будущим (из которого меня на крыльях Бабочки и занесло в ваш Лондон), то культура хотя бы в минимальной степени имеет право претендовать на ваше, просвещенное интеллектом, внимание. Гм-гм.
Так вот, я детально разработал план резервации культуры (с целью сохранения ее зерен для потомства), и даже просчитал бюджет. Это смешные гроши: сопоставимо с годовым содержанием барона. Нужен небольшой остров и средних размеров коттедж. Очень скромно, но вполне достойно, можно было содержать в комнатах-клетках великих духом (множественное число в этом месте меня всегда смущает; во всяком случае, второй кандидат, господин Ольгин, у меня уже давно на примете; первый, разумеется, я; понимаете, одному мне будет просто скучно). Как пуделей невиданной породы. Моим соседом непременно был бы Евгений Онегин. Кстати, единственная ложь в «Евгении Онегине», на мой взгляд – это то, что философ и тонкий человековед Онегин остался не у дел. Только бессмысленная жизнь – мелковато для Дон-Жуана-философа. Он должен был непременно что-либо написать – и угодить в сумасшедшие. Вот его триумф и голгофа. Стать Онегиным, что ни говори – это культурное достижение. У него, помнится, не очень получалось писать. Ничего не вышло из пера его. Пустяки. Я бы его обучил в два счета.
В одной клетке я поместил бы мою Бабочку с ее драгоценными хрупкими крыльями. Просто бы целиком переместил Стену – и все. Как осколок будущего, занесенный дуновением Вселенной. Копейки. Надо бы издать все, размещенное на крыльях, растиражировать, сделать межконтинентальную рекламу. Сайт, опять же, во всемирной паутине. Как положено. Я бы читал лекции студентам, защищенный статусом культурного посланника. Что еще? Если взять с собой Машу, будет банально похоже на рай в шалаше; а если не брать, то нужен ли мне этот остров? Тут у меня еще не вполне проработано. А если туристы повалят, то проект вполне может стать окупаемым. Нет, это я мыслю по старому. Какой, к черту, бизнес в резервации?
В общем, проект скомкан и забыт. Выходите из музея.
Чтобы время от времени посещать кабинет, а тем более бродить по темным его закоулкам, надо немалое мужество. Что для вас, пардон, для людей, означает эта темная категория – мужество? Не бояться трудностей, собак, смотреть в глаза опасности, перебороть страх смерти, наконец. Для того, чтобы победить и заслужить себе памятник. Что-то в этом роде, не так ли?
Для меня же мужество – это умение мыслить и принимать мир таким, каков он есть. Не предавать Истину. Насмерть стоять у Стены под вашими глупыми пулями. У вас враги – другие люди, а у меня – я сам.
Если б вы знали, как мне надоело мое неопределенное положение! Мне сегодня даже юродивым, помешанным на сакральных смыслах, быть не позволено. Вот выставишь Стену на всеобщее обозрение, да еще пару толковых комментариев – и ты обычный клинический сумасшедший. Номинация шута, горохового снаружи и респектабельного изнутри, отпала. Такой кентавр сегодня не живет. Жить можно только в качестве площадного драматурга.
Вот это и означает полную и без всяких шуток гибель культуры. Понеслась, Кривая (то бишь Фортуна), в щавель! Натурально, в сторону, противоположную культуре. Сама Судьба сегодня капризничает по правилам цивилизации!
Почему я не стал и не могу стать успешным писателем?
Да потому что. Не хочу сейчас об этом.
Жизнь заставляет верить в чудеса. Если не случится чуда, то есть если не сработают невидимые сегодня умом-разумом факторы, нам конец. И вам еще пришлось бы поискать такого человека, как я, который так жаждал бы поверить в чудо и так страдал бы оттого, что это невозможно.
Я бы уже давно сдался и уступил человечеству с разгромным счетом, если бы не чувствовал на своих плечах груз ответственности.
За вас. «Са ваз!» – как говорит Браун с забавным британским акцентом.
Впрочем, для него это всего лишь вежливый тост.
Глава 17. Двойное имя
Сейчас мы, бегло осмотрев некоторые памятные места нашего города, заглянем в гости к моему приятелю Борису Ольгину, имеющему в жизни целых две (2) претензии.
Одна из них – считать себя Последним Великим Циником, человеком, смотрящим на вещи столь широко, что цинизм, по Борису, становился «единственным спасением от шизофрении» (одновременно, по-моему, формой заболевания иного рода; однако Борис не любил обсуждать эту деликатную тему).
Вторая претензия – запугать, отвлечь и, возможно, обмануть Судьбу, для чего Борис воспользовался старым добрым шпионским трюком – обрел второе имя, собственно, официальное, паспортное: Леонид.
Господин Ольгин провисел у меня приготовленным, слегка заржавленным ружьем до четвертого акта драмы, так и не выстрелив ни разу. Признаться, и дело-то с ним иметь не очень интересно. Я бы вообще отменил выход на сцену этого корявого персонажа. Я еще подумаю.
Сами посудите: чего ждать от закоренелого циника?
Цинизма. И ничего более. Правда, иногда г. Ольгин умел все же обернуть убожество цинизма блестящим, почти мудрым отношением. Ему удавалось (бессознательно!) обнаружить у плоской циновки цинизма великолепную изнанку роскошного ковра. Он всегда был готов к таким минутам, собственно, ради них и жил, но эти звездные мгновения случались на моей памяти несчастных раза два. Так что же нам ждать этих его редких прозрений, превращающих его из типа в характер? Хватит с нас характеров. Тем более типов. Пусть г. Ольгин Борис-Леонид выдаст свою репризу – и свободен. Я также согласен с такой радикальной постановкой вопроса. Типы засоряют окружающее пространство, в литературе они сплошь главные герои, их тьмы и тьмы, уже не продохнуть от них, а тут еще яркий их представитель прет в мой роман (в котором и так, кстати, достаточно присутствует типчиков, склонных к эволюции в характеры).
Шлагбаум на сцену! Гм-гм.
Что значит изобразить характер? Это значит прибегнуть к технологии искусства цивилизации, и в очередной раз изобразить человека, живущего бессознательной жизнью. Собственно, женщину (и пусть никого не вводит в заблуждение хроническая небритость, запах перегара и склонность к насилию). А мне нужно изобразить волнения сознания. И не характер здесь важен, а способность фиксировать диалектику ума и связанную с ней диалектику души. Мне нужно изобразить личность. Мужчину. Ясно?
Но о личности писать – не всякому дано. Taceat de Achillo, qui non est Homerus. Пусть молчит об Ахилле тот, кто не равен Гомеру.
Хватит литературы характеров, даже очень хорошей. Даже гениальной. Хватит! Тошнит уже. Надеюсь, вам когда-нибудь станет понятно, что тип и характер – это структура священных персонажей Библии, куда личностям, кстати, вход строго-настрого воспрещен (так написано в «Целостном анализе литературного произведения»; и я написанному верю). Стоит ли удивляться, что на полках в моем Кабинете святую для цивилизации литературу днем с огнем не найти. Равно как и литературу игры и «прикола», модную настолько, что ей не до таких пустяков, как личность. И устарела старина, и старым бредит новизна. В столице культуры характерам делать нечего. Там расчищено место для личностей. Которых пока не густо. Гм-гм.
С другой стороны, раз уж я вышел в город, да еще с целью посетить г. Ольгина, раз уж меня потянуло к этому типу…
Итак, я встретил Бориса на проспекте, сразу настроившись на противное противостояние. Это же тип, надеюсь, хорошо вам знакомый. У них ни гроша за душой, поэтому проявления их пустоты всегда многозначительны и задушевны. Ничего у них не бывает просто так, естественным образом, все с дешевым подтекстом. С ним не общаешься, а обкладываешь друг друга комплиментами.
Диалог нормальных мужиков (тоже, правда, типов, но сейчас не в этом суть). «Ну, что, по пиву?» «Конечно, по пиву. Для начала». «Тогда пошли?» «Пошли. За пивом и поговорим…»
Диалог с Ольгиным: «Привет, Борис. Хорошо выглядишь, приятель». «Похудевшая лошадь еще не газель». «Может, пивца испить, Борис?» «Пивца, ты сказал? То есть, собственно, пива? Ты имеешь в виду легкий хмельной напиток, за которым закрепилась репутация простонародного пойла? Ты предлагаешь мне пива? Я правильно тебя понял?» «Да, предлагаю. Последний раз». «Последний раз… Это мне, последнему цинику?! Пойдем, я умираю от жажды».
Ну, не урод? Мог ли я не пришлепнуть его «Цицероном», этой остроумной, звонкой кличкой, в которой бронзой отдавал металл ораторского искусства, сливаясь с гулкой пустотой тявканья Цербера, засевшего в бочке Диогена? А рядом простирались вечные пейзажи (голубое небо, бирюзовое море, зелень олив), голую ступню грел теплый известняк, по которому явно ступала нога и нашего героя, Геракла, спешащего добыть золотые яблоки и тем самым вернуть себе свободу… Ничто не сравнится со свободой! Но это я уже не в ту степь. Гм.
Ко мне г. Ольгин обращался не иначе как «господин Перелетов», с некой грустной иронией, намекая, очевидно, что имя мое в этом мире не произносимо, это казус, а не имя, курам на смех, сменить бы его, от греха подальше.
Итак, я встретил Бориса на проспекте…
Я – ему:
– Привет, Цицерон. Как времена, как нравы?
Цицерон. Судя по нравам, времена давно прошли.
Я. Хорошо сказано, Цицерон. Ладно, скажем проще: как дела, старина?
Цицерон. Как дела… Старина…
Он покрутил мои слова так и этак, заставляя меня ожидать искусного подвоха, и, наконец, вынес вердикт:
– Дела в этом безумном мире могут вершить только безумцы. Умные люди должны бездельничать.
Я. Цицерон, мне крыть нечем. Ты изрекаешь какие-то абсолютные истины. Хотя эта специализация банальна, твои абсолюты поражают воображение.
Цицерон. Абсолютная истина в том, что жизнь паршива, а жить хочется…
Вот ради этой реплики и нужен был нам Цицерон. Вы можете целый день кружить по городу Минску, но не встретите человека, который сказал бы вам такое. Эта реплика явно превращала Цицерона из типа в характер. Достаточно сказать в жизни что-нибудь умное – и ты уже другой человек. Навсегда. Я бы и сам мог сказать нечто подобное, но, во-первых, слизал бы у Цицерона, а во-вторых, он сказал лучше некуда. Именно в таком виде эта циническая сентенция попадет в мои скрижали. Ай да Цицерон!
Но что-то меня в нем насторожило. Дело в том, что умные вещи может состряпать и произнести только живой человек; а живой человек – это влюбленный (уже или еще). Гм-гм. Я посмотрел на Цицерона и сказал (пытаясь ответить себе на вопрос, зачем нужен мне был Цицерон, зачем я направился к нему?):
– Если хочется жить – ищи женщину; найдешь ее – жизнь станет паршивой. Не так ли?
– Я с большой иронией отношусь к тому, что насквозь иронично. (Клянусь: это уже записано в моих скрижалях! Я сам сотворил эту антициничную пилюлю – за несколько лет до описываемой встречи на проспекте. Что за лихо?! Бабочка разнесла мои откровения по свету? А, W.C.? Кто-нибудь что-нибудь понимает во всех этих таинствах?) Цинизм и ирония кончаются там, где начинается любовь.
Я чуть не упал на асфальт, этот крупнозернистый ковер цивилизации, истребивший траву на гектары и мили в радиусе от нас. Вот он, ум мгновения, mens momentanea. Таким беззащитным, и оттого могучим, я не видел Цицерона никогда. Он всегда, как клоун, щеголял в латах дешевого цинизма. На моих глазах характер начал превращаться в личность. Ружье выстрелило раньше пятого акта, хотя никто не предполагал, что оно вообще будет стрелять. Этот случайный аксессуар уже практически снимали со стены. Обращались осторожно – и вот тебе на! Чуть не разнес вдребезги все мои теоретические построения. И ты, Цицерон? Не ранило ли кого? Не зацепило ли? Никогда не знаешь, чего ждать от этих влюбленных умных мужчин.
– Послушай, Леонид…
Пришлось мне прогуляться с ним по проспекту и с его помощью уяснить себе, что глупая любовь делает человека (читай: мужчину) значительно умнее, чем был он до любви. Женщины делают нас умнее.
(?)
(!)
Это воодушевило меня, и я стал ожидать от себя философских прорывов уже в ближайшее время. Так оно, в принципе, и случилось.
Вскоре я засяду за роман, который вы сейчас читаете.
Мы, увы, забыли о памятных местах. А все потому, что г. Ольгин удивил. Эта встреча не изменила мое мировоззрение, нет, она заставила меня иначе взглянуть на некоторые вещи. Я, кстати, пообещал подпустить Цицерона к моей Стене (факт, ранее немыслимый в наших отношениях). Почти в пятьдесят лет люди изволили пойти навстречу друг другу. Где ж вы были раньше, господа?
Признать Бориса другом мне мешало кочующее из уст в уста выражение (надо признать, справедливое): скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Расстались мы вечером. Я один шел по городу, сопровождаемый сиротливым сиянием. Поднял голову, ожидая увидеть испускающий дух желтый комок. Ничего подобного. Теперь полумесяц напоминал истекающий медовым соком аккуратный ломоть душистой дыни, искусно обернутый роскошной синей салфеткой, расшитой серебряными звездами. Сервировка дастархана была осуществлена со знанием дела. Блюдо подано.
Официант, устройте брызги шампанского! И пустите кровавую кометку где-нибудь сбоку: она оживит натюрморт. В общем, достаточно выйти из дому и заглянуть за кулисы неба (или в глаза небу?), как ощущение обыденности жизни уступает место тревожному ожиданию чертовски приятных перемен. Душа томится, и стоит ей узреть густую синь, услужливо оттеняющую соблазнительно зрелое желтое, как тут же заворошатся ночные желания. Нет, женщина, ты не любила ночь; ночью ты боялась самой себя. Хочется, хочется дальних стран и неземных страстей, хочется забыть о трезвящем солнце полудня, разгоняющим рой мутных туманных томлений.
Когда ничего нет, многого хочется.
Ну, вот задерет голову вверх тип или характер – и что он там увидит?
Вспаханное поле, усеянное светлячками, погоду на завтра или обсыпанный алмазами скипетр Зевса. Сколько можно такими глупыми глазами смотреть на Вселенную?
То ли дело личность! Запрокинет личность голову вверх, до хруста в позвонках, уставится ясным взглядом в темное небо – и у нее вмиг появится столько объективных причин для вселенской грусти, что захочется на все субъективно наплевать.
Но личность никогда не унизится до того, чтобы бодро и жизнерадостно опустить голову вниз, изучая пытливым взором острые носы пыльных башмаков.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































