Текст книги "Лишний Пушкин"
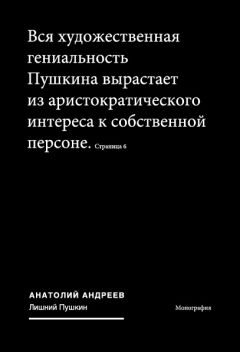
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
2. «Женское» как структура персонажа в литературе
(на материале романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)
Все «лишние люди», которые являются вовсе не лишними, а даже обязательными персонажами литературы как формы культуры (ибо лишние представляют собой модус функционирования личности в современном типе социума), так или иначе показаны в отношениях с женщинами. Лишний и любовь – понятия почему-то неразделимые. Почему?
Потому что отношения женщина – мужчина представляют собой модус отношений психика – сознание, натура – культура. Выявление сущности культуры наиболее эффективно при контакте с ее противоположностью – натурой. Вот откуда эти бесконечные rendez vous, эти испытания любовью.
Любовь любовью, однако не это делает роман романом, вопреки распространенном заблуждению, будто любовь и есть едва ли не решающий романный признак. Что стоит за любовью? Если за любовью не просматривается некий смысловой остаток, а ощущается только горько-сладкий осадок, то перед нами не роман. Главная интрига романа, собственно, романный строительный материал, – это логика духовного становления человека (в «Евгении Онегине», в частности, – это логика духовного становления Онегина). А логика эта неумолима и неотменима (объективна), ибо она отражает закон: духовное становление – это путь от психического (бессознательного) освоения мира к сознательной – концептуальной, философской – регуляции. Внутренний сюжет романа, содержание (в точном смысле этого понятия) сводится к тому, что Онегин превращается из человека в личность, из нерассуждающего дамского угодника в умудренного философа. Способ такого превращения – мысль, умение думать, идти от частного к общему, от общего – к универсальному. В этом контексте любовь может представлять собой подлинно культурный сюжет (в основе которого – «воспитание чувств», где роль воспитателя, конечно, отводится разуму), ту самую интригу превращения человека в личность, а может так и остаться изящным «описанием чувств» разной продолжительности и интенсивности (то есть так и не стать проблемой разумного существования). Любовь любви рознь; любовь как проявление мужского начала в корне отличается от любви как способа женского существования. Тем не менее любви покорны не только все возрасты, но и натура, и культура, и мужчина, и женщина. Именно любовь выступает связующим звеном в жизни человека, трагически «поделенного» на мужчину и женщину, и вместе с тем стремящегося к спасительной целостности.
Если присмотреться, как духовно (и, следовательно, эстетически) выстроен «мыслящий» герой А.С. Пушкина Евгений Онегин, то с удивлением можно обнаружить, что момент бессознательного (женского) играет в становлении умного персонажа едва ли не решающую роль.
Почему Онегин так поклонялся «науке страсти нежной»?
Почему он вдруг перестал ей поклоняться, почему им вдруг «овладел» «недуг» («которого причину», если сознательно отнестись к «недугу», «давно бы отыскать пора»)?
Почему он, покинув Петербург, отправился в деревню?
Почему он, «философ», «сошелся» с поэтом Ленским?
Почему он напросился в гости к Лариным, хотя прекрасно понимал бессмысленность этой затеи?
Почему он с таким раздражением возвращался из гостей, вымещая свое забавное недовольство на ни в чем неповинном Ленском (между ними состоялась, по сути, микродуэль, своеобразная репетиция последующей гибельной дуэли)?
Почему откликнулся на письмо Татьяны и добровольно поехал к ней на «исповедь» (поступая, между прочим, «очень мило»)?
Почему он жил в деревне «святой» жизнью «анахорета»?
Почему как-то раз зимой, обедая с Ленским, Онегин вдруг вспомнил о «соседках», о сестрах Лариных, причем первой назвал Татьяну? «Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя?»
Почему вновь согласился «заглянуть», «заехать» к ним (повод – именины Татьяны), хотя прекрасно отдавал себе отчет, чем должен закончиться этот странно мотивированный визит?
Почему он, «попав на пир огромный, уж был сердит»?
Почему «взор очей» Евгения, который «молча поклонился» имениннице, «был чудно нежен»?
Почему он вновь назначил виноватым в своей злобной хандре Ленского?
Почему «отмстил» своему другу так жестоко и легкомысленно?
Почему так глупо принял его глупый вызов на дуэль?
Почему, понимая всю глупость положения, не исправил его (хотя мог бы)?
Почему нажал на курок? Почему убил? Почему Ленского?
Почему уехал? Почему вернулся? Почему в Петербург?
Почему «дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не сумел»?
Наконец: почему вдруг влюбился в замужнюю Татьяну? И вдруг ли?
Почему пишет ей письмо, понимая всю бессмысленность, «безумство» отчаянного жеста?
Почему поехал к ней, выслушивать ее «исповедь», хотя, как всегда, «предвидел все»?
Почему?
Собственно, «мыслить» означает не что иное, как формулировать вопросы, намеченные безъязыким бессознательным, и пытаться на них ответить, чтобы тут же сформулировать новые вопросы. Мыслить – общаться с бессознательным; сознательно же общаться с бессознательным означает выяснять отношения между натурой и культурой.
Вот почему мыслящий герой все время ставит себя в тупик, то и дело задает себе трудноразрешимые загадки.
Человек как дитя природы является загадкой для себя как личности, продукта культуры. Собственно, только этим он и интересен; только это может превратить его в субъект и объект эстетического познания – в героя романа, проще говоря.
Вот и получается, что можно считать структурой персонажа ответы (потому что, потому что – и так далее), увязанные в систему, а можно – системно организованные вопросы (почему? почему?). В идеале, конечно, одно порождает, дополняет другое и, что принципиально, одно сливается с другим. Сознательное сливается с бессознательным; одно осознается как момент другого. Возникает целостно организованная информационная модель.
Почему Онегин так поклонялся «науке страсти нежной»?
Потому что в целостной системе «тело – душа – дух» начало витальное, психофизиологическое, информационно пока что довлело, временно главенствовало над ментальным, над духовно-психологическим.
Почему Онегин вдруг перестал поклоняться «науке страсти нежной», почему им вдруг «овладел» «недуг» («которого причину», если сознательно отнестись к «недугу», «давно бы отыскать пора»)?
Потому что он научился формулировать вопросы к себе, осознал, что он живет как существо бессознательное. Казалось бы, осознал и осознал. Однако существует закон сохранения информации, согласно которому, в частности, «кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Мыслишь, следовательно, презираешь существование без мысли; следовательно, презираешь себя самого, гения «науки страсти». Вот причина недуга.
А следствия, вытекающие из этой «метафизической» причины, становятся причиной несчастий, вполне сопоставимых с катастрофой. Жить сознательно – значит, по определению, существовать автономно (личность – всегда отдельная единица в социуме, где счет идет на классы, касты и целевые аудитории). В психологическом плане жить сознательно – быть одиноким, в плане социальном – лишним. А вот существовать бессознательно – значит, по определению, тянуться к людям, жить совместно, семейно, не автономно. Татьяна, живущая, как и «все», жизнью бессознательной, может принять автономность Онегина только как «пародию», как бессмысленное чудачество, как временную моду на умонастроение. Онегин ее понимает, она его любит (любовь – это высшее проявление натур, чуждых сознательной регуляции). Отношения Онегина и Татьяны – это эталонные отношения эталонных мужчины и женщины. «Он» мыслит, и вследствие этого становится одиноким и лишним; «она» думает, что думает, и потому по себе судит о тех, кто способен мыслить. С ее точки зрения, «он» – жалкий путаник и беспринципный человек, «раб» «мелкого чувства»; с его точки зрения, «она» права уж тем, что является женщиной, от которой мысли может требовать только дурак. Они фатально не могут быть вместе, однако они фатально обречены вечно тянуться друг к другу, как это делают ум и душа. Концовка экзистенциального сюжета романа в стихах далеко не случайна.
«Недуг» определил судьбу.
Почему он, покинув Петербург, отправился в деревню?
Потому что в городе, столице, где, казалось бы, разум и культура должны определять жизнь духа, на самом деле люди живут страстями (хорошо, если «нежными»), думают желудком. Выбор деревни в этой ситуации становится жестом личности, формой протеста: лучше жить на природе, в природе и честно быть некультурным, естественным, чем делать вид, что ты выделился из природы и стал культурным. Такой выбор переводится на язык мысли следующим образом: в городах, где должна процветать культура, культуры не больше, чем в глухой деревне. Культура слаба; возможно, ее в принципе нет. Жест человека, не верящего в культурную природу человека, становится культурным по сути: перед нами уже сознательная регуляция поведения, противостоящая бессознательной. Онегин находится в культурном поиске, хотя и скрывает это от самого себя.
Почему он, «философ», «сошелся» с поэтом Ленским?
Потому что противоположности («противуречия», как сказано в романе) притягиваются друг к другу, сходятся. Это общая посылка (философская, однако, по своей сути: вот она, точка отсчета в модели мира, представленной в романе). В более конкретном плане союз философа и поэта – это модус единства ума и сердца, психики и сознания, культуры и натуры.
Почему Онегин напросился в гости к Лариным, хотя прекрасно понимал бессмысленность этой затеи?
Потому что сердцу не прикажешь: невозможно ограничить жизнь духа только функционированием мысли. Мыслить и, следовательно, презирать – недостаточно. Душа, пусть и мужская, требует любви, нравится это уму-разуму или нет (уму, кстати, это не может не понравиться, что в романе и произошло). Онегин рвется к Лариным – к любви, хоть ему самому и неприятно это осознавать.
И так далее.
Подобная структура, подчеркнем, особенно важна для героя самостоятельно мыслящего, «самодостаточного» (автономного), отдающего себе отчет в том, как его сознание зависит от психики, мысли от чувств. Герой же приспосабливающийся, не способный к познанию и самопознанию, ограничивается только «вопросами», которые даже не осознаются как вопросы. В жизни и судьбе такого героя (а чаще – героинь) констатируется наличие какой-то вездесущей данности, присутствие некой скрытой логики, а какой – Бог весть. Сущность таких персонажей проявляется через обстоятельства, но не формируется «на глазах» у читателя; сущность эта, очевидно, задана априори. Если и происходят события, то они затрагивают не духовную вертикаль (отражающую движение от психики к сознанию), а духовную горизонталь: переживания, даже страсти-мордасти, так и не трансформируются сначала в «мысль», а затем в «презрение» – чтобы вновь обострить «уже более глубокую мысль» и заставить ее принять «любовь» (чувства!) как одну из высших культурных ценностей. «Она была девушка, она была влюблена» (эпиграф к главе третьей, пер. с фр.): вот и вся сущность Татьяны Лариной. Так сказать, ларчик просто открывался.
Получается, что любовь Онегина – это культурная ценность, а любовь Татьяны – проявление натуры. Не совсем так. Это сильное упрощение и искажение сути дела. Сердце Лариной – ларец! – таило в себе подлинные сокровища, которые помогли Онегину совершить культурные открытия. Без любви Татьяны не было бы любви Онегина; без женщины не появился и не состоялся бы мужчина.
Строго говоря, вопрос, не требующий ответа (ибо подразумевается: любой ответ не исчерпает глубины вопроса), уже фактически есть культ мистического, иррационального, мягко говоря – чудесного, культ веры и надежды, культ женского (природного) начала в противовес мужскому (культурному). Либо мужское (философское) начало становится точкой отсчета в романе, модели универсума, либо женское (поэтически-психологическое). Или сознание познает психику (персонаж мыслит) – или психика угнетает сознание (персонаж утопает в бессмысленных переживаниях). Роман как литературный жанр – это всегда роман (тип отношений) психики и сознания, содержание которого – любовь, тот сознательно-бессознательный симбиоз, где пересекаются и тщетно, но с предельной человеческой самоотдачей, пытаются «сплавиться» психика и сознание, нуждающиеся друг в друге. «Он» и «она» перестают быть вселенскими сиротами, однако цена за это единение – трагическое разочарование, цена за которое – моменты космической гармонии.
Пушкин недвусмысленно назвал свой роман в стихах (вновь бессознательный призыв к гармонии, результату сознательного отношения!) «Евгений Онегин», однако заставил своего героя общаться с поэтами и женщинами, так сказать, искать счастья не только в культурно-философской, но и в природно-поэтической среде.
В этом контексте Татьяна важна не сама по себе, а как объект отношений, характеризующих главного героя. Татьяна не претерпевает духовную эволюцию, равно как и Ольга, родная сестра Татьяны. Татьяна не мыслит, не познает. Она «выше этого»: она приспосабливается – с большим чувством такта и достоинства (можно сказать проще: с большим чувством).
Если в романе главное путь от человека к личности, то следует сказать со всей определенностью: женщина не может быть героем, субъектом романа. Женщина не решает романные (культурные) задачи. Женщина нужна в романе постольку, поскольку там присутствует культурный герой – мужчина, стремящийся стать личностью. Мужчина – это причина, женщина и любовь – следствия, а роман – причинно-следственный дискурс. Отсюда – известные схематизм, заданность и одномерность женских образов (поскольку женское начало детерминировано натурой жестко и однозначно), всех, подчеркнем, образов, в том числе (и прежде всего) таких хрестоматийных и «полнокровных» образов, какими являются в мировой литературе женские образы Тургенева и Толстого, восходящие к классической Татьяне Лариной. Женщина, реализующая свою природу во благо культуре, может быть только такой, и никакой иной. Собственно, это и есть «женщина на все времена».
В этой связи отметим: образ женщины – это всегда образ психологически аранжированной пустоты, ибо это образ чувства, но не образ смысла.
Что касается образа мужчины, образа личности, то он также многообразен и бесконечен в рамках жесткой культурной схемы: личность всегда решает универсальные задачи, стоящие перед человеком. Все мы в той или иной степени Евгении Онегины, нравится это кому-то или нет. Если ты не Евгений Онегин – значит, Татьяна Ларина; если не мужчина-личность, значит, женщина в облике мужчины. Третьего не дано.
Чтобы не обвинять мужчин (писателей и литературоведов), времена или нравы, следует опять же не упускать из виду причину причин. Все дело в том, что сама литература как вид искусства строго специализируется относительно культурных функций. Истину ищет философия, оформляя свои поиски в виде универсальных законов; литература является культурно ориентированной в той мере, в какой она вмещает в себя потенциал философии. Литература, как и любовь, – маргинальна. Иными словами, «мужчины» и «женщины» как разные информационные комплексы, образующие единый космос, целостное человеческое, гуманитарное и философское пространство, – это язык литературы.
Свобода творчества сводится к дилемме: или не замечать этой «обидной» зависимости, попадая в рабство к бессознательному (началу женскому), или подчиняться ей, обретая свободу выбора (выбор в культурном, а не в психологическом смысле, заметим, – это стремление лишить себя выбора, стремление выбрать закон, а не иллюзорную свободу от закона, это мужское дело). Закон, закрепощая, – освобождает; чувство независимости, освобождая, – закрепощает самым унизительным образом, ибо оставляет в дураках.
Литература как форма культуры – стремится к закону, хотя делает вид, что избегает его. Вот почему в литературе мало культурных героев, и много героев, противостоящих культуре, как мужчин, так и женщин. Много пустоты, то есть бессознательного.
Вместе с тем именно литература является способом преодоления этой пустоты, является связующим звеном между натурой и культурой, психикой и сознанием, мужчиной и женщиной.
3. Читатель как литературоведческая категория
(на материале романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)
Проблему читателя как предмета литературоведческого познания для начала можно приблизительно очертить с помощью комплекса вопросов (что само по себе свидетельствует о наличии читателя как актуальной, далекой от окончательного решения проблемы).
В процессе аналитической работы это позволит перейти к определениям или компактным словесным формулировкам.
1. Можно ли рассматривать читателя как самостоятельный субъект сознания, реально структурирующий художественность произведения (то есть отчасти формирующий концепцию личности – ценностную систему отсчета – в произведении и, соответственно, стиль) и в этом смысле являющийся литературоведческой категорией?
2. Если да, то каково место читателя в системе автор (писатель) – повествователь (образ автора) – рассказчик – лирический герой (иначе говоря, в системе выявленных субъектов сознания)?
В контексте целостной методологии сформулированные вопросы позволяют дифференцировать читателя как воспринимающее сознание (вполне автономное по отношению к художественности произведения) и читателя как воспринимающее сознание («запрограммированное» писателем!), которому отводится структурообразующая роль в художественном континууме.
Итак, читатель интересует нас как компонент художественной структуры, и, соответственно, как литературоведческая категория. Однако, повторим и подчеркнем, мы можем изучать и читателя-реципиента – как специфического потребителя литературно-художественной информации. В этом случае мы меняем предмет познания, и даже саму науку: читатель становится предметом исследования социологии литературы, психологии, педагогики и, соответственно, превращается из литературоведческой в социологическую (педагогическую, психологическую и так далее) категорию. Проблема читателя связана с целым комплексом гуманитарных проблем: с психологией восприятия произведения, проблемами воспитания, образования, поведения.
Следует иметь в виду подвижность границ исследуемого объекта, возможную (иногда невольную) переакцентировку, вызывающую подмену или размывание предмета изучения. В таких случаях следует называть вещи своими именами: читатель как воспринимающее сознание и читатель как категория литературоведения – это разные категории разных наук.
Таким образом, читатель-реципиент представляет собой субъект сознания, воспринимающего произведение (сложно организованную информационную единицу – художественную целостность) извне; читатель является субъектом сознания, формирующим художественность произведения изнутри.
Как ни парадоксально, читатель-реципиент вынужден воспринимать читателя как носителя концептуальной информации, как компонент художественности. У читателя с читателем могут сложиться, а могут и не сложиться отношения.
Обратимся к хрестоматийному во многих отношениях «Евгению Онегину», в том числе в отношении структуры субъектов сознания (так называемой субъектной организации произведения, которая представляет систему точек зрения на мир).
Вот необходимый нам момент художественной целостности. (Текст цитируется по изданию: Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. IV. – М., «Правда», 1981; жирным шрифтом выделено мной – А.А.)
Гл. VIII, строфа XLIX
Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!
Автор (писатель), тоже, между прочим, понятие из арсенала литературоведческих категорий [18]18
Андреев А.Н. Автор (писатель) как литературоведческая категория // Андреев, А.Н. Теория литературы: личность, произведение, художественное творчество. Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2. – Минск, БГУ, 2004. – С. 14–19.
[Закрыть], достаточно четко формулирует свое отношение к читателю. Принципиально важно, что читатель видится писателю либо как друг, либо как недруг. (Это сделано, заметим, в самом конце произведения, однако в соответствии с логикой художественной в высококлассном произведении невозможно начало, которое не было бы промаркировано смысловыми вкраплениями, предвосхищающими «конечный результат»; и наоборот: концовка, как правило, проясняет начало; можно сказать и так: начало и конец могут в известном смысле меняться местами – в зависимости от избранной точки зрения на художественный космос, целостность.)
В этой связи писатель обращается к читателю: 1) как к сокровенному субъекту диалога, читателю-другу, союзнику, единомышленнику; 2) как к субъекту-антагонисту, читателю-недругу.
Образ читателя-друга обозначен еще в самом начале романа в стихах (что, как видим, уместно вспомнить в конце):
Гл. I, строфа II
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель; (…).
В конце романа писатель переходит со «своим читателем» на ты. Они сошлись. Что послужило причиной сближения?
Обратим внимание: писатель на ты не только со своим читателем, но и с Онегиным, своим добрым приятелем. В этом контексте приятельские отношения разборчивого писателя-автора с читателем-другом не выглядят случайными.
В «Евгении Онегине» чрезвычайно важен писательский прием, который становится способом сплести воедино интересы писателя и читателя, способом вовлечь одну сферу интересов в другую. Я имею в виду так называемые отступления (отступления от чего? от генеральной концептуальной линии произведения? но ничто так последовательно не раскрывает концепцию, как пресловутые отступления), которые представляют собой неотступное следование за неким законом личности, являются непосредственным посылом к читателю-другу (и, соответственно, способом завоевать нерасположение читателя-недруга, читателя-потребителя развлекательной информации).
Отступления как нечто лишнее по отношению к стволовой сюжетной конструкции концентрируют в себе самое главное (что соотносится с философией романа: главным героем здесь становится очень умный, следовательно, лишний, с точки зрения социума-толпы, человек).
Вот образчик общения писателя и читателя посредством отступления.
Гл. I, строфа XXVIII
Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Раправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрыпок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.
XXIX
Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума…
И далее в строфах XXIX–XXXIV первой главы (всего шесть строф) дается знаменитое отступление, посвященное «ножкам милых дам». После этого отступления – «вперед, вперед, моя исторья!» – вновь возвращение к Онегину:
Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он.
При чем здесь ножки?
Начнем с вольного обращения писателя «наш герой», особенно ценного потому, что это слово-воробей невольно, однако же естественно, слетело с уст («Вот наш герой подъехал к сеням»). Чей это «наш», спрашивается?
«Наш» в контексте повествования – значит, добрый приятель писателя Пушкина, писателя-автора романа, читателя-друга, читателя-друга.
Поскольку писатель уже отделен от писателя («всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной»: это, строго говоря, принцип размежевания родственных субъектов сознания в романе), последний может позволить себе порезвиться, поимпровизировать. Тем самым достигается, с одной стороны, эффект дружеской беседы, когда добрые приятели веселятся в тесном кругу («люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина»), а с другой – история писателя как бы является продолжением истории Онегина, вплетается в нее, что вновь позволяет увидеть связь между теми, которых роднит сама «разность». Само игривое «отступление» посвящено тому периоду в жизни писателя, когда он весьма напоминал теперешнего Онегина («Во дни веселий и желаний Я был от балов без ума: Верней нет места для признаний И для вручения письма»).
Ножки становятся символом «веселий и желаний», то есть бездумного отношения к жизни – той самой первой фазы жизни лишнего, когда он еще не замечает разности между собой и всеми, толпой, а все, естественно, принимают его за своего (ибо он, Онегин, «умен и очень мил», «как ты да я, да целый свет»).
Вот при чем здесь ножки: они не при чем, не в них дело – дело в духовной близости тех субъектов сознания, которые способны сплотиться вокруг другого символа – Онегина.
Писатель и читатель как родственные души находят друг друга в отступлении: это их автономизированная территория, их ареал обитания.
Вот почему писатель с читателем на ты: они одной крови, одной духовной породы. Читатель становится проекцией писателя, в известном смысле превращается в его альтер эго. Так «мы» духовно размножаемся, «нас» становится больше. До толпы, которая прирастает огромным количеством нулей, «нам» далеко, однако сам факт того, что Онегин не феноменально единичен, не фатально одинок (одиночество – это отчетливый символ смерти), должен убеждать читателей в том, что лишние жизнеспособны, – этот факт должен превращать некоторую часть читателей в читателей.
У незримого читателя есть еще одна неявная, однако же обременительно-ответственная функция. Разделяя читателей на «друзей» и «недругов», писатель, тем не менее, обращается к ним скорбно-иронично «о мой читатель», то есть объединяет их своим обращением. Почему?
Дело в том, что любой романтически возвышенный панегирик, адресованный читателю, одновременно представляет собой язвительнную филиппику, адресованную читателю. Идея единства противоположностей, которая своим философским светом буквально пронизывает роман от начала до конца, сквозит и в этом приеме. «Мой читатель» – это художественный модус единства противоположностей, это раздвоение субъекта сознания, которое, с одной стороны, объединяет писателя и читателя-друга перед лицом читателя-недруга, а с другой – заставляет искать духовных союзников именно среди недругов, среди кого же еще. Иного источника пополнения лишних попросту не существует. Писатель нуждается в читателе каким бы он ни был, кто б ни был он! Массовый читатель, скорее всего, его не поймет, однако писан писан все же для читателя, для кого же еще. Отсюда насмешливая и вместе с тем горькая интонация – неповторимая мелодия и несравненное достоинство пушкинского шедевра, которое превращает его в библейское по масштабам воздействия на воспринимающее сознание творение. Блистательное начало Главы восьмой – реакция на возвращение Онегина писателя и читателей – в этом отношении является своеобразным отступлением отступлений (строфы VII–XII).
Гл. VIII, строфа IX
– Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?
Далее – иронический панегирик (строфа X, «Блажен, кто смолоду был молод»), а всед за этим – романтическая филиппика (строфа XI, «Но грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана»). Амбивалентность текста позволяет адресовать его любому читателю, ибо социоцентрическая составляющая является оборотной стороной персоноцентризма, и наоборот.
Такие признаки читателя, как «благоразумие» (строфа XII, «Предметом став суждений шумных, Несносно (согласитесь в том) Между людей благоразумных Прослыть притворным чудаком, Или печальным сумасбродом, Иль сатаническим уродом, Иль даже Демоном моим») превращают его в оппозиционного читателя, читателя-недруга, своеобразный собирательный комический (сатирический) персонаж (которого мы видим, конечно, глазами читателя-друга).
А вот если читатель разделяет мнение, согласно которому
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь как на обряд
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей —
то такой читатель референтен страстному тандему писатель – Онегин.
Вот еще один образец тонкого объединения-размежевания, шутка, адресованная одновременно читателю-другу и читателю-недругу, каждый из которых, надо полагать, будет «судить» шутку в меру своей духовно-эстетической подкованности.
И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей…
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот возьми ее скорей!) (IV, XLII)
По форме это обращение к читателю, который ориентирован на банальность, на «обряд», на внешнее, поверхностное восприятие – к читателю-недругу. «Возьми скорей» не только банальную, ожидаемую рифму; в «нашем» контексте провокация писателя прочитывается как «возьми свою правоту, не стесняйся, смело по себе суди о романе, с высоты своего низкого вкуса потешь себя, приятель, все равно ты возьмешь не то» – то есть писатель в свою очередь ожидает предсказуемой, банальной реакции. Все неожиданное в романе, внутренне противоречивое, подлинно глубокое адресовано читателю-другу, способному оценить, например, пассаж о розах и в таком парадоксальном ключе: если бы даже после морозов последовали розы безо всякого авторского иронического комментария, то надо же «взять» во внимание, что банальная рифма вовсе не банально поддерживает скрытое противостояние, пронизывающее весь роман: жизнь – смерть, эрос – танатос.
Вот они, чудеса писательской подачи материала. И нашим, и вашим…
Таким образом, читатель читателю рознь. Читатель как субъект сознания может выполнять разные функции. Сатирически изображенный читатель становится характеристикой безликой толпы, а читатель-друг – это характеристика личности. Мнения читателя, каким бы он ни был, включаются в художественный дискурс, собственно, становятся им.
Ответ на вопрос «а зачем, собственно, писателю (а также писателю) вводить образ читателя?» видится таким.
Во-первых, это делается далеко не в каждом произведении – как правило, в тех, где главный герой-бунтарь, личность, противостоит серому социуму, и именно образ читателя, избранного или заурядного, помогает сориентироваться в расстановке сил; во-вторых, образ читателя (элемента социума) становится важной нюансировкой в ментальной палитре: это способ подчеркнуть одиночество героя (или, если угодно, воздать герою должное – поставить его на недосягаемую высоту, на персональный пьедестал); в-третьих, читатель – это способ обратиться к читателю, который появляется там, где эстетическое воздействие художественного произведения превращается в духовное, и тем самым попытаться разорвать порочный круг «горе от ума».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































