Текст книги "Изувер"
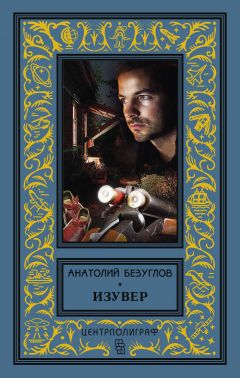
Автор книги: Анатолий Безуглов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Вполне, – кивнул Гольст.
– Как я уже сказал, – продолжал Ветров, – в животном мире сход со сцены старших, отживших поколений заложен в генетическом коде. Выполнил свою функцию – умирай. Но то, что у животных регулирует сама природа, человечество должно делать с помощью разума. Можете себе представить, какие кардинальные перемены принесет то, что я предлагаю! С исторической точки зрения это будет настоящая революция! Во всем! В социальном плане, в промышленности, в искусстве… Мир резко двинется в своем развитии вперед.
Ветров стал рисовать перед Гольстом картину поистине неземного рая, который наступит, если его «идею» воплотить в жизнь.
«Бред какой-то, – думал Владимир Георгиевич. – Неужели он все это серьезно? Или это симуляция болезни? А может, он действительно сумасшедший?»
– Не думайте, что мои выводы не имеют научного базиса, – сказал Борис. – Геронтологию, то есть науку о старении, я изучил довольно основательно. Очень много дали мне труды профессора Аршавского. Это один из авторитетнейших наших ученых в области изучения возрастной физиологии человека и животных. Правда, Аршавский занимается проблемой продления человеческой жизни. Но я пришел к выводу, что этого-то как раз и нельзя делать ни в коем случае.
Борис печально усмехнулся.
– Достижения медицины имеют и обратную сторону медали. Я уверен – и это мое кредо: разрешать жить особям после выполнения ими основной задачи, то есть после того, как они родили новое поколение, – это значит рубить сук, на котором сидишь. – Ветров замолчал.
– Выходит, вы считаете, что всех людей после определенного возраста надо убивать? – спросил Гольст.
– Вы меня не так поняли, – спокойно ответил Ветров. – Я изложил вам суть, принцип, что ли… Надо вернуть человечеству то, что оно утратило в процессе эволюции. Короче, заложить в его гены то, что происходило с человеком раньше, когда он был животным, то есть умирание по окончании детородной функции. Воплощение моей идеи стало теперь возможным благодаря достижениям генетиков, в частности генной инженерии. Научную сторону вопроса я и хочу изложить в записке, чтобы послать в соответствующий компетентный орган – в Президиум Академии наук. Для доказательства того, насколько я убежден в правоте и чрезвычайной актуальности своей идеи, я решил начать с себя…
– Не с себя, – поправил следователь, – а с родителей.
– Да, – кивнул обвиняемый. – Но сами понимаете, отважиться на такой шаг тоже непросто… Конечно, подобный метод груб и, разумеется, не может быть принят. Но еще раз повторяю: на основе самых последних достижений генетической науки вопрос можно решить самым гуманным способом. Особь будет умирать сама по себе. Кстати, моя идея по своей сути глубоко человечна. Старость ведь не что иное, как болезнь. Страдания старости тяжелы не только для окружающих, но и для самого индивида. Уж лучше уходить из жизни, минуя недомогания и немощи. Так что, как вы могли понять, убил я родителей, сообразуясь со своими принципами.
– А сестру? Она ведь еще ребенок, только-только вступала в жизнь. Как-то не согласуется с вашей концепцией.
Ветров не ответил. Владимир Георгиевич снова спросил, зачем Борису понадобилось убивать сестру.
Тот провел рукой по лицу и негромко произнес:
– Что-то неважно себя чувствую. Устал, наверное…
– Просто вам нечего ответить, – заметил следователь. – Скажите, когда у вас созрел план преступления?
– Я не считаю это преступлением, – возразил Ветров.
– Хорошо, когда вы поняли, что готовы воплотить в жизнь вашу «идею»?
– Окончательно – в начале августа.
– После вашего возвращения из Москвы и неудачного сватовства к Макаровой? – уточнил Гольст.
– В начале августа, – повторил обвиняемый, игнорируя замечание следователя. – А непосредственно осуществлять ее я начал семнадцатого августа.
– В каком смысле – осуществлять? – спросил Гольст.
– Семнадцатого августа, за четыре дня до убийства Ларисы, я вырыл в погребе на даче яму. Дома в это время никого не было: мать и сестра уехали в город, отец возился на участке. Я спустился в погреб, взял с собой лопатку-саперку и простыню, которую привез из города…
– Зачем простыню?
– Чтобы складывать на нее землю из ямы. Ведь на глубине она влажная и могла бы оставить на грунте в погребе мокрое пятно.
– Вы хотите сказать, что заранее приняли меры к сокрытию преступления?
– Еще раз повторяю, я не считаю это преступлением, – сказал Ветров и продолжал: – Я вырыл яму глубиной приблизительно метр двадцать. А когда закрывал крышку люка, то вставил в щель бумажку, половину листа из тетради…
– Для чего?
– Чтобы знать, лазил кто в погреб, видел ли мои приготовления или же нет, – спокойно объяснил Ветров. – Осуществил я свое намерение в отношении сестры, как вам уже известно, двадцать первого августа. Мать продавала цветы в городе, отец работал на участке. Я точно знал, что он будет там не меньше часа.
– Когда ваш отец вышел в сад?
– В половине восьмого вечера. Я позвал в свою комнату Ларису и… – Борис замолчал.
– Ну, продолжайте, – попросил следователь.
– В общем… лишил ее жизни…
– Задушил руками?
Ветров молча кивнул.
– Дальше?
– Убедившись, что она уже не дышит, я перенес ее в подвал и положил в приготовленную яму. Туда же бросил ее красные туфли, в которых она обычно выходила на улицу, и две настольные игры. Закопал яму песком, который лежал на простыне, а простыню свернул и отнес на чердак. Через несколько дней я отвез ее в город. Отец, как я и предполагал, вернулся через час, то есть в половине девятого…
Дальше следовал рассказ о том, что уже было известно: как вернулась из города Надежда Федоровна и начались поиски девочки. При этом, по словам Бориса, он умело разыграл нешуточную тревогу и сам активно участвовал в поисках сестры.
– Почему вместе с телом сестры вы закопали ее красные туфли и настольные игры? – задал вопрос следователь.
– Чтобы создать впечатление, будто она пошла играть к подруге, прихватив с собой коробки, – ответил Ветров.
– В тот вечер соседи нашли в поселке носовой платок Ларисы. Это вы подбросили его?
– Нет, – ответил обвиняемый, – он не принадлежал моей сестре. Но родители приняли его за платок Ларисы, а я не возражал. Даже обрадовался: это обстоятельство было мне на руку, так как выходило, что Лариса действительно гуляла вечером на улице…
Уточнив все детали, следователь перешел к выяснению обстоятельств убийства родителей. Борис признался, что сразу после «исчезновения» сестры стал склонять отца к самоубийству, старательно подогревал его отчаяние. Вел он подобные разговоры и с матерью. Доказывал, что после гибели Ларисы им уже нельзя жить со спокойной совестью. Все они виноваты в том, что с ней случилось нечто страшное, и так далее и тому подобное…
– Если бы они действительно покончили с собой, – пояснил Борис, – то избавили бы меня от тяжелого бремени – совершить еще два убийства. Но они на это не пошли. И мне ничего не оставалось, как осуществить свое намерение…
Ветров подробно рассказал, как готовил окружающих, в частности Ольгу Каменеву, к тому, что в его семье возможна еще одна беда. И все потому, что отец – шизофреник. При этом сам Борис не переставал играть роль убитого горем брата, совершенно потерявшего голову из-за исчезновения Ларисы.
За три дня до убийства родителей Борис перенес ружье в их спальню. Предварительно он попытался определить, как может человек выстрелить в себя сам из ружья? И пришел к выводу, что это можно сделать при помощи веревки, перекинутой через приклад. Веревку он приготовил тоже заранее.
– Вечером тридцать первого августа мы все играли в карты, – рассказывал обвиняемый. – Я, Ольга, отец и мать. Около одиннадцати часов родители пошли спать. Мать, как я уже говорил, в последнее время не могла засыпать без снотворного. В тот вечер я незаметно подсыпал ей в стакан с водой тройную дозу люминала. Отец засыпал и так. Значит, они ушли к себе, в спальню, Ольга легла в моей комнате, а я – в большой, на диване. Скоро я услышал храп родителей и пришел к Ольге…
– Она уже спала?
– Задремала. У нас была близость, – спокойно и цинично рассказывал Ветров. – Я сделал это намеренно. В случае разбора милицией случившегося у Ольги могли взять соответствующие мазки. Это послужило бы доказательством того, что мы были вместе. Затем я вернулся в большую комнату. В начале четвертого я зашел к родителям. Они крепко спали. Я снял со стены ружье, приладил веревку… Отца и мать я видел отчетливо: в окно падал свет от уличного фонаря. Первым выстрелом я убил отца, потом мать. Затем побежал к Ольге. Дальше вы знаете.
По словам Ветрова, утром он понял, что допустил несколько оплошностей.
В частности, сказал следователю районной прокуратуры, что дверь в спальню была закрыта. Испугало Бориса и то, что на майке и трусах у него оказались брызги крови. Но его просчеты не были замечены… Не лучшим образом была проведена и первая судебно-медицинская экспертиза (позже это явилось предметом особого обсуждения в прокуратуре области).
Когда дело о гибели супругов Ветровых было прекращено, Борис уверовал в то, что ему удалось скрыть содеянное.
Последующая отмена постановления о прекращении дела явилась для убийцы полной неожиданностью. Вот почему его больше всего беспокоило, не проговорится ли Ольга о том, что в роковой час он находился в другой комнате. Не давал Борису покоя и труп сестры в погребе. Он даже намеревался перезахоронить тело Ларисы где-нибудь в лесу.
После допроса Гольст выехал с обвиняемым на место происшествия. Ветров снова повторил свой рассказ об убийстве сестры и родителей, показав, где и как это произошло. Выезд на место происшествия сопровождался киносъемкой и звукозаписью.
Покушение на самоубийство, а также «идея» Ветрова ставили под сомнение его психическое здоровье. Слишком уж бредовые мысли высказывал он.
Возникал вопрос: это плод больного воображения или намерение ввести следствие в заблуждение? Ответ могли дать только специалисты. Гольст вынес постановление направить подследственного в Москву в Институт судебной психиатрии имени Сербского на стационарное обследование.
Комиссия врачей-психиатров пришла к единодушному выводу: Ветров здоров, а его «открытие» – попытка симулировать психическое заболевание.
С этой же целью он покушался на жизнь своего сокамерника, а также якобы пытался покончить с собой. Потом Ветров признался, что полез в петлю, лишь когда услышал за дверью камеры приближающиеся шаги надзирателя. Расчет, что надзиратель увидит его висящим и тут же спасет, оправдался.
Таким образом, надежда Ветрова на то, что его признают невменяемым, рухнула.
– Назовите истинные причины и мотивы вашего преступления, – попросил Гольст на первом же допросе после возвращения Ветрова из Института имени Сербского.
– Вы их отлично знаете, – ответил обвиняемый. – В моем дневнике, который вы так хорошо изучили, есть ответ и на этот вопрос.
– «Жизнь питается жизнью», – процитировал Владимир Георгиевич. – «Ешь других или тебя съедят». Так?
– Вы правильно поняли меня, – подтвердил Ветров и привел еще одно выражение из своей тетради: – «В мире побеждает только сильный». У меня в жизни все было запрограммировано. Я отлично знал, что уже в тридцать лет буду жить в Москве, иметь ученую степень, если не доктора, то кандидата наук обязательно…
– Ну а уж квартира, дача, машина – само собой разумеется, да? – подсказал Гольст.
– Естественно.
– Скажите, Борис Александрович, что означают следующие записи в вашем дневнике: «Фрау», «Днепр», «Рентген», «Каланча», «Цыганка»?
– Очень просто, – ответил обвиняемый. – Под шифром «Фрау» я имел в виду дочь заместителя заведущего облздравотделом. «Днепр» – дочь ректора нашего института. «Рентген» – это Ольга Каменева…
– Ваша жена, о которой вы сначала думали, что она внебрачная дочка проректора? – уточнил следователь.
– Да, – кивнул Борис. – «Цыганка» – дочь председателя горисполкома. А «Каланча» – Алиса Макарова. Прежде чем познакомиться с девушкой поближе, я узнавал, кто она, может ли быть кандидаткой в жены.
– Вы хотите сказать, будет ли выгодна для вас женитьба? – спросил Гольст.
– Совершенно верно: поможет ли этот брак продвижению по службе.
– Через будущего тестя?
– Да. Когда попытки жениться на «Фрау», затем на «Днепре», «Цыганке» и «Каланче» кончились неудачей, – продолжал Ветров, – я понял, что могу рассчитывать только на себя. Конечно, я не отбрасывал совсем мысль о выгодной женитьбе. Отнюдь. Но время подпирало. Как вы знаете, осенью я должен был поехать на практику в маленький провинциальный городок. Как правило, туда же распределяют на работу после окончания института. Чтобы вызвать к себе сочувствие и добиться отмены этого распределения, я решил первым делом убить Ларису. Но, совершив это, понял, что ее исчезновение не поможет мне в достижении намеченной цели. Тогда-то и возникла мысль убить родителей.
– А заодно стать наследником всего их имущества, – добавил Владимир Георгиевич.
– В общем, так, – не очень охотно подтвердил Борис.
Подтвердил потому, что деваться было некуда: об этом со всей убедительностью свидетельствовали факты.
И все-таки смириться со своим поражением Ветров не мог.
– Я почти достиг своего, – после некоторого молчания заявил он. – Согласитесь, все было задумано и сделано точно. Если бы не мои отдельные промашки… – Он досадливо поморщился.
– А вот в этом вы, Борис Александрович, глубоко заблуждаетесь, – возразил Гольст. – Ваши планы с самого начала были обречены на провал.
– Это почему же? – усмехнулся Ветров.
– Почему? Ваши жизненные установки в корне неверны. Не хотелось бы вспоминать ваших родителей… Они и так горько поплатились за свои ошибки…
– Они тут ни при чем, – нахмурился Ветров.
– Увы, очень даже при чем. Вы воспитывались в атмосфере меркантильности, поклонения деньгам, презрения к чести и совести… И все качества, которыми вы были наделены от рождения, – недюжинный ум, воля – подчинили губительной цели: стать выше всех, добиться заслуг и материальных благ за счет других, – сказал Гольст. – Но не вы первый… И дай Бог, чтобы стали последним. Мораль, подобная вашей, приводит и неизменно будет приводить к краху всех, кто встанет на такой путь. Потому что вы – против жизни. А значит, и жизнь – против вас…
Дело по обвинению Бориса Александровича Ветрова в убийстве своей сестры, отца и матери было передано в областной суд. Ветров признан виновным и приговорен к исключительной мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение.
Инспектор милиции
повесть
Глава 1
Окно моего кабинета выходило на площадь центральной усадьбы колхоза. Из него видны почта, столовая, магазин сельпо, клуб, тир и асфальтированная дорога, пересекающая станицу Бахмачеевскую, что стала местом моей первой службы.
Бросая взгляд на улицу, я почти всегда видел Сычова – моего предшественника, ушедшего с поста участкового инспектора милиции совсем не по своему желанию и теперь обслуживающего днем тир, а вечером кинопередвижку клуба. Сидя на корточках возле тира, он частенько ожидал, когда в магазине начнут продавать спиртные напитки.
Я не испытывал к Сычову никаких плохих чувств, хотя и знал, что его разжаловали и уволили. За что – мне в РОВД толком не объяснили. Говорили, что он большой любитель свадеб и поминок, которые привлекали его из-за этого самого спиртного. Как относится ко мне он, я понял довольно скоро. Но об этом я еще расскажу.
Одно из первых впечатлений в Бахмачеевской – медвяный запах, волнами прокатывающийся по станице, перемежающийся со степным запахом горьковатого настоя полыни и чебреца.
В первый же день моей работы ко мне вошла Ксения Филипповна и, переставив графин на стол, отсыпала из кирзовой черной сумки на пластмассовый поддон гору крупных, сладких и ароматных жердел[1]1
Мелкий абрикос (местн.).
[Закрыть]. Бархатистые желтые плоды, с перетяжечкой посередине, словно светились изнутри. И в комнате, выкрашенной темно-защитной масляной краской, вспыхнуло солнце, зазвенели тысячи пчел.
– Угощайтесь, Дмитрий Александрович.
Я сразу почувствовал себя мальчишкой, которому посторонняя тетя невесть за какие заслуги преподнесла палочку эскимо.
– Что вы, спасибо!.. Неловко как-то…
– Какая может быть неловкость? Нынче урожай на них дюже богатый. И сушу, и варенья внукам наварила, а сняла едва половину. Принесла вот, пусть полакомится кто зайдет. Вы бы сами рвали с дерева, стесняться нечего.
Дверь Ксении Филипповны Ракитиной напротив моего кабинета. И как ни выглянешь – всегда настежь.
Добрая пожилая женщина – председатель исполкома сельсовета. Взгляд у нее нежный, ласковый. И даже с какой-то жалостинкой. Так смотрел на меня только один человек – бабушка, мать отца. И взгляд этот смущает меня до слез.
Когда я ехал в Бахмачеевскую, в колхоз имени Первой конной армии, в РОВД сказали, что исполком сельсовета выделит мне комнату для жилья. Ракитина решила этот вопрос очень быстро. Она предложила поселиться у нее, в просторной, некогда многолюдной хате, в комнате с отдельным входом.
Почему-то мне все время кажется: вот-вот Ракитина подойдет, положит мне на голову свою руку, легкую, сухую и теплую, как рука бабушки, и скажет бабушкиным голосом: «Ну, Димка-невидимка, досталось тебе на орехи? А ты не серчай на своих рожателей (это об отце и матери), у них свои законы. А у нас – свои…»
Мне всегда хочется сквозь землю провалиться, потому что председатель сельисполкома в пух и прах разбивает весь запас солидности, который я с великим трудом собираю каждое утро, чтобы принести в свой кабинет вместе с тщательно выглаженной мышиного цвета формой, вычищенной фуражкой и погонами младшего лейтенанта.
Ксения Филипповна садится на стул и смотрит на меня. Ну точь-в-точь моя бабка, когда с полной тарелкой румяных пирожков, которые надулись так, словно вдохнули в себя воздух и не могут выдохнуть, пристраивалась на мою постель воскресными утрами.
Я невольно беру жерделу и надкусываю.
– Как идут дела, Дмитрий Александрович? – Ее пальцы собирают на сукне, покрывающем мой стол, мельчайшие соринки, бегают проворно и быстро.
– Спасибо, ничего.
Удивительно вкусно, черт возьми! Хочется есть и есть золотистые, тающие во рту плоды. Но я смотрю в окно и серьезно говорю:
– Я тут составил план кое-каких мероприятий. Хочу ваше мнение узнать. Надо порядок наводить…
– Что ж, – говорит Ксения Филипповна, – давайте ваш план, посмотрим. Действительно, порядок бы навести неплохо. – Она чуть-чуть улыбается. А я краснею.
Сычов вышел из сельпо. Карман его брюк оттопырен. Я машинально взглядываю на ручные часы. Пять минут двенадцатого. Он нырнул в темную пещеру тира и растворился в ней.
Мои мысли снова переключились на магазин, потому что из него вышел длинный парень в майке и синих хлопчатобумажных штанах до щиколоток. Бутылку он нес, как гранату, за горлышко.
Парень, пригнувшись, заглянул в тир и так же провалился в темноту…
– Я у вас почти месяц и поражаюсь: не продавщица, а клад… Спиртные напитки продает, как положено, – ровно с одиннадцати.
Ракитина кивнула:
– Дюже дисциплинированная Клавка Лохова. До нее мы просто измучились. Чуть ли не каждый месяц продавцы менялись. То недостача, то излишки, то левый товар. Хорошо, напомнил, надо позвонить в райпотребсоюз, чтобы отметили ее работу. Она у нас всего полгода, а одна только благодарность от баб. Вот только мужик у нее работать не хочет. Здоровый бугай, а дома сидит. Ты бы, Дмитрий Александрович, поговорил с ним. В колхозе руки ой как нужны.
– Обязательно, – ответил я. – Сегодня же.
Честно говоря, те дни, что я служу, просто угнетали отсутствием всяких нарушений и крупных дел. Не смотреть же все время в окно?
И вот опять мелочь – тунеядец. Странно, почему Сычов не призвал к порядку этого самого Лохова.
– Я тут подумала – бандура у меня без дела стоит, – сказала Ракитина. – Возьми домой, в свою комнату, все веселей. Оформим распиской. На время.
Сначала я не понял, о чем речь.
– Радио, говорю, стоит. Мне не нужно.
Так вот о чем! У нее в кабинете красуется старый приемник «Беларусь», занимая чуть ли не полкомнаты.
– Нет, нет! – отрезал я категорически. – Вещь казенная и пусть в общественном пользовании…
– Чудак! Для красоты стоит. Я не пользуюсь. А в клубе есть.
Выручает меня телефон. Он звонит отрывисто и хрипло в комнате напротив. Никто не подходит, так как Оксана, секретарь исполкома, укатила в Москву сдавать летнюю сессию в заочный юридический институт.
Ксения Филипповна уходит.
Я облегченно вздыхаю. И машинально начинаю глотать жерделы одну за другой. Мне жалко эту женщину, потому что в Бахмачеевской она живет одна. Четверо ее детей с внуками разъехались. Она заготовляет нехитрые крестьянские гостинцы и отсылает им с любой подвернувшейся оказией. Но, с другой стороны, ее отношение ко мне, как к маленькому, начинает беспокоить меня. Не подорвет ли это мой авторитет?
Ох уж эти двадцать два года! Я бьюсь изо всех сил, чтобы походить на настоящего взрослого мужчину. Но природа меня крепко подвела. Этот младенческий румянец, ямочка на правой щеке, кадык, как зоб у курицы. Но самое большое предательство совершили по отношению ко мне мои собственные усы.
Вы можете себе представить черного, как смоль, брюнета с редкими ржавыми усами? Это, увы, я. А без них нельзя. Потому что верхняя губа у меня вздернута, как у капризной девчонки. Вот и обходись после этого без усов. Нет, я о них давно мечтал. Пусть хоть редкие, но все же усы. Солидно…
Теперь телефон звонит у меня.
– Участковый инспектор милиции слушает, – отчеканил я.
– Забыла сказать, Дмитрий Александрович… (Я не сразу догадываюсь, что это Ксения Филипповна. Ее голос слышно не в трубке, а через дверь.) Когда вы вчера уезжали в район, к вам тут Ледешко приезжала с жалобой.
– Какая Ледешко?
– Из хутора Крученого. Я пыталась поговорить с ней, да она и слышать не хочет. Вас требует. Говорит, грамотный, разберется. – Ракитина засмеялась. – И приказать может.
– Я был на оперативном совещании в райотделе. А заявление она оставила?
– Нет. Сказала, сама еще придет.
– А какого характера жалоба?
– Насчет бычка…
В трубке смешок и замешательство. Потом:
– Вы сами разберетесь. Баба настырная. С ней посерьезней.
– Спасибо.
Через пять минут Ксения Филипповна заглянула ко мне.
– Будут спрашивать, я пошла до почты. Сашка, внучек, школу закончил. Надо поздравить.
– Конечно, Ксения Филипповна. Скажу.
Я видел, как она спустилась с крыльца и пошла на больных ногах через дорогу. И понял, почему насчет Ледешко она звонила: ей было трудно лишний раз выбираться из своей комнаты.
Трудно. Но не для внука.
…Вернулась она скоро. Я, заперев свою комнату, вышел на улицу. Закатил в тень старой груши свой новенький «Урал», еще с заводскими пупырышками на шинах, и медленно направился к магазину.
Сычов с приятелем сидели на корточках по обе стороны входа в тир. Над ними вился сизый дымок местного самосада, духовитого, пахнущего сеном.
Вообще мне было странно, что многие бахмачеевцы курили самосад. Даже некоторые молодые ребята предпочитали его папиросам и сигаретам.
Сычов напряженно ждал, поздороваюсь я с ним или нет. Я поздоровался. Он медленно поднялся с корточек и протянул руку.
– Осваиваешься, младший лейтенант?
– Знакомлюсь, – ответил я.
– Ну и как, власть? – расплылся в улыбке парень в майке, тоже суя мне руку лопаточкой.
– Нормально. – Пришлось поздороваться и с ним.
Им хотелось поговорить. Но я проследовал дальше.
Станица раскинулась на двугорбом холме. Она казалась островком среди безбрежных серебряных волн степи. Аккуратные белые хатки утопали в сумбурной зелени слив, жердел, вишен. Странные деревья – перекрученные стволы, изогнутые во все стороны ветки. В палисадниках, кое-где оперенных тополями, таилась прохлада. Но и туда, в уютную тень, проникал ветер, непрерывно сквозивший по станице. Теплый, сухой июньский ветер, настоенный на полыни, несущий пыль, пыль и пыль, от которой некуда укрыться.
В магазине тускло светила лампочка и стоял аромат хозяйственного мыла, керосина, дешевого одеколона и железа. Здесь торговали всем сразу – и хлебом, и галантереей, и книгами, и гвоздями, и даже мебелью.
Продавщица Клава, сухопарая, лет тридцати пяти, с большим ртом и глубокими, как у мужчины, складками возле уголков губ, болтала с двумя девушками. Увидев меня, она приветливо улыбнулась.
Девушки притихли. Стрельнули в меня любопытными взглядами.
Одну из них я знал. Вернее, сразу заприметил из моего окна. Она работала в клубе. В библиотеке. Стройненькая, ладненькая, беленькая. Теперь я впервые видел ее так близко. Бог ты мой, и бывают же такие синие глаза! Васильки во ржи…
Клава продолжала говорить. И беленькую называла Ларисой.
В магазин ворвался мальчишка лет двенадцати. Он положил на прилавок несколько монет.
– Чего тебе? – бросила продавщица, мельком взглянув на меня.
– Три пачки «Памира».
– Не дорос еще.
– Не мне. Батьке…
– Пусть батька и придет.
Парнишка стушевался. Собрал гривенники и, растерянно озираясь, вышел на улицу.
Я рассматривал допотопный трехдверный шифоньер, большой и пыльный, загородивший окна магазина.
– Берите, младший лейтенант. Недорого возьму, – сказала Лохова.
– Пока не требуется, – спокойно ответил я.
– Кур можно держать, – не унималась Клава. – На худой конец – мотоцикл…
Девушки прыснули. Я не знал, что ответить. Похлопал по дверце шкафа и сказал:
– Сколько дерева извели…
– Всю зиму можно топить! – вздохнула Лохова. – Завозят к нам то, что в городе не берут. Разве колхозники хуже городских? Им даже лучшее полагается за хлебушек…
Девушки вышли, и мы остались с продавщицей одни.
– Правильно вы говорите, – подтвердил я.
– А то! – обрадовалась Клава. – Вон, люди недовольны, думают, я товары сама выбираю…
– Неправда, люди вами довольны, товарищ Лохова, – улыбнулся я. – Всем довольны. Но есть одна загвоздочка…
– Что еще? – насторожилась Клава.
– Вы, я вижу, женщина работящая. А муж ваш…
Лицо Клавы стало суровое. Значит, не только я говорю ей об этом.
– А что муж? – вспыхнула она. – Что вам мой Тихон сделал плохого?
– Ничего плохого, – сказал я как можно миролюбивее. – Только ведь у нас все работают. В колхозе рук не хватает.
– У вас есть жена?
– Нет, не обзавелся еще.
– Тогда другое дело, – усмехнулась она, как бы говоря, что я ее не пойму. – Может быть, он больше меня вкалывает.
– Это где же?
– Дома, вот где! И обед приготовит, и детей накормит, а у нас их трое. Приду с работы, руки отваливаются, а он на стол соберет, поухаживает.
– Несерьезно вы говорите, товарищ Лохова. Это не дело для мужчины.
– Почему же не дело? Вон жена Павла Кузьмича, парторга, кровь с молоком, а дома сидит. Павел Кузьмич мало что на работе мотается, еще и за коровой приглянет и хату сам побелит. А поглядишь – в чем только душа держится?
– Одно дело – помогать жене по хозяйству, а другое – только этим заниматься. У нас по закону все мужчины должны работать.
– У нас по закону равноправие, – отпарировала Клава. – Чи мужик деньги в дом несет, чи баба, не важно, стало быть.
– Нет, важно.
– Так что, товарищ участковый, прикажете тогда мне работу бросать? Я несогласная. Работа моя мне нравится, сами говорили, люди довольны. А какую пользу в колхозе мой Тихон принесет, еще по воде вилами писано. Уж лучше пускай дома сидит. Моей зарплаты нам хватает. И мужик он вдобавок такой, каждой бабе пожелаю.
Я не знал, что ей возразить. Хорошо, в это время зашла за покупками какая-то бабка.
– И нечего записывать его в тунеядцы, – закончила Клава. – Нассонову я тоже об этом сказала. И всем скажу…
Я поспешил на улицу.
– Зеленый… – проскрипела мне вслед старуха. Я это услышал и выругался про себя. А та добавила: – Но симпатичный.
Тоже ни к чему, раз речь идет об официальном лице.
Я пошел к сельисполкому, размышляя о словах Лоховой. Действительно, придраться к ней было трудно. Рассуждала она логично. Как поступать в таких случаях? Не знаю. Но поговорить с Тихоном надо. Только с умом. Чтобы не растеряться, как вот только что в магазине. Хорошо, что девушки не присутствовали при нашем разговоре.
Я оглянулся. Лариса стояла около клуба и с откровенным любопытством смотрела в мою сторону, козырьком приложив руку ко лбу.
Интересно, Ксения Филипповна видела, что я был у Клавы? Только бы не стала расспрашивать.
…Не успел я пережить свою неудачу, как ко мне в кабинет зашла решительного вида старуха и без приглашения прочно устроилась на стуле.
– Здрасте, товарищ начальник. Слава богу, вы теперича тут порядок наведете. Нет на них управы! – погрозила она куда-то пухлым кулачком. Потом развернула чистенький, беленький платочек и положила на стол потертый на сгибах лист.
Документ удостоверял: колхоз заключил настоящий договор с Ледешко А.С. о том, что принадлежащий ей бугай симментальской породы, по кличке Выстрел, находится в колхозном стаде для производства племенного молодняка, за что Ледешко А.С. положена плата…
Значит, это о ней говорила мне Ксения Филипповна.
Я внимательно слушал моего первого жалобщика.
– Видите, мы не какие-нибудь сбоку припека, а государственно оформлены, – сказала она.
– Ну а жалоба-то у вас какая?
– Я уже тут, в этим кабинете, столько бумаги извела – пропасть. Ничего, вы разберетесь как следовает. А то кое-кому Крайнихино вино голову затуманило…
– Товарищ Ледешко, – строго сказал я, – изложите суть дела.
– Наизлагалась во! – провела она ребром ладони по своему горлу. – Крайнихина Бабочка – корова рази? Тьфу, а не корова! Ни молока, ни мяса…
– Кто такая Крайниха и какие претензии вы к ней имеете?
– Суседка моя, Крайнова. Завидно небось, что мой Выстрел в стаде законно, а ее коровешка без всякого права. Покалечила она моего бугая.
– Зачем гражданке Крайновой калечить быка?
– Да не она, а Бабочка, стало быть, корова ейная.
Я начал терять терпение.
– Ну и что?
– Как что? Пущай платит эту самую конфискацию.
– Компенсацию, вы хотите сказать?
– Нехай буде конписацию. Уж больно бодучая Бабочка.
– И сильно покалечила? – спросил я.
– Чуть не полбока разодрала…
Вот чертовщина, ну и задала мне бабка задачу!
– Как вы думаете, был тут злой умысел?
– А поди разберись, корова не человек. Бабочка всех без разбору калечит.
– Значит, у вашей соседки Крайновой умысла не было? Как же требовать с нее компенсацию?
– Но сам факт покалечения имеется!
– А Крайнова при чем? – Я не удержался и повысил голос.
Ледешко насупилась.
– И вы, значит, заодно с ними… – Она стала заворачивать в платочек договор с колхозом. – Ладно. В район поеду.
Еще не хватало! Представляю, какой смех будет в РОВД. Нет, отмахнуться от старухи нельзя. Придется разбираться.
Я вздохнул.
– Хорошо. Пишите заявление.
Ледешко уселась за бумагу с явным удовольствием.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































