Текст книги "Твоя Антарктида"
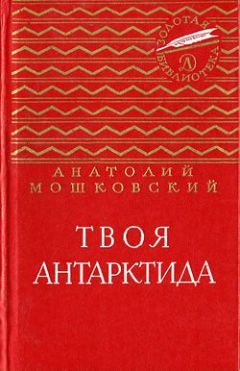
Автор книги: Анатолий Мошковский
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Анатолий Мошковский
Твоя Антарктида
Повести и рассказы
Не погаснет, не замерзнет
Брат
Мы живем в небольшом районном городке… Но вам ведь все равно, как называется наш городок. Только не обижайтесь на меня, сейчас я все объясню. На окраине городка находится большой завод, на котором и работает мой старший брат Паша. Стеклянные крыши длинных цехов блестят, как парники в совхозе имени Валерия Чкалова, но под стеклянными рамами завода выращиваются не огурцы с помидорами, а кое-что другое.
Паша, приходя с работы, никогда подробно не рассказывал, как проходят испытания последних марок истребителей. Как ни клялся я, что никому, ну никому-никому не скажу, Паша улыбался на это, запускал ручищу в мои волосы и растопыренными пальцами, как гребешком, зачесывал их назад и весело приговаривал:
– Волосы, браток, даны человеку не для того, чтобы торчать в разные стороны…
Вначале, когда я учился в четвертом классе, я обижался на брата: что он мне, не доверяет, что ли? А вот когда перешел в пятый – все понял и перестал дуться.
Так что не обижайтесь, пожалуйста, что не скажу вам, как называется наш городок, зато все остальное расскажу точь-в-точь как было. А если не верите – спросите у Сеньки Марченко, который сидит через парту от меня и умеет здорово шевелить ушами. Его отец дружил с Пашей, работал на одном заводе и может подтвердить все слово в слово.
Кроме мамы и Паши, у меня еще есть младшая сестренка Валя – по-взрослому, значит, Валентина, – но про нее не скажу ни слова – девчонка! Да и что хорошего можно сказать о человеке, который только и знает, что возиться с куклами, визжать при виде крошечного лягушонка на мокрой тропинке в саду, полдня, закусив язык, бессмысленно скакать через веревку? Нет, она не в счет… Не знаю, зачем только родятся эти девчонки! Как будто нам без них плохо.
А вот Паша… Да, Паша – это совсем другой разговор.
Целый день над нашим домиком с ревом и свистом проносятся самолеты – стекла в оконных рамах прыгают и стучат, куры кудахчут, как чумные, вспоминают с перепугу, что они птицы, и, вытянув вперед шеи, перелетают через забор на бреющем полете. А мама выходит на крыльцо, засунув руки под зеленый передник, и говорит, щурясь на ярко-голубое небо:
– Видать, Пашка-сорванец пробует новый аэроплан. Курам снести яичко спокойно не даст!..
Смешная мама! Пашкой-сорванцом она называет не какого-то там пацана с кошачьими царапинами на носу, а летчика-испытателя, храброго человека, а аэропланами – реактивные истребители и скоростные бомбардировщики! В общем, в свое время она училась в церковноприходской школе, и в технике ее, надо сказать, слабо подковали – реактивный от «По-2» отличить не умеет!
Домой Паша приходил голодный, усталый. Первым Делом он быстро стаскивал гимнастерку, и я поливал ему во дворе из синей эмалированной кружки. Паша нагибался, а я поливал и сверху глядел на упругие, твердые бугры мускулов на его плечах и руках, которые тяжело и уверенно двигались под темно-коричневой загорелой кожей, и думал: скорей бы и у меня выросли на руках, груди и животе такие мускулы! А то ведь, если говорить честно, меня боятся тронуть мальчишки с других улиц не потому, что я сильный и смелый или там бицепсы мои не влезают в рукава рубашки, – нет, где там! – а потому, что есть у меня он, брат мой, Паша.
Поливая ему, я представлял, как вот эти большие шершавые ладони ложатся на рычаги боевого самолета и ведут его сквозь облака и дожди, сквозь снег и туманы, а его зоркие синие глаза оглядывают сверху не только наш городок, но и всю нашу большую землю.
Иногда, уходя на аэродром, он шутливо грозил: «Смотри у меня, паршивец, опять залезешь в сад Ивана Кузьмича – с неба увижу, спущусь, руки оборву!»
Но Паша не только ругал меня.
Однажды, когда у нас нечаянно сгорела большая фюзеляжная модель, которую мы мастерили всем звеном целых две недели, и мне так стало жалко ее, что я не смог удержаться от слез, Паша поправил широкий ремень, положил мне на плечо тяжелую руку и сказал:
– Эх, браток, и люди, случается, заживо сгорают, а не ревут…
Мне сразу стало так нехорошо, что я отбросил его руку и убежал из дому. Ведь я твердо решил сделаться летчиком. Летчиком – и больше никем. Недаром же мама сшила мне из старого кожаного реглана Паши курточку, а вместо тряпичной штатской кепки я со второго класса носил настоящий авиационный шлем на мягкой подкладке, который тоже подарил мне Паша.
Мылся Паша не спеша. Он долго тер шею и даже доставал рукой через плечо до лопаток и совсем не боялся, что холодная вода затекает под белую майку и на ней выступают темные пятна. Паша сильно фыркал и смешно крякал, когда мыло попадало ему в глаза, и сердито говорил, чтобы я не жалел воды. Воды… Эх, да знал бы он, что я бы жизни своей не пожалел ради него! Как он не понимал этого!
Паша, Паша… Да, вот это человек!
У меня с ним одна фамилия и отчество, а больше, если по правде говорить, ничего похожего и не было! Вы, может, не верите, думаете, я хвальбишка какой? Эх, вы! Так слушайте: ему, например, ничего не стоило перевезти меня вплавь на своих плечах через реку, за три вечера прочитать тяжелый, как кирпич, том «Клима Самгина», левой рукой три раза выжать громадную дубовую колоду, на которой во дворе рубили дрова. Да и не только это мог он сделать! Вы, конечно, можете сто раз обозвать меня лгунишкой, но он при мне всовывал пальцы в зубастую пасть свирепому псу, по кличке Буян, которого боялась вся улица, и при этом пес добродушно помахивал лохматым хвостом!
Теперь вы поняли, что это был за человек?
А я? Что я? Мне только и оставалось, что поливать ему из кружки и смотреть, как пролетают над домом самолеты. Если мне хотелось, как взрослому, закурить «Ракету», так и тут приходилось, спасаясь от мамы, убегать за угол дома и там курить – торопливо, кашляя и вытирая слезы от скребущего горло едкого дыма… Эх, скорее бы подрасти! А то, пока ты маленький, никто не считается с тобой и каждый попрекает словом «мальчик»:
«Мальчик, курить вредно!»
«Мальчик, до шестнадцати лет на эту картину вход воспрещен!»
«Мальчик, птицы приносят пользу, в них нельзя стрелять!»
«Мальчик, нехорошо цепляться за машины!»
Теплыми летними вечерами мы часто сидели с Пашей на лавочке возле дома, молчали и слушали, как медленно засыпает город. Помню, Паша говорил мне, что я, наверно, доживу до того времени, когда не нужно будет больше строить ни истребителей, ни бомбардировщиков, потому что некого и незачем будет истреблять и бомбардировать, и все люди на земле станут жить в дружбе. И тогда наш завод, наверно, начнет выпускать такие реактивные пассажирские корабли, что на них можно будет из нашего города за полдня без пересадки долететь до Австралии или даже до самой Антарктиды.
– И ты будешь их испытывать? – вскрикнул я, вскакивая с лавочки.
– А ты что думаешь? Может, и буду, – ответил Паша, подпер рукой подбородок и долго-долго слушал, как в теплой вечерней тишине бьют часы.
Бой раздавался с древней церкви. Говорят, лет пятьдесят не звонили колокола этой церкви. А вот большущие часы на высокой башне до сих пор ходят точно и исправно и отбивают каждые пятнадцать минут. Если в небе не гудят самолеты, то с любого конца городка слышен этот бой.
Так вот, в этот вечер услышал Паша бой часов, закинул ногу за ногу, задумался, а потом грустным голосом сказал:
– Не успеешь выкурить папироску – бьют. четверть, не успеешь дойти до аэродрома – бьют, не прочитаешь и двадцати страниц книги – бьют. Бьют и бьют. Вот так, браток, летит время и жизнь. Не успеешь и оглянуться, как набьют они тебе полсотни лет. А что ты сделал за это время? Ничего. А многое можно сделать за пятьдесят лет. Очень многое…
Я ничего не ответил ему тогда, но в душе был глубоко не согласен с ним. Хорошо так говорить, когда тебе уже набило двадцать четыре года, а каково же нам, ребятам? Для всех дел малы! Нет, это, наверно, взрослые нарочно придумали такой несовершенный механизм, чтоб часовые стрелки ползли медленно.
Но Паша все реже и реже сидел по вечерам со мной на лавочке возле дома.
Приходя с работы, он, обжигаясь щами, торопливо ел, быстро переодевался в серый штатский костюм, который мама каждый день специально отглаживала для него. Брюки он надевал очень странно: влезал на стул и осторожно, словно они были стеклянные и могли поломаться, погружал ноги в штанины.
В непривычном костюме он сразу становился не похожим на себя, и мне было даже как-то неловко с ним. Хотя, если хорошенько приглядеться, все равно можно было догадаться, что он летчик, – так по-особенному он ходил, смеялся и смотрел. Вы спросите – как? Объяснить этого я вам не могу, ведь я никакой не писатель, и по литературе у меня даже стоит тройка в журнале, и Вера Александровна пригрозила, что, если не исправлюсь, в четверти тройку выставит. Так что сами лучше понаблюдайте за людьми, которые летают в воздухе, и без моей помощи все поймете. Летчики совсем особенные люди, и их не спутаешь ни с кем!
Потом Паша долго крутился перед зеркалом, вроде сестренки Вали, морщась от боли, зачесывал назад жесткие, как конская грива, черные волосы, слюнил палец и приглаживал черные, точно под линейку проведенные сажей брови и куда-то пропадал. Когда я ложился спать, его койка все еще была пуста; когда я просыпался, он уже шагал на свой аэродром.
Но вот однажды я увидел такое, что даже глазам своим сразу не поверил и остолбенел: неужели это мой Паша?
В нашем городе есть парк, обнесенный высокой стеной из серебристых металлических прутьев с острыми наконечниками сверху, похожими на пики. В парке показывали кино и разные выставки, в нем можно было покрутиться вниз головой на маленьких самолетиках; покататься на качелях и увидеть себя в вогнутых и выпуклых зеркалах то толстым, как бочка, то худым и вытянутым, как селедка. Но, чтоб попасть в этот парк, нужно купить в окошечке у тетеньки с бородавкой на подбородке голубой билетик за рубль. Тогда еще деньги брали за вход. А где нам, ребятам, взять их? Вот мы и забирались в парк не через главный вход, а перелезали через ограду в самом дальнем углу, куда редко заглядывал милиционер и где горела всего одна лампочка.
Так вот, перемахнули мы однажды ограду, идем по оранжевым от кирпичного песка дорожкам возле молоденьких акаций и спорим, что легче было для Чкалова: пролететь под фермами моста или совершить беспосадочный полет через Северный полюс. Идем, значит, спорим, шумим – даже в ушах звенит, – и вдруг я вижу… Нет, вы только подумайте, кого я увидел на скамейке! Пашу… И с кем!
Сразу что-то больно толкнуло меня в грудь, словно камнем ударили. Даже еще больней. Я остановился, будто ноги отнялись, и сказал ребятам:
– Идемте по левой дорожке, так ближе до кино.
Но ребята уже все увидели, и долговязый Жорка Сорокин, учившийся в седьмом классе, как черепаха, вжал голову в плечи и противно захихикал:
– Глядите-ка! Лешкин Пашка!
Впервые я покраснел за своего бесстрашного брата. И как покраснел!
Паша сидел на железной скамейке с какой-то девушкой в зеленом платье и большими косами с шелковым бантом, точно таким, как и у нашей Вальки! Я всегда дергал за этот бант, когда хотел позлить сестренку: дернешь за кончик – и бант развязывается, как шнурок на ботинках.
И сидели они как-то странно: так близко друг к другу, словно на скамейке не хватало им места, а ведь скамейка-то была пустая, еще бы семь человек поместились на ней!
Так, значит, вот почему не сидит он больше со мной на деревянной лавочке возле нашего дома! На этой жесткой железной скамейке в парке, куда можно пройти только за рубль – да и за эту платить еще надо! – оказывается, интересней сидеть Паше!
И, хотя ребята рысцой пробежали возле той скамейки, мне почему-то стало очень стыдно, и я резко свернул влево и помчался по боковой дорожке. А когда мы вдоволь нагулялись в парке и выходили через главный вход и толстая старушка билетерша, хорошо нас знавшая, всплеснула руками: «Не видела я, чтобы вы входили сегодня в эти ворота!» – и ребята, надрывая животики, дружно захохотали, мне было совсем не весело.
Я шел и упорно думал: как же могло получиться, что между нашей дружбой встала эта длинноногая?
Перед домом оглушительно визжали девчонки. Две из них глупо крутили над самой землей бельевую веревку, а Валька быстро прыгала через нее сразу обеими ногами, как стреноженная лошадь. Прыгала Валька так старательно, лицо ее было таким серьезным, словно делала она страшно важное дело. Все они такие…
Не знаю почему, но меня тогда такое зло взяло на нее – захотелось побить. Стал вспоминать, за что бы дать ей подзатыльник. В понедельник наябедничала маме про разбитое окно – за это уже ревела; в среду насплетничала брату, что я пустил «товарный поезд» из носа Кольки Петухова, который украл у моего лучшего друга, Сени Марченко, редкую марку Бермудских островов, – за это тоже поколотил ее…
Больше ничего я не мог припомнить. Что ж, можно стукнуть и так, чтобы наперед не жаловалась!
Я подбежал и резко дернул за веревку, когда она находилась как раз под ногами сестренки. Она споткнулась, взмахнула руками, но удержалась и не упала. Мне стало грустно, и я нехотя поплелся домой. Я поднимался по скрипучим ступенькам, а в теплом вечернем воздухе печально раздавался перезвон башенных часов, который так много мне напоминал.
Когда я укладывался спать, койка Паши была пуста. Я лег спиной к ней, с головой влез под одеяло и все думал, что, конечно, девчонки не могут быть настоящими людьми… Человек, который боится ужей, лягушек и угроз мамы и весь день только тем и занимается, что переодевает куклу и шьет ей из лоскутков платья, никогда не сможет совершить настоящий подвиг… А разве можно назвать человеком того, кто не готов на подвиг?
Но я опять видел железную скамейку в городском парке и не знал больше, что думать.
А наутро к нам пришла соседка и стала, причитая, говорить маме про меня, что я расту озорником и хулиганом и не даю прохода девочкам, кидаю в лужи камни, когда они проходят возле воды, ставлю подножки, бросаю в волосы колючки от лопуха… Что же будет из меня, когда вырасту большой?
Мама махнула рукой, печально подперла ладонью щеку и почему-то сказала, вздохнув:
– Паша тоже был такой, а теперь заявляется домой ни свет ни заря. И смирный какой-то стал – все по хозяйству норовит сделать вперед меня, словно дел других нету…
Соседка почему-то весело засмеялась, противно подмигивая и показывая беленькие зубки, а я впервые не знал, хорошо это или плохо, что я похож на Пашу.
Быть может, я и простил бы брату все его предательство, если бы не один случай, который произошел через две недели.
Однажды в воскресенье Паша решил прокатить меня и Валю на катере, а заодно и порыбачить. С вечера я накопал в консервную банку отменных красных червей в Заячьем овраге, напарил гороха и на всякий случай даже наловил в круглую коробку из-под леденцов кузнечиков. И вот мы спустились с горы к небольшой пристани. Валя, как женщина, была завхозом – она тащила клеенчатую сумку с провизией, я нес удочки, а Паша шел налегке. Вот он уже купил три билета, и мы торжественно вступили на гибкие сходни пристани, как вдруг сзади раздался чей-то негромкий голос:
– Павел!
Паша так вздрогнул, что я просто удивился.
Сзади, на невысокой, поросшей травкой террасе, стояла та самая длинноногая, с большой косой. На ней уже было не зеленое, а белое платье с синим жуком вместо брошки – думала, очень красиво. На тонкой, согнутой в локте руке висела круглая белая сумочка. Туфли тоже были белые, и только гладкие волосы и высокие брови казались чернее вороньего крыла. В лицо ей било солнце, и она жмурилась и недовольно морщила нос.
Услышав ее голос, Паша сразу забыл и про нас с Валей, и про билеты, и про отменных красных червей, накопанных в Заячьем овраге, и про катер. Прижав к бокам локти, он бросился на горку навстречу ей.
Потом она что-то говорила ему тоненьким, пискливым голоском, капризно выгибая губы и размахивая своей сумочкой, а Паша внимательно разглядывал носки начищенных сапог и все время поправлял широкий летный ремень, хотя тот был затянут у него по уставу – пальца не просунешь. Она за что-то отчитывала моего старшего брата, а он молчал, словно язык проглотил, и не мог ей дать никакого ответа, и это он, человек, который испытывал новейшие самолеты, который бесстрашно вкладывал пальцы в зубастую пасть Буяна!
Признаюсь, смотреть было противно.
Набежал ветерок и донес до меня обрывок их разговора.
– Мне скучно будет без тебя…
– Не обижайся, Нина, давно обещал ребятишкам.
Она вздохнула и посмотрела в сторону.
– Хорошо, Нина, сейчас мы все уладим.
– Улаживай, – разрешила она, – у меня есть одно предложение: сходим сегодня…
Я не расслышал, куда она звала моего Пашу, но заметил, что он озабоченно поглядывает в нашу сторону и в нерешительности топчется на месте, катая под подошвой сапога маленький серый кругляш.
Что-то жалкое и растерянное проглядывало в его глазах, широкие плечи опустились, словно утратили всю свою силу и упругость. Первый раз он был не совсем похож на военного летчика. Я глядел на него и думал, что вот сейчас навсегда решится для меня вопрос, можно ли с этого дня уважать Пашу, как раньше, или немного поменьше. Он ответил ей что-то, но ветер стал дуть от нас и относил его слова в другую сторону.
Через минуту Паша бегом спустился с откоса к нам и, насупив брови, сказал страшно серьезным голосом:
– Поездка отменяется…
Я ничего не ответил ему, а выхватил из кармашка своего пиджака три билетика, разорвал их на клочки и бросил в темную воду.
Рубаха сразу прилипла к вспотевшей спине, а перед глазами заплясали расплывающиеся круги. Нет, это было слишком! Хотелось упасть лицом в траву и зареветь, но рядом была Валька, и я не упал и не заревел.
Я зачем-то дернул ее за руку и, не глядя и не слушая, что говорил Паша, резко повернулся к нему спиной и быстро пошел домой по узкой песчаной дорожке между старыми развесистыми кленами. Паша что-то кричал мне вслед, но я не обращал на это никакого внимания. Скоро меня догнала сестренка с клеенчатой сумкой в руке.
– Какие у ней косы! – восторженно воскликнула она.
– У-у-у… Замолчи ты, дура!.. Ничего не понимаешь! – заорал я и ударил ее в плечо так, что она выронила сумку, и из сумки выкатились консервная банка с червями, три московские булочки и бутылка с лимонадом.
Валины губы запрыгали, жалобно скривились, и она заревела на весь берег. Я не мог видеть, как она плачет, и побежал по дорожке вверх, потом забился в глухие кусты бузины, упал на мокрую от росы траву и – только вы другим не передавайте – заревел.
Потом я зачем-то вынул из бокового кармана коробку с живыми кузнечиками, поднес ее к уху. Кузнечики постукивали сильными задними ножками в тонкие стенки, копошились и шуршали внутри. Тогда я немного приоткрыл коробку и, даруя кузнечикам свободу, одного за другим стал выпускать своих зеленых узников. Скачите куда глаза глядят, кузнечики! Так и быть, живите… Если б вы только знали, что я сегодня потерял!
Две недели после этого случая я не разговаривал с братом, потому что знал: настоящая дружба между мужчинами основывается на твердых законах, а если и он считает меня несчастным ребенком, который ничего не понимает и может только из рогатки стрелять, тогда нам больше не о чем с ним говорить! От чужих людей все можно услышать, а вот от родного брата…
Однажды мы сидели на плоской крыше «ангара» – так мы называли наш дровяной сарай – и починяли приполок голубятни. День был ясный, солнечный, небо блестящее и чистое, как хорошо протертое стекло.
– Ребята, глядите! – вдруг крикнул Сенька Марченко, сидевший на краю крыши, и так подался всем телом вперед, что едва не свалился вниз.
Мы увидели над городом серебристый истребитель. Летел он как-то необычно: то зарывался носом вверх, словно рыба, которой не хватает воздуха, то неуклюже кренился на левое крыло, то опрокидывался на правое.
– Ловко летит, высший пилотаж! – восхищенно сверкнул глазами рыжий Коська Воробьев.
– Дурак! – гневно оборвал его Сенька. – Несчастье с ним, разве не видишь?
Коська сразу присмирел, недоверчиво глянув на Сеньку.
Самолет действительно летел странно: он вдруг перестал переваливаться справа налево. Он, как контуженый, косо накренив крылья, мчался над городом, сверкая на солнце фюзеляжем. Машина стремительно теряла высоту, то отвесно падая к земле, то с трудом выравнивая курс. Казалось, самолет потерял управление и так отяжелел, что небо не могло больше держать его в своей синеве. Странно было и то, что он мчался не к аэродрому, а на наши огороды.
Мы следили за ним и не знали, что в таких случаях надо делать. Я почему-то мгновенно вспомнил, как однажды малыш сорвался с окна второго этажа, но случайно ухватился одной рукой за подоконник; взрослые успели выбежать вниз и, растянув в руках одеяло, поймали его. А как быть здесь? Парашют? Не поможет – слишком низко. Между тем свистящий гул самолета то нарастал, то замирал.
«Ну давай еще немножко, дотяни до аэродрома, дожми, милый!» – шептал я про себя, и сердце колотилось так гулко, словно рядом находилась кузня.
Что случилось дальше – было как страшный сон. Никогда не забуду я этого. Самолет врезался в огород. Черный столб дыма и огня смерчем взлетел в небо. Земля вздрогнула от грохота. От воздушной волны низко полегли кустики картофеля. Сенька закричал и стал белый как мел. Коська застыл с открытым ртом и вытаращенными в ужасе глазами. А я… Да я и не помню, что было тогда со мной…
Когда дым немного рассеялся, мы увидели, как огонь жадно пляшет на измятых, обугленных обломках машины. Остро запахло горящей резиной и краской. Сенька схватился руками за лицо и заплакал. А я смотрел на все это сухими глазами. Смотрел и не мог отвести взгляда. Внутри было пусто и холодно.
Так мы втроем сидели на крыше сарая и не могли сдвинуться с места.
Не успели мы прийти в себя, как с аэродрома примчалась белая санитарная машина с красным крестом на боку, а за ней – пожарная. Люди поспешно разбросали жерди изгороди и заметались возле громадного чадящего костра. Сильными брандспойтами потушили огонь. В санитарную машину внесли что-то длинное и страшное, завернутое в зеленый брезент. Остановившимися глазами провожали мы эту машину, которая с захлебывающимся криком помчалась по солнечным улицам нашего городка.
– Погиб… – тихо сказал Сеня.
Я ничего не ответил ему. На душе стало так тяжело, что я не мог даже пошевелить языком. Я никогда еще не видел, как умирают люди, и вот сейчас увидел. Только теперь, только теперь я подумал, какая опасная и трудная работа у Паши, и сразу простил ему все свои глупые обиды. И вдруг в мою душу легонько закралось сомнение: а если и со мной случится такое? Может, выбрать себе более надежное дело? И тут же, презирая себя за трусость, я плотно стиснул зубы.
Нет, я буду летчиком. Летчиком! И только летчиком!
Когда машины уехали и шум их замер вдали и на городок опустилась непривычная тишина, мы молча слезли с крыши.
Я не мог смотреть на огород с помятыми кустиками картофеля, на следы машин, глубоко врезанные в мягкую землю двора.
Я ушел в другой конец городка и долго бродил по тихим, заросшим травой улочкам.
Когда я вернулся домой, в столовой сидел знакомый летчик, майор дядя Саша, высокий, худощавый, с седыми висками и дочерна загоревшим лицом, крепкий и ловкий, как и все настоящие летчики, а рядом сидела мама и, подперев голову руками, неподвижно смотрела в пол.
– Здравствуйте, – сказал я.
– Здравствуйте, – ответил дядя Саша очень тихо. Голос у него всегда был громкий, отрывистый, словно рядом ревели двигатели самолетов и он, заглушая их, отдавал команду. Но сегодня он говорил тихо.
Дядя Саша сидел как-то неудобно, на самом кончике табуретки, словно никогда не был у нас и все мы незнакомые ему. А на самом деле он частенько захаживал к нам, брал у Паши книги почитать и любил выпить стакан чаю с душистым малиновым вареньем.
– Вот как… – сказал он и помахал перед лицом фуражкой, как будто в комнате было душно.
В доме стало так тихо, что я услышал, как зашедшие на крылечко куры клювами тукают по полу, склевывая хлебные крошки и крупинки пшена, застрявшие в щелях между досками. У мамы вздрогнули плечи, и вдруг я почувствовал, как что-то холодное пробежало по жилам.
– Па-ша? – спросил я, впиваясь в опущенные глаза дяди Саши.
– Паша… – прошептал летчик, но этот шепот оглушил меня.
Я выбежал во двор, чтоб не слышать того, что скажет он дальше. Мне казалось, что то страшное слово, которое он не договорил, ничего не будет значить, если я не услышу его.
– Пашенька, прости, – шептал я, забившись в темный угол сарая, где было свалено сено для козы. – Как же это так? Ведь мы еще не съездили с тобой за окунями… Хорошо, не сиди со мной по вечерам на лавочке, не надо! Но как же так можно?
Нам показали только закрытый гроб.
Я стоял и смотрел на красную крышку. А за крышкой был он, кем так гордился я, кому так завидовал. «Значит, настоящий мужчина должен иногда заниматься таким делом, что потом его нельзя показать даже родной матери и родному брату», – подумал я, и что-то внутри меня сдвинулось, и я весь вздрогнул, словно сердце встало на другое место. И тогда, лишь тогда впервые понял я, что такое долг и что чувства сильней его, может, и нет на земле!
Никогда не забуду эти дни: и глаза матери, и военный оркестр, и сырую бурую землю, выброшенную оттуда, куда должны его опустить, и прощальный залп воинского салюта.
Говорили над гробом кратко. Но и из этих кратких, скупых слов его товарищей я впервые узнал, как много новых самолетов испытал лейтенант Павел Иванович Егорцев, и они покажут себя в бою, эти самолеты, если враги посмеют сунуться на нашу землю. А что разбился… что ж… Это, к сожалению, еще случается в жизни пилотов. Чкалов, великий летчик, – и тот разбился.
А та девушка, которую я видел в городском парке и на пристани, была очень бледна и все время молчала, и я старался не смотреть на нее. И мне нравилось одно: что она не плачет. Но, когда гроб на веревках опустили в яму, и в крышку ударила первая горсть земли, и мокрые комочки покатились врассыпную по красной материи, она вдруг упала на край могилы. Все бросились ее поднимать, а я стоял рядом и смотрел вниз на горсть земли, рассыпанной на крышке. Смотрел – и ничего не понимал.
А когда мы шли домой и Пашины товарищи поддерживали под руку маму, которая спотыкалась на каждом бугорке, ударили часы на башне. Я смотрел на черный расплывающийся циферблат, и часы словно напоминали мне: «Вот так, браток, летит время и жизнь…»
Уже год, как не стало брата. Скорее бы вырасти и пойти в летное училище – этим я жил в те трудные дни. Но осенью на медосмотре наш школьный врач, лысый старичок в пенсне, выслушал мою грудь холодной черной трубкой и сказал, покачав головой, что у меня неважное сердце. «Значит, прощай авиация!» – больно ударило в виски, и я с ненавистью посмотрел на врача и чуть не заплакал от обиды и беспомощности.
Я сбежал с последних уроков и долго бродил по берегу реки. Стояла осень, и вода была мутная и холодная. Вниз по течению проплывали одинокие желтые листья и бревна, вырвавшиеся из плотов.
Я не знал, что делать. Легче было броситься в воду, чем примириться с тем, что я никогда не влезу в кабину самолета и не взлечу в небо. «Мужчина без крепкого сердца – ничтожество, – думал я. – Неужели этот подслеповатый рыжий старикашка в белом штопаном халате, пропахший йодом и спиртом, сказал правду?» И вдруг я понял, что, хотя я и живу и дышу, – нет больше меня на земле: то, о чем я мечтал, не сбудется. А разве тот – человек, кто не знает, для чего он родился?
Как сейчас помню – все небо было забито темными дождевыми облаками, и косые длинные лучи сентябрьского солнца лишь на мгновения пробивались сквозь них и тускло поблескивали на стеклянных крышах цехов авиационного завода. А я шел и шел, сам не зная куда. Мне было все равно – куда.
И вдруг я на что-то наткнулся грудью. Это была кладбищенская чугунная ограда, и я увидел косо прибитый к шесту синий деревянный пропеллер, под которым лежал Паша. И тогда я захотел пожаловаться старшему брату на свою горькую участь. «Знаешь, Паша, а я забракован… Что же мне теперь делать? Как быть? И зачем только я родился такой…»
Я стоял и смотрел на рыжую траву на маленьком холмике.
Было очень тихо. Ржавые дубовые листья отрывались от черных ветвей, медленно кружились в спокойном, прозрачном воздухе и осторожно касались земли, словно боялись кого-то разбудить. Старые вербы, опустив вниз ветви, молчаливо стыли в сторонке и ничего не могли ответить. Было тихо. Очень тихо. Никогда я не знал, что на земле может быть так тихо. И только во мне что-то стучало так громко, словно навстречу с грохотом шел тяжеловесный поезд, приближаясь с каждой секундой…
Легким порывом ветра отнесло облака, и яркое теплое солнце осветило мне лицо, и вдруг вся моя жизнь в одно мгновение пронеслась передо мной, и мне показалось, что я заново родился, родился во второй раз.
С неба падали потоки света, а я стоял внизу, на земле, я твердо стоял на земле, ощущая ее подошвами ботинок и всем своим телом, я стоял на этой суровой земле, и мои пальцы сами стиснулись в кулаки, а на сердце вдруг стало так холодно и вместе с тем так легко, и оно сжалось непонятной болью и радостью.
Кем бы я ни был, я не посрамлю тебя. Я буду человеком… Даю тебе слово, Паша!
1952









































