Текст книги "Твоя Антарктида"
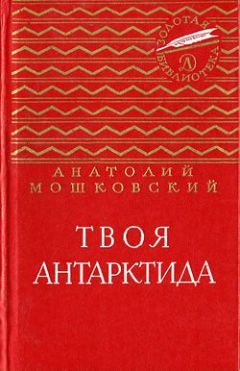
Автор книги: Анатолий Мошковский
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Прошел день, два, неделя. Однажды отец сказал Маринке, что их позвал в гости его старый товарищ по училищу. Отец захватил кое-какие ее вещички, они сели в легковую машину и целый час, наверно, ехали между сопками по крутой, извилистой дороге. Машина подпрыгивала на камнях, проваливалась в колдобины, кренилась то вправо, то влево. Наконец они добрались до крошечного, из пяти домиков, поселка в сопках, неподалеку от моря. Поодаль стояло штук десять, а может, и все двадцать металлических мачт с проводами, оттянутыми к земле.
Товарищ отца оказался широченным дядей в морском кителе с погонами. Он подарил Маринке маленькие часики со стрелками. Сбоку находилось колесико; стоило его покрутить, как внутри часиков что-то трещало и по циферблату двигались стрелки. Дядя тут же надел на Маринкину руку часы и застегнул пряжку.
Они поели и разрешили Маринке одной выпить целую банку консервированного компота. Потом втроем вышли во двор.
Вокруг темнели большие, покрытые ржавыми пятнами осеннего мха камни, тоненько журчал ручей, а где-то не очень далеко, за громадной гранитной глыбой, прикрывавшей домики, грохотало Баренцево море…
– Здесь интересно, правда? – спросил отец.
Маринка не знала, что ответить.
В это время в дверях ближайшего домика появился матрос.
– Товарищ капитан-лейтенант, – сказал он, – вас вызывает Матросск.
Отец с широченным дядей переглянулись. Отец вошел в домик, очевидно к телефону, и скоро вернулся.
– Контр-адмирал срочно требует, – сказал он устало. – Придется тебе дня два-три здесь побыть, дочка. А я скоро вернусь.
Маринка угрюмо смотрела на него.
– Хорошо?
Ну что тут можно ответить отцу, если его вызывает сам контр-адмирал? Опять, наверно какой-нибудь приказ, который необходимо выполнять. На то уж морская служба…
– Хорошо, – сказала Маринка.
Ровно через три дня отец приехал за ней на той же машине. Он увидел у ручья Маринку с пароходиком в руке – его вырезал ей один матрос. Губы отца улыбнулись, но лицо было какое-то все черное, исхудавшее, и в глазах застыла горькая и резкая печаль.
Отец опустился перед ней на корточки, похлопал по спине, и у Маринки от радости, что наконец он приехал, неожиданно покатились по круглым щекам слезы.
– Что ты плачешь? – спросил отец удивленно.
– Ничего… А мама уже дома?
– Мама… – Он посмотрел в сторону грохочущего Баренцева моря. – Мама уехала лечиться, на юг уехала. И вернется весной здоровая… з-здо-ро-ровая, – здесь отец чуть заикнулся, – и веселая.
– Ой, как долго!.. Только весной!
Маринка подумала, что надо будет переждать длиннющую темную зиму, снега, вьюги, холода, прежде чем придет в этот край весна, и станут таять сугробы, и побегут ручьи…
По той же дороге они вернулись в Матросск, и для Маринки началась одинокая и скучная жизнь, полная раздумий и ожиданий весны.
Женька бегал за ней по пятам, веселил ее, выдумывал разные игры. Тетя Маша по-прежнему готовила еду и, если отца не было дома, укладывала Маринку спать. Женькин отец и муж тети Маши, дядя Петя, играл с ней в детский китайский бильярд и обещал сводить на свой корабль.
Как-то Маринка гуляла с Женькой возле дома. Рядом остановились две пожилые женщины с продуктовыми сумками.
– Ох и жизнь! – сказала одна. – Ну еще понятно, когда старый человек умирает, а вот в ту субботу одну хоронили. До чего же молоденькая! Только бы жить да жить.
Вечером Маринка спросила у отца:
– А почему молоденькие умирают?
Отец тревожно посмотрел на нее.
– Тетеньки две говорили.
– Это верно, – прервал ее отец, опуская голову, – бывает и так.
– А мама у нас тоже молодая, ведь правда? – вдруг спросила Маринка, присаживаясь на пол.
– Молодая, – проговорил отец, – молодая… – И совсем неожиданно плечи его с золотыми погонами дрогнули. Он тут же отвернулся, странно дернул головой, будто отгонял надоедливую муху, и повернулся к Маринке.
– Папа, ты что? – вскрикнула она.
– Товарища вспомнил, – сказал он тихо, – погиб на войне. Лодка его не вернулась в базу.
– Жаль, – сказала Маринка. – Хочешь, я заплачу?
– Зачем же… не нужно…
Маринка помолчала, а потом спросила:
– Скажи, это очень жалко, когда лодка не возвращается в базу?
– Очень, – сказал отец.
Не погаснет, не замерзнетОтец ходил по комнате и останавливался то у этажерки с книгами, то у маминого столика с флакончиками и коробочками, то подолгу смотрел в черное окно. Маринку он словно не замечал, и ей это нравилось. Если б дома была мама, давно б уже велела идти спать.
И только она подумала об этом, как ее мысль сразу передалась отцу.
– Маринка, – сказал он, – спать.
Она вздохнула и скривила брови.
– А почему ты не спишь?
Отец смотрел в окно и отвечал, не оборачиваясь:
– Я большой, могу лечь попозже.
– Почему?
– Вот вырастешь такая, как я, тоже будешь ложиться позже.
Маринка вдруг подумала, что ни разу не видела, как отец и мама ложатся спать. Они укладывали ее, она быстро засыпала, а когда просыпалась утром, они уже ходили по комнате, точно и не ложились.
– Хорошо, – сказала Маринка, – лягу.
Но отец, кажется, не слышал ее. Он все смотрел в свое окно, как будто там было что-то интересное. А там не было ничего, кроме ветра, темных сопок и туч. Иногда вспыхивал прожектор, и на вершинах сопок был виден снег, потом полоса света исчезала, и за окном становилось еще темней и неуютней.
– Папа, чего ты все смотришь туда?
После того как мама слегла в больницу и ее увезли лечить на юг, отец был какой-то странный: редко смеялся и ходил по паркетному полу, точно по скользкому льду.
– Просто так, – сказал отец. – Шторм начинается, ветер большую волну разгонит… Ну, дочка, раздевайся.
– А плохо, что волны?
Отец повернул к ней худое лицо, подошел к маминому столику и потеребил на коробочке с духами красный хвостик.
– Почему же плохо? Хорошо.
У отца всегда все было хорошо. И даже этот ветер, с хрустом давящий на стекла, и шторм, и хождение по комнате – это тоже хорошо. Хотя бы раз отец рассказал о чем-то грустном и невеселом, ведь иногда этого так хочется. Даже вот маму увезли, на много месяцев увезли от Маринки, больную, с измученными глазами, увезли на юг, а отец и не пожалел ее при Маринке, не сказал, что без мамы им так плохо…
Эти мысли пришли ей в голову, когда она уже засыпала. Ей приснилось, как они с отцом однажды лазили на крутую Маячную сопку и как мама ругала его за то, что он мог там простудить Маринку. Потом с сопки покатились камни, рассыпаясь и превращаясь на лету в зайцев и волков, и те разбегались в стороны. Затем с воды поднялась чайка, крикнула, внезапно стала реактивным самолетом, и он с раскаленным свистом пронесся над их домом. А потом ее отец, высокий и строгий, стоя на подводной лодке, махнул рукой, и лодка начала медленно погружаться в море. Вот уже он по грудь стоит в воде, по плечи, вот уже одна голова в фуражке с золотым крабом видна Маринке. А потом исчезла и она, все смешалось, исчезло, утонуло…
Проснулась Маринка внезапно от легкого, чуть слышного скрипа паркета.
Было совсем темно, окон не видно, и в этой темноте кто-то все ходил и ходил.
– Па!.. – слабо позвала Маринка.
Шаги раздались ближе, и вот уже над самым ее лицом склонился кто-то большой и темный, и мягко прозвучал голос отца:
– Что ты, Маринка?… Надо спать… Спи.
– Хорошо, – сказала она, – буду спать, только ты не ходи в темноте.
– Не буду.
Маринка услышала, как отец раздевается, повернулась на бок и опять уснула.
И все же уснула ненадолго. В комнате что-то стукнуло. Она открыла глаза. В передней горел свет, и тонкий лучик, пробившись сквозь щель закрытой двери, разрезал комнату надвое.
Маринка вскочила, спрыгнула в ночной рубашке на пол и открыла в переднюю дверь. Отец стоял в короткой меховой куртке и надевал фуражку.
У Маринки все сжалось внутри.
– Папа, куда ты?
– Сейчас вернусь. Только сбегаю в базу и вернусь. Одно дело надо проверить.
Ей вдруг показалось, что отец что-то скрывает от нее. Сейчас он, как всегда, уйдет в море и долго-долго не вернется, и она останется одна в этой большой и пустой комнате.
– И меня возьми, – попросила она. – Я не хочу оставаться.
– Да я сейчас приду. Через полчаса.
Но Маринка вцепилась в полу его куртки и крепко держала.
– Возьми! Я не хочу одна.
Уговаривая ее лечь спать, убеждая, что на улице холодно и темно и все дети давно спят, он старался потихоньку оторвать ее пальцы от куртки, но не смог. Тогда он печально посмотрел на нее и вздохнул.
– Ладно. Одевайся.
Он помог ей надеть платье, шерстяную кофточку, натянул меховую шубейку и так сильно затянул на шее шарф, что Маринка с трудом могла повернуть голову. Завязав крест-накрест узел, отец сказал:
– Морским узлом, не соскочит.
Потом осторожно, чтоб никого в квартире не разбудить, прихлопнул дверь, и они стали спускаться по полуосвещенной лестнице. Как только вышли на улицу, на них навалился ветер. Он наверняка сбил бы с ног Маринку, если б отец не поддержал ее.
Ветер дул с моря, плотный, порывистый, и бросал в лицо острые, как стекло, снежинки. Мороз сковал лужи, покрыл ледяной коркой мокрые тротуары, и идти было очень скользко. По небу по-прежнему шарили прожекторы – их уже было два. В губе тревожно и заунывно гудел поплавок-буй, извещая корабли об опасности, и Маринке, только что покинувшей дремотное тепло комнаты, было холодно и жутко в этом студеном и безлюдном мире.
Они прошли возле закрытого на замок книжного киоска, миновали огромный дом с темными окнами, свернули влево и пошли вдоль высокого забора к проходной, к маленькому домику со светящимся окошком, к дверям, которые всегда разлучали ее с отцом.
Ветер мешал дышать, мешал идти, мешал открыть глаза, такой он был тяжелый и резкий.
– Дыши носом, – приказал отец.
Чем ближе подходили они к проходной, тем явственней долетал до них грохот волн в губе. Он нарастал, становился все отчетливей, и уже можно было различить шипение пены и удары брызг о пирс.
– Папа, – спросила Маринка, – а море может замерзнуть? Что будет, если оно вдруг покроется льдом?
– Не замерзнет, – сказал отец, – сюда заходит теплое течение.
– А этот маяк на сопке не погаснет? Ведь такой ветер!
– Нет. Не погаснет.
– Ну, а если такой мороз нападет и такой ураган налетит, тогда море замерзнет, а маяк погаснет? Ну, скажи.
Отец кашлянул и крепче сжал ее руку.
– Все равно не погаснет. И не замерзнет.
Больше Маринка ничего не спрашивала у него.
Город словно вымер. Черные вершины сопок смутно виднелись в небе. Ревел, захлебываясь в плаче, буй.
«И куда это отец так торопится?» – думала Маринка, то и дело повисая на его руке, когда ветер сбивал ее с ног. Никто, кажется, не звонил срочно из штаба, не вызывал, не прибегал за ним, как это случалось, матрос из базы не докладывал четким голосом, что необходимо немедленно явиться на корабль.
Все спят, весь город спит, темные окна домов спят, звезды в небе спят, только не спит ревучий буй, да маяк, да прожекторы в небе, да она с отцом. А еще не спит окошечко в домике у ворот, к которому они уже подошли.
Отец открыл дверь и пропустил внутрь Маринку. Матрос в коротком полушубке, с автоматом на груди отдал отцу честь и что-то сказал. Отец слегка нахмурился и, держа одной рукой Маринку, второй полез во внутренний карман куртки, вынул какую-то маленькую книжечку и показал матросу.
Матрос, насупив брови, раскрыл книжечку и пристально посмотрел на крошечную фотокарточку отца, потом вернул ему и сказал:
– Проходите.
– Дочка моя, – чуть виновато проговорил отец, подталкивая вперед Маринку. – Одна осталась.
– Мама поехала на юг, – тут же бодро уточнила Маринка.
Отец потянул ее за руку, и они очутились на пирсе – широкой и длинной площадке; на краю ее прыгали белые и красные огоньки.
На столбах ветер мотал электрические лампочки, и по пирсу метались невнятные тени. В стену его с размаху били волны, и высоко в воздух взлетали сверкающие в свете фонарей брызги.
Отец повел Маринку к прыгающим огонькам.
На волнах тяжело колыхалось большущее судно с мачтами и подъемными лебедками. А справа от него в два, три ряда стояли у пирса какие-то длинные, узкие суда с маленькими домиками посредине, очень похожие на спящих китов.
Шторм сильно вскидывал их, встряхивал, волны перехлестывали суда, и яркие красные и белые огоньки на носах и домиках посредине тоже раскачивались в такт ударам волн. Стальные канаты, державшие их, надрывно скрипели. Вот-вот, казалось, оборвутся.
Брызги тут же замерзали на досках пирса, и отец с Маринкой то и дело поскальзывались на ледяных наростах. Маринка боялась упасть вниз, в шипучие, клокочущие волны, но рядом был отец, и его железная рука до боли сжимала ее ладонь.
Отец остановился возле одного спящего кита. У трапа – легкой лесенки, перекинутой с пирса на спину этого кита, – стоял, кутаясь в полушубок, матрос с пистолетом-автоматом в руках.
Отец подошел к нему.
– Я сейчас, подожди! – заглушая свист ветра, крикнул отец на ухо Маринке и торопливо пошел по вздымающемуся и падающему трапу.
Ветер дул в лицо. Маринка съежилась и повернулась боком к заливу. К ней подошел матрос в полушубке и ушанке, взял ее за руку, и Маринке сразу стало не страшно: рука у матроса была такая же крепкая и теплая, как у отца. Теперь никакой ветер не сдует ее с ног!
– Что это? – Маринка показала на кита.
– Где? – видно, не расслышав, переспросил матрос. Но потом улыбнулся и крикнул: – Это лодка… Подводная лодка.
Маринка только издали видала подводные лодки, и только днем, при свете солнца, и сейчас, ночью, вблизи, не узнала их.
– Ею твой папа командует.
И в эту самую секунду с лодки донесся приглушенный, по все же знакомый голос отца:
– Отдать дополнительные швартовые концы!
На крыше домика появились черные фигурки. Стуча ногами о металл, они стали спускаться по лесенке на спину лодки.
– Дядя, – спросила Маринка, – а зачем это – отдавать концы?
Матрос нагнулся к ней:
– Это тросы так называются. Видишь, как ветер разыгрался? Чтоб лодку не било о пирс, нужно лучше закрепить ее тросами.
И он снова заходил у края пирса, как грудного ребенка, баюкая в руках пистолет-автомат. Больше Маринка не боялась, что ветер унесет ее в сопки, и была рада, что матрос отпустил ее руку.
Между тем на темной спине лодки, от носа до кормы, быстро задвигались силуэты людей, потом на домике пронзительно ярко вспыхнул глаз прожектора, и Маринка поняла, что никакой это не домик, а рубка – она возвышается над корпусом, и на ней нарисована пятиконечная красная звезда и большая белая цифра.
Широкий луч прожектора освещал людей, которые отдавали по распоряжению отца дополнительные швартовые концы.
Зажглись прожекторы и на других лодках. Видно, и там решили получше укрепить свои корабли.
Потом отец по тому же качающемуся трапу сошел на пирс. Минуты три он постоял так, глядя на лодку, о чем-то поговорил с матросом. Корабль бросало гораздо меньше, это и Маринка видела.
Она подошла к отцу и громко сказала:
– Теперь лодку не побьет о пирс, да?
Отец засмеялся, не смог удержаться и матрос.
– Ну, Маринка, пойдем. Ты, я вижу, здорово разбираешься в морском деле. Тебя хоть командиром лодки назначай.
– Пожалуйста, – серьезно сказала Маринка.
И мужчины опять рассмеялись.
Отец взял ее за руку.
– До свидания, дядя! – вежливо сказала она матросу в полушубке.
– Спокойной ночи, Маринка. – Матрос помахал ей рукой и опять принялся ходить по краю пирса.
– Ты не плакала? – спросил отец, когда они уже шли по городу.
Его вопрос показался ей странным: да как можно плакать, если рядом был такой добрый человек, этот матрос в полушубке!
– Нет, – сказала Маринка, – и не думала.
– Ну и хорошо. Умница.
Ветер свистел не умолкая. В губе протяжно ревел буй. Дома стояли темные, и город казался безлюдным, незнакомым, чужим. Но так только казалось. Маринка впервые ступила, на полшага ступила в этот тревожный и суровый взрослый мир – мир, в котором надо вскакивать ночью и бежать на пирс, чтобы распорядиться получше закрепить подводные лодки; мир, в котором люди, рискуя своей жизнью, бросаются в ледяную воду, чтоб спасти других людей; мир, в котором действуют непреложные воинские приказы; мир, полный студеного ветра, шторма, острых брызг и неуюта, где не любят жалоб, уныния и слез.
Но сколько доброты и тепла разлито в этом суровом и жестком мире!
– Слушай, Маринка, – сказал вдруг отец, повернувшись к ней лицом, когда они дошли до своего дома. – Ты, я знаю, у меня храбрая девчонка.
– И теперь я ничего не боюсь, – гордо сказала она, – ну ничего-ничего. И ни разу не заплачу.
– Я хочу сказать тебе, Маринка… Хочу сказать…
Она вся потянулась к нему:
– Что, папа?
– То… – тихо произнес он и запнулся, – то, что у нас с тобой нет больше мамы.
Вначале Маринка не поняла:
– Совсем нет?
– Совсем…
– И не будет?
– И не будет. Она умерла.
Маринка уткнулась в его меховую куртку. Плечи ее вздрогнули. Но она не плакала. Она не могла плакать. Отец еще что-то говорил ей, но она не слышала: его слова заглушил дикий порыв ветра, и, чтоб дочка не упала, отец подхватил ее на руки.
Ветер ураганной силы нес снег, в губе клокотала и пенилась вода, а над черными каменными сопками, окружавшими Матросск, негасимо горели маячные огни.
1960
Вызов на дуэль
В четвертом классе мы обзавелись личным оружием – рогатками из тонкой резинки. Резинка надевалась на пальцы и стреляла бумажными пулями, скрученными из газет или тетрадочных обложек.
Это оружие можно было мгновенно спрятать в рукав куртки, в ботинок и даже в рот – попробуй найди!
В умелых руках это было грозное оружие, и бумажные пули разили точно и «насмерть». Самым метким стрелком в классе был Женька Пшонный. Он при мне на спор стрелял по мухам, выбил из трех возможных два очка – пули расплющили на классной стене одну за другой двух мух – и выиграл два метра резинки.
Я в этом деле и в подметки ему не годился – из пяти возможных выбивал только одно очко. А другие и того меньше. Меткость Женьки была общепризнанна, и мы даже называли его Снайпером.
– Эй, Снайпер, дай списать русский!
Или:
– Что сегодня идет в «Спартаке», Снайпер?
Это прозвище он любил больше своего имени, охотно откликался и признательно смотрел на окликавшего. Он один владел секретом производства особых пуль: так плотно крутил их и перегибал, что они не раскручивались в полете, были тугими и точными. Попадет на уроке в шею – взвоешь, какой бы выдержкой пи обладал.
Он же, Пшонный, возродил в нашем классе забытую традицию дуэлей. За какую-нибудь обиду или проступок любой мальчишка мог вызвать другого на дуэль. Женька даже дуэльный кодекс разработал: выбранные секунданты отмеряли шаги, мелом чертились на полу линии, с которых стреляли, на глаза надевались специальные очки-консервы (в них ездят мотоциклисты). Двое таких очков где-то раздобыл Женька и выдавал дуэлянтам, не желавшим перед поединком мириться. Даже при Пушкине и Лермонтове не были, наверно, дуэли такими беспощадными, как в нашем 4 «Б»!
Обычно на арифметике – ох и скучные были уроки! – мы заготовляли пули: крутили их на коленях.
Хуже всех в классе стрелял Петя Мурашов – маленький, тощенький, с сыпью розовых прыщиков на лбу и серьезными глазами. Ему-то и десятка пуль не хватало, чтоб укокошить на стене одну-единственную муху!
Да и в общеклассных стрелковых соревнованиях он выходил на последнее место. Пули он крутил самые бездарные: они разворачивались, были мягкими, кривыми и летели куда попало, только не в цель.
Все это было понятно: когда ж ему тренироваться в стрельбе, если все свободное время он был занят Веркой, препротивнейшей девчонкой из нашего класса. Она корчила из себя большую умницу и, наверно, воображала, что она первая красавица в классе. Ходила Верка в черном платье с белым воротничком, была аккуратно причесана и до отвращения старательно слушала всех без разбору учителей, даже учителя пения.
Ну, понимаю, историю или географию нельзя не слушать, но чтоб всерьез относиться к пению или скучнейшей арифметике, к запутаннейшим задачкам про пешеходов, от которых голову ломит… А ей все было интересно!
Так вот, этот худенький Петя все время вертелся вокруг Верки: носил ей читать книги из отцовской библиотеки, делился завтраком, если она забывала. Помогал даже запихивать в портфель учебники. И терпеливо, как часовой на посту, поджидал ее после уроков у двери, если она куда-то отлучалась и не выбегала из школы со всеми…
Я страдал, глядя на его унижения. Я хотел раскрыть ему глаза на все.
Однажды на уроке рисования я бросил на его парту записку. «Петька, твоя Веруха пол-урока смотрится в зеркало. Как ты можешь терпеть это? Очнись, несчастный! Опомнись, жалкий раб! Встань, наконец, с колен и будь свободным человеком!»
Я пристально наблюдал за ним: вот его пальцы развернули мою бумажку в клеточку, вот он прочитал ее и порвал на мельчайшие клочки. У него даже уши не порозовели, и я очень разозлился. Я не ждал от него ответного послания, потому что он, как и эта Верка, – заразился от нее, что ли, – был примерным мальчиком и едва ли мог рискнуть написать и тем более бросить во время урока записку на мою парту.
Даже на переменке не подошел ко мне Петя.
Но больше всего меня бесило то, что моя записка совсем не задела его. Значит, он считает, что это в порядке вещей? Скоро будет шнурки завязывать на Веркиных ботинках или на руках носить ее в школу!
Я не вытерпел и подошел к нему со свирепым лицом:
– Чего не ответил? Отобрал бы у нее зеркало – и дело с концом.
– Зачем? – И спросил он это таким тоном, что мне захотелось двинуть в его трусливую, рабскую физиономию. – Тебе тоже не мешает хоть раз в неделю подходить к зеркалу. Зарос, как дикобраз. Она девочка, и аккуратная, ей нужно…
После этих слов я окончательно возненавидел Верку. Я не мог видеть ее тонких, прилежно поджатых губ и карих раскосых глаз, не мог слушать ее точные, спокойные ответы, ее смех на переменках…
Особенно меня поражала ее аккуратность. Даже в осеннюю грязь приходила она в чистых ботинках, на ее пальцах и лице никогда не было чернильных клякс, тетради ее ставились в пример другим, ее косички с бантиками всегда были тщательно уложены: ни прядка, ни один даже волосок не выбивались на ее лоб, чистый и умный. Ее внимательность на уроках была выше моего понимания.
Нет, нужны были срочные меры!
Недолго думая я выдрал из тетради лист, сунул мизинец в непроливайку и вывел огромными фиолетовыми буквами: «Я дурочка». На переменке сбегал в канцелярию, мазнул обратную сторону листа клеем и незаметно приклеил лист на спину Верке.
Успех был полный. Ни о чем не подозревая, ходила она по школьным коридорам, и вслед катился смех. Верка ничего не понимала, краснела, металась из угла в угол, как затравленный волчонок, пока лист не отвалился от ее спины – клей в канцелярии оказался неважным.
На следующий день Верка носила по коридорам огромное объявление «Ищу жениха!», и хохот всей школы громыхал за ней по пятам. Верка припустилась назад и укрылась в классе, где Петя и сорвал с ее спины лист.
Верка глянула на лист, и глаза ее наполнились слезами. Сморгнув их, села за свою парту, отвернулась к стенке, и мне было видно, как вздрагивает ее спина.
Я торжествовал: получила по заслугам!
Но кто-то выдал меня. В классе нашелся предатель. Меня отчитал классный руководитель и пообещал рассказать обо всем отцу. Но это было еще не все.
На большой переменке ко мне подошел Петя, этот раб и слюнтяй, подошел – маленький, бледный, с серьезными глазами – и, заикаясь, сказал:
– Вввы-вызываю тебя на дуэль.
Я даже опешил: он и дуэль – это просто не вязалось. Ни с кем еще он не дрался и драться не собирался!
– Проваливай! – сказал я. – Что с тобой связываться? Вначале стрелять научись.
И здесь случилось непостижимое. Все ребята, как сговорившись, заорали:
– Нет, ты не должен отказываться! Это против закона!
Я даже отступил к стене. Я ничего не понимал. Ну что я сделал им плохого? Только проучил эту самую Верку, и здорово проучил. То все были за меня и смеялись, а то вдруг переметнулись на сторону Петьки. И среди них был даже Женька Пшонный… Вот она какая, оказывается, жизнь!
«Ну что ж, драться так драться», – твердо решил я и поклялся посильнее влепить в его лоб пулю. Пусть знает, как иметь со мной дело. И всем им отомщу!..
Тут же были выбраны секунданты, отмерены десять огромных шагов в проходе между партами. Всеми приготовлениями распоряжался сам Пшонный. Он провел мелом на полу две черты и приказал закрыть на стул дверь, чтоб не вошел дежурный по этажу учитель.
– Уважаемые дуэлянты, – обратился к нам, как требовали правила, Женька, – в последний раз предлагаю вам помириться, пойти на мировую и подать друг другу руку. Ты виноват перед Верой, извинись, и все будет…
– Нет! – закричал Петя. – Никаких извинений – будем стреляться!
– А я и не собираюсь извиняться! – отрезал я. – Принимаю вызов.
Я был уверен, что Петя доживает свои последние минуты на этой земле, и твердо, сквозь зубы произнес:
– Прощайся с жизнью, презренный!
Нам были выданы очки-консервы и по одной пуле Женькиного производства: они должны быть одинаковыми. Потом Пшонный оглядел наши «пистолеты» – надетые на пальцы резинки – и важно сказал:
– Противники, на линию огня!
Мы стали возле начертанных мелом линий, и Пшонный проверил, чтоб ботинки ни одного из нас не переступили их.
– Начинайте! – деловито сказал Пшонный.
Мы стали целиться.
До боли сжав губы, я оттянул насколько мог назад резинку – удар должен быть точным!
Большие квадратные очки, туго сжатые на затылке ремешками, больно врезались в щеки. Все, кто был в классе, выстроились у стен. Я хладнокровно целился в розоватый Петькин лоб. Вдруг кто-то задергал дверью, и стул, одной ножкой продетый в дверную ручку, запрыгал.
Я готов уже был выстрелить, но отвлекся на мгновение, и вдруг… нет, в это нельзя было поверить… в мою грудь ударила пуля.
– Падай! – заорали ребята. – Падай, ты убит!
Я продолжал целиться, но кто-то вырвал у меня «пистолет», меня схватили, приподняли и силой уложили на пол – таков был ритуал.
Потом я встал, сорвал с лица очки-консервы, сдернул с пальцев резинку и ушел в коридор. Я не хотел никого видеть. Они предали меня и были рады моей гибели, а я дружил с ними, считал их добрыми, любил их… Предатели! И как это Петька попал? Но что я мог поделать? По принятому нами же закону отныне я на неделю лишался права участвовать в дуэлях и должен был подчиниться этому.
Я был убит на дуэли, и, как понял это позже, был убит по заслугам.
1963
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































