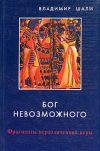Текст книги "В молчании"
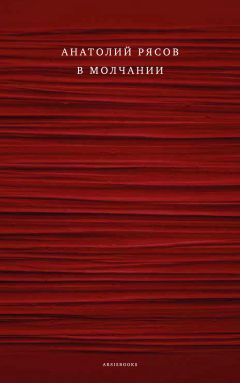
Автор книги: Анатолий Рясов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
§ 9. Гул
В другой раз. В глубине острова. Под еще более отсутствующим небом. Очень смутный. Как шорох неуместного снега под закрытыми веками. Его кружение над ледяным, серебрящимся морем. Его успокаивающая неясность. Беззвучный звон замерзшей пены. Его неминуемая невозможность. Внезапно стихает. И умолкает все остальное, все сразу. Нет, ничто не унимается. Продолжает шуршать. Только еще тише. Там, в буром тумане, где почти не слышно волн и, учитывая сгустившуюся темноту, почти ничего не видно. К вечеру тени становились длиннее, и еще длиннее, пока, словно цепкие паутинки, не накрывали наконец всю поверхность земли. Шарил руками в непроглядных сумерках. Как будто невесть зачем ловил мрачные пылинки. Ночь, еще недавно прятавшаяся между бурыми стволами, теперь – вся сразу – рядом с ним. Прикасаясь к клочку темноты, притрагивался ко всей ночи. Но почти ничего общего с темнотой пещеры. Здешняя мгла была наполнена пестрыми, двоящимися звуками, от которых никуда не скрыться. Далекие крики голодных птиц, хор их падающих голосов, их печальная монотонность. Да еще треск цикад, шуршание листвы, вечный хруст под ногами – сухой треск сродни шуму костра, шелесту выдуманного снега. Десятки, сотни других звуков формировали пространство: дребезжание полусонных стрекоз, мычание жаб, смех ящериц, раскалывающиеся под ногами капли, нескончаемый мелкий дождь – все наслаивалось друг на друга. И еще был какой-то далекий, шаткий вой. Казалось, что в конце концов он поглотит все остальные звуки. Потом снова вслушивался в стук, с которым листья тихонько бились друг о друга, как крылья ночной бабочки или птицы, наугад пытавшейся взлететь в темноте. Сотни бабочек, тысячи голодных птиц. Целые стаи, подобные тем, что еще несколько мгновений назад косым движением спускались вниз, к земле, чтобы окунуться в вытянутые лужи теней. Уже тогда их почти не было видно, какие-то сгустки серых точек на сером фоне. А теперь, когда совсем стемнело, им зачем-то понадобилось снова взлететь. Может быть, как раз эти силящиеся оторваться от веток жуткие птицы и проклевывали темноту своими острыми, пронзительными криками. Только хлопанье крыльев почему-то слышалось поблизости, а гомон – издалека. Но ведь в такой темноте все смешивалось, все могло исказиться. Чему тут удивляться. Он не мог разглядеть даже очертаний собственного тела и не стал бы торопиться утверждать, что руки не обросли перьями, не превратились в крылья. Что и он не сделался одной из многих птиц. Или, может быть, отчаянно бившиеся птенцы были привязаны к деревьям и потому не могли вырваться из плена шуршащей листвы – странного проклятия, ниспосланного на них ночью. В отчаянии у них оставался только этот протяжный щебет, напоминавший детские всхлипывания. Словно птицы выкрали у него голос. Но кроме жалобного шелеста он снова и снова слышал и еще что-то: какой-то неумолкающий звук, казалось, исходивший от самой земли. Похожий на ветер, сквозящий меж прутьями ненадежных гнезд. Впрочем, это могли быть и отголоски моря, он не был уверен. Наверное, даль разделяли два шума: шушуканье волн и шелест листвы. Здесь, на самой границе, они сливались в один. А может быть, к этим отголоскам разбивающихся волн все-таки примешивался странный утробный вой, и вот все они сливались в сплошной, еле слышный, но не замолкавший, не способный стихнуть стон. Наверное, его он слышал и в пещере, даже она была несвободна от этого меланхоличного воя. Не только там, но даже под водой. Невнятный звук, который, однако, нельзя было ни с чем спутать, вызывал необъяснимое волнение. Длящийся, колышущийся неуют, спрятанный за чем-то привычным. Невозможно было понять, приближался зов или удалялся. На его фоне все это изобилие шорохов казалось каким-то ненужным, неуклюжим излишком. Лопнувшим яблоком хмурой природы. Да, наверное, ему было страшно, но он продолжал вслушиваться в размеренное ночное гуление. А ничего другого и не оставалось. Пленник огромной раковины. Он знал, что, даже если закрыть уши ладонями, это не помешает темноте звучать. Хотелось воспитать равнодушие к раскатистому шелесту, но он упрямо вызывал тихое любопытство, даже какое-то подозрение. Ему редко приходило в голову как-нибудь определить его, выяснить, что он такое. И одновременно втайне от себя он только этим и занимался. Думал о невозможном снегопаде. О треске внутри пламени. Будто вслушивался в поток приблизительных, неразборчивых реплик, которые лишь почудились, потому что не было никого, кто мог бы их произнести. Пытался запомнить их невнятный смысл. И как будто бы ему заранее было дано знание о том, что это невозможно. Нечто сходное с тонущей в отражениях глубиной, обреченной остаться случайной кажимостью, но при этом упрямо невписываемой в привычные ориентиры. Сливался со скучающим лесом, казалось, становился одним из сухих, невзрачных растений. Превращался в мертвое дерево, в холодную персть. Принимал это как данность и одновременно – пугался ее. Природа насмехалась над его фальшивым безразличием, обнаруживала прятавшийся внутри ужас, перечеркивала все другим, неведомым ему – диким, неподражаемым равнодушием. Тем самым, до которого ему никогда не добраться. Ведь чем больше он старался избавиться от эмоций, тем сильнее они переполняли тело. Внезапно – перенасыщенность цветом в самой сердцевине пресного бесцветия. Отсутствие всяких чувств и нарочитая опустошенность предательски выражались слезами, потоком воспоминаний, предельным надрывом, непроизвольным смехом, даже необъяснимой влюбленностью – всем сразу. Странная переполненность эмоциями в миг, казалось бы, абсолютного избавления от них. Откуда-то все это изобилие. Нет, ему не удавалось. Мир готов был существовать после него, без него. Нет, мир не вступал в диалог, не подавал никаких знаков. Непонимание, безумие – может быть, это единственные формы связи с ним. Как если бы он был заперт в каком-то преддверии мира. Как если бы перед ним висела мокрая паутина, очерчивающая границы существования, – пределы, за которые не дозволялось выходить. Или вернее – куда его не впускали. Эти серые клочья не скрывали недоступную территорию, нет, нельзя было даже сказать, что они искажали ее, хотя несомненно делали созерцание почти невозможным. И все же что-то просвечивало сквозь сетчатый занавес. Но он так и не смог научиться смотреть на мир, не обращая внимания на паутину. Существовало нечто, не оставлявшее никаких шансов не то что прорвать завесу, но даже прикоснуться к ней. Нет – даже к ней приблизиться. Он не помнил, всегда ли так было и почему это было так. Он снова тонул в нескончаемой, беспричинной, бесцветной скуке. Не в том смысле, что ему было тоскливо. А потому что он пребывал внутри обволакивающего уныния – неприступного, грандиозного, протяженностью в две-три вечности. Но было еще что-то тревожное. Все это узорочье звуков, плясавших внутри рыхлой природы и сливавшихся в неспокойный гул, напоминало лишь о том, что сам мир всегда сохранял каменное, неприступное, печальное молчание. Оно переполняло лес, переливалось через зыбкие края, сметало любые преграды, царственно растекалось между деревьями, поднималось к их вершинам, расплескивалось до облаков. Да, все звуки неприметными волнениями, паутиной падающих снежинок пульсировали внутри абсолютной, всеохватной тишины и никогда не выплескивались наружу. Мир не выпускал их. Он молчал.
§ 10. Шторм
Шипел, переливался, подбегал ближе. Брел по побережью. Не отводил глаз. Потом ветер полоснул по щеке песком. Странно, буря не пугала. Или не только пугала. Но все же делала дыхание более частым. В торопливых порывах упрямые обрывки листьев казались прочно приклеенными к ветвям. Брызги смешивались с пульсирующими точками и снежными лоскутьями, он вдыхал водянистый воздух. Шквал изгибал косые линии в дуги, делал их похожими на свинцово-серые волны, и казалось, дождь становился солоноватым. Море расширялось, все становилось жидким. В просветах молний ему мерещилось, что вокруг на песке, как на поверхности воды, вспыхивают, порождая друг друга, холодные отражения. Крохотные, огромные зеркала. Всматривался в их озлобленную растерянность, продолжавшую множить нереальное, делать безумное еще более безумным. Осколки были разбросаны повсюду, выстраивались в ряды тлеющих, почти готовых к прочтению букв, но быстро смывались дождем, распадались, исчезали под новыми знаками, еще более яркими и меркнущими еще быстрее. И очень скоро вместе с клочьями наконец растерзанных листьев, галькой и разлохмаченными щепками пена сползала обратно в грязную слякоть. Помутнелая, исхлестанная вода возвращалась, утаскивая за собой все, что попадалось на пути, – камни, раковины, песок. Среди сверкающих, неровных глыб поблескивали раздробленные кости. Песчинки казались непосеянным, размокшим зерном, пытавшимся достичь земли; с каждой новой волной его все дальше отбрасывало от берега. Поверхность и глубина ежесекундно менялись местами. Между ними больше не было разницы. Схема, которая раньше давала пусть и не понимание, но возможность шага в его сторону, хоть какое-то подобие опоры, теперь обнаруживала свою несостоятельность. Разделение, которому он придавал (и все еще не способен был перестать придавать) столько значения, внезапно оказалось не менее условным, чем любое другое. Даже хуже многих. Но он не собирался от него отказываться. Потому что не был способен изобрести ничего лучше. Перед тем как разбиться, волны успевали на мгновение застыть, будто стеклянные скобы, но очень скоро шагающие следом сталкивали своих предтеч вниз, любуясь, как в телах отцов разверзаются кривые трещины. Как толпы безжалостных призраков, они нагоняли и растаптывали друг друга. Порой, впрочем, первым удавалось перехитрить вторых, и перед тем как умереть, они отскакивали назад от ссутуленных утесов, словно громадные сверкающие алебарды, врезались в соперников лезвиями тонких конечностей и погребали их тела под собой. Но даже не успевали отпраздновать победы, ведь за их разломленными спинами уже громоздились, внахлест маршировали безликие силуэты новорожденных воинов. Мрачно спортретированных растущими изгибами, еще более бесстрашных, еще менее привязанных к жизни безымянных бойцов. Едва приняв присягу, они уже устремлялись в самую стремнину побоища, к раскрытым крышкам прозрачных гробов. В упоении. Как каменные изваяния или своды зловещего, готового обрушиться храма, они выстраивались в стройные, бесконечные шеренги, укутанные сетчатой метелью. Так, плечом к плечу, преданно чеканили шаг те, что уже через считаные секунды принимались стрелять в спины марширующих впереди, вновь и вновь обрушивая мосты полумертвых тел. Величественный парад, способный в любое мгновение смениться пляской пьяной солдатни, поножовщиной, вырыванием глаз, варварским поеданием друг друга. Эти головорезы, лишь мгновенье назад певшие гимн и притворявшиеся бравыми юнкерами, теперь вцеплялись в горло идущим рядом и кусками вырывали мясо из-под вспоротой кожи, широко раскрывали глотки, подставляя их под потоки хлещущей крови. Наконец их рвало темной, волокнистой жижей. Давясь, многие продолжали петь, в какой-то бесконечной, застывшей, радостной ярости. В резком мраке они метались и исчезали, продолжая извергать нескончаемую нотную рвоту. Приходили новые, не отличимые от предшественников и так же достоверно повторявшие их гибель, едва успевая присвоить себе грязные, покрытые запекшейся кровью трофеи. При свете молний становилось заметно, что это сражение издевательски, с жутким весельем копируют и отражающиеся на скале тени. Сполохи делали их гадкую игру похожей на конвульсии обугленных птиц с вывернутыми крыльями. Сорванная листва, сломанные ветви, сверкающая грязь, плевки пены на лоснящихся лицах – все извивалось в уродливом, непристойном танце. Бурые шелушащиеся холмы, их подвижная изнанка, их вытянутые силуэты, их тяжелый грохот. Море продолжало корчиться под пляшущими вереницами туч, под топотом широких копыт. В серебристой пурге искрились взлохмаченные космы, разорванные одежды, взрывы снежных хлопьев. Проколотый яркими спицами, весь остров превращался в изувеченное тело, в лужи разлитой крови, торчащие обломки костей, визгливый вой. Пена в воздухе становилась похожей на застывших над водой разорванных медуз. Прозрачные сердца выгибались в громадные линзы, сквозь которые побоище виделось еще более гротескным и жестоким. Он падал, сбитый с ног твердыми потоками, и вдруг, изнемогая от отвращения, ловил себя на мысли о невероятной, неподражаемой красоте этой бойни. Размолотая, перемешанная масса продолжала жить, колыхаться, кричать, как будто даже исцелялась в этой омерзительной резне, превращая войну в роды. Ему нравилось замечать движение раздробленным на застывшие, притворяющиеся мертвыми паузы – тревожные разломы в ускользающем времени, прорези, сквозь которые он мог различить очертания мира. Ощущая бессмысленность страха, он словно замечал другую его сторону. Молнии высветляли спасительные разрывы, делали их более явными, но одновременно в согревающем прояснении присутствовало что-то еще более жестокое и уничижающее. Как если бы оно было единственным намеком, последней вспышкой ясности перед окончательным затемнением. Очертания предметов, шевеления жидких складок, белое цветение – все это на мгновение выныривало из темноты, чтобы вскоре еще сильнее скрыться. Взрывы, короткие паузы между ними. Клочья тишины, недолгие затишья. Нет, даже не затишья, а какие-то обломки пауз, каждая из которых угрожала (оставляла надежду) скопиться в бесконечное молчание. Он видел, как последние остатки света растворяются в темной воде, и не мог угадать момент угасания. Точно так же ему никогда не удавалось определить границы света и темноты. Удаляясь от солнца и заходя в пещеру, он лишь в какой-то неизвестный, неуловимый миг осознавал, что покинул пределы света. Вошел в грот не потому, что бежал от шторма. Как всегда, просто оказался внутри, без всякой причины, без всяких объяснений. Снова ничего, кроме едва приметного, знакомого гула. Все привычно. Но и никакого спокойствия. Впрочем, и ни малейшего волнения. Что-то другое. Всегда что-то другое. И на этот раз – новая странность. Вместо привычной пустоты внутри заплескались искаженные, неуместные воспоминания. Парк, сад, лес, – все эти возвращающиеся тени, но и что-то казавшееся напрочь стертым: очертания давно брошенного дома, жуткие силуэты, даже запах старого подъезда, снова дверь лифта, запавшие кнопки, вырванные из сна пощечины – то, от чего он давно был избавлен, тем более – в пещере, вдруг обрушилось без предупреждения. Его потрясло, что прошлое – те его эпизоды, о которых, казалось, он успел навсегда забыть – вернулось само собой. Как если бы выброшенный балласт вновь обнаружился на прежнем месте, а сил снова перекинуть бесполезный груз за борт больше не было. Он не представлял, как быть с этим непристойно огромным наследством, которое уже никогда не удастся растранжирить. Можно было не кричать: звучное, незамолкающее эхо прошлого и так было разлито повсюду. Оно и было тревожным хрипом. Его память мерцала перед ним тусклыми, но не гаснущими до конца огоньками. И он чувствовал себя единственным зрителем огромного амфитеатра, присутствующим на репетиции собственной жизни. Да, вся эта буря, все эти смутные эпизоды напоминали наброски так и не нарисованных картин. От этого он все меньше совпадал с тем, за что прежде принимал себя, но, казалось, лишь благодаря нестерпимой незавершенности способен был немного продолжаться. Раз за разом утверждал себя как нехватку, недоделанность, недостаток. Ничего не удавалось, и даже его упрямое молчание было жалкой пародией на величественное безмолвие мира – не вторившее, не сливавшееся с ним, отслаивавшееся как ненужная шелуха. Его невзрачная немота могла быть лишь потрескиваниями углей в обжигающем костре подлинной тишины, лучившейся всем тем, чего так недоставало его молчанию. В пещере можно было избегнуть теней и отражений, но не присутствия давящей, густой, неприступной немоты. Настолько непереносимой, что нужно было выдумывать гул, крик, даже шторм. И потому под закрытыми веками снова маршировали толпы. Зловещая людская масса затапливала пустые площади, мосты, проспекты, прилегающие к ним улицы, набережные, все крохотные проулки. Узкие коридоры, на которых, казалось, не разойтись и двум прохожим, теперь были залиты бессчетными смуглыми силуэтами. В порывах ветра слышались сиплые, сдавленные, царапающие голоса. Несмолкающий гомон разом напоминал брань, звон бьющихся стекол, скрип дверей, топот, лай – всю бесконечность звуков. Конечно, нельзя было разобрать ни слова, потому что ветер смешал все фразы. Казалось, от их поступи тряслась земля. Дождь не прекращался, потоки хлестали из водосточных труб, заполняя рытвины и канавы, наслаиваясь на стены, сверкая на рукавах длинных плащей и скапливаясь в искривленных полях шляп. Струи смывали со стен даже окна, не говоря о названиях улиц и номерах домов. Ускользали все имена и значения, лики улиц растворялись в бледном бесцветии. Тем временем узловато марширующие толпы заполонили крыши. Тела перепрыгивали с карниза на карниз, и лишь их иссохшие лица своей бледностью выдавали всепронизывающее отчаяние. Он в толпе. Почему-то он тоже среди них, погружен в зловещий бег. Плечи терлись друг о друга, казалось, нечто неживое прикасается к чему-то еще более мертвому. С покорностью и беспощадностью погруженных в работу механизмов. Готовых надломиться. В жутком скрежете. Мчались так быстро, что только ветер мог перегнать их. Пытался вжаться в темноту, чтобы стать менее заметным или еще зачем-то. В жуткой давке было трудно дышать. И вот внезапно все прекращалось, он снова сидел на скамье заброшенного парка. Стихли даже отдаленные, едва слышные стуки последних шагов. Поразительно: они забылись так быстро, что сложно было поверить в их существование. Совершенно один. На внезапной окраине. Под проливным дождем. В сизом дыму. Всматривался в разливы темноты, в грязевые узоры, в переплетения веток и прутьев черной ограды. Набирал в легкие холод сумерек. Лишенный слов. Разрозненные мысли не складывались в мир, который по-прежнему показывался только в виде этих мерцающих обрывков, никогда – целиком.
§ 11. Город
Еще когда-то. То, что совсем невыносимо вспоминать. Непрерывный, изрезанный шум, прерываемый оглушительными зияниями. В толчее зданий, в лохмотьях холодного света, в фабричном дыму, под ледяными мостами, в окалине серо-алой слякоти. Тряска резких вспышек, головокружение, роение полусонной толпы. Мельком замечает собственное отражение в зеркале заднего вида. Видит в глубине глаз усмешку отца. Какое-то неприятное чувство от этого узнавания. Короткий пронзительный вскрик, и снова – долгое шевеление неразборчивых звуков, вся эта какофония истеричных шептаний, непреклонный лязг. Застывшая суета, в которой навсегда теряется что-то, некогда казавшееся ценным. Как ночные мысли, позабытые поутру. Все хлюпает, изгибается, не поддается узнаванию, гаснет, не угасая до конца. Но вот она. Посреди кипящей ворчбы. Как всегда – перед перекрестком. Сейчас начнет тихонько постукивать грязными ногтями по стеклу. Далеко выступающие за кончики пальцев, неровные, подгибающиеся под себя скребки станут соскабливать капли, как прозрачную кожу. С тихим и оттого лучше слышным скрежетом. Губы примутся бесшумно шлепать, а за мутными стеклами очков заблестят пьяные глаза. Не разбирая, что именно произносится, он все же услышит сам хриплый тембр ее голоса, заплетающиеся интонации причитаний. Не сможет не то что протянуть монету, но даже взглянуть в ее сторону. Потому что снова вспомнит о матери. Он уже ее вспоминает. Соскребает еще одно пятнышко заледенелой серой пыльцы с перегородки, которая когда-то вроде бы была прозрачной. Может быть, она уже выглядит совсем по-другому. Наверняка даже не слишком похожа на эту нищую старуху. Хотя нет, чем-то все-таки похожа. Но это мало что меняет. Все равно – ничего не знает о ее жизни. Почти ничего. И любой ценой хочет сохранить незнание, даже – преуменьшить его. Недавно опять снилось, как он, обманутый, выкрикивает «зачем?» и дает ей подряд три-четыре пощечины. Нет, он не бьет ее, он пытается защититься, дать сдачи. Ему продолжало казаться, что вошла настоящая мать, пока вдруг не проступили мутные, чужие, вечерние глаза. Как скребущиеся ногти посреди лица. Но невозможно представить ужас, который охватит его, если он случайно откроет окно. Если она прикоснется. Нет, конечно, даже не взглянет через стекло. Так будет безопаснее и для этой старухи (впрочем, и она не такая уж старая). Пусть считает его скрягой, стыдливо вжавшимся в спинку водительского сиденья. Из-за нее он никогда не подает нищим. Впрочем, она и не вспомнит его уже спустя мгновение. А вот он не сможет забыть. Не ее. И та – не она – тоже не сможет забыть: не его. Два призрака будут связаны насильной памятью. От прошлого можно отворачиваться, можно делать вид, что оно потеряло свою важность, но это ничего не меняет в его всеопределяющем значении и в безнадежности нашего опоздания к тому, что мы называем жизнью. Одна, напиваясь, станет плакать над фотографией, а другой будет встречать позабытую химеру во сне и давать ей пощечины, которые нереальны вне сновидения (или все-таки нет? не так давно ему ведь и правда хотелось ударить ее, когда она орала на бабушку своим отвратительным писклявым голосом). У них нет ничего, кроме этих тревожных мифов друг о друге. Дыра продолжает зиять. Да, именно то, что он собирался навсегда забыть, нарочно вспоминалось – назло любым намерениям. Хотя не совсем так: очень многое все же удалось стереть. Или вернее – закрасить. Или, вернее, все заретушировалось само собой. Даже посчастливилось встретить тебя, у которой нет ни одной общей черты с моей матерью. Это казалось невозможным, ведь сходство обнаруживалось буквально в каждом женском лице. В тебе ее черт не было. Ни одной. Я знаю, с другой у меня никогда не родились бы дети. Дети, которых она никогда не увидит. Я приложу все силы, чтобы не допустить этого (откуда-то же берется пафос для этих нелепых клятв, которые, кстати, уже были однажды нарушены, когда бабушка тайком показала ей мою дочь). Это не месть, ведь внутри не осталось уже почти никакого зла. Скорее пугает сама возможность общения. И все же, едва вынося сны, не представляет, что будет, если они увидятся. На похоронах, например. Не исключено, что она может там появиться. Неужели им придется разговаривать? Кратко перечислят друг другу события последних двадцати пяти лет? Посудачат, как попутчики в поезде? Был и тот странный звонок. Он (я) ответил, бросать трубку показалось еще большей фальшью. И все же он ожидал чего угодно, но только не неумелого налета деловитости, только не этой скверной роли, которая не удавалась ей и много лет назад. Нет, без фиглярства они не смогли бы проронить и слова, но, кажется, невозможно было отыскать более нелепую, более неприятную маску. Расстояние до нее дальше, чем до самого чужого человека, дальше, чем до врага. Ему не кажется, что он преувеличивает. А потом (спустя несколько лет) – еще один звонок, слегка испуганные, полупьяные интонации, странное признание в том, что ей послышался голос. Звонила, чтобы уточнить, что это не он сейчас говорил с ней сквозь стену. Странно, почти ничего в этом безумном предположении не показалось ему жутким. Больше никаких новостей о ней. Но ясно, что ее мозг продолжает распадаться. Нет, впрочем, еще какие-то мелочи он узнавал из редких рассказов. Слушал, отводя глаза от кивающего лица. Бабушка всегда чувствовала неловкость, заговаривая на эту тему. К тому же толком и не могла ничего рассказать – так, повторяла по несколько раз одни и те же слова. Казалось, она молчала. А губами шевелила, лишь чтобы притвориться говорящей. Совсем не так, как в далеких воспоминаниях из детства беспрерывно говорит за столом дед – тогда обед растягивался на лишний час из-за того, что он не мог остановить повествования, длившегося помимо его воли. Быть может, он и сам не слышал себя, не думал, о чем именно говорит, ему просто нужно было зачем-то продолжать и продолжать рассказ. Говорил, словно репетируя монолог или набрасывая тезисы отсутствующего доклада, вернее даже – пытаясь сформулировать его тему. Как будто рассказ был способом сбежать от всего остального (зловещей пародией на это красноречие станут потом пьяные монологи матери, ее безумные споры с самой собой в темной комнате, затихающие и возобновляющиеся, тихое кипение ее отвратительной болтовни, о которой он будет знать только по рассказам деда; впрочем, в детстве что-то подобное тоже случалось). Так вот, казалось, тому, что дед мог сказать, всегда недоставало еще одного, последнего слова, ожидание которого и заставляло его продолжать. Истории могли перетекать друг в друга, повторяться, обрываться, начинаться сначала. А внук с бабушкой слушали водопады речи, словно не решаясь вставить ни звука. Может быть, она и не слышала, а думала о чем-то своем. Скорее всего. Ведь большую часть времени им совсем нечего было сказать друг другу (но отнюдь не потому, что все сказали; между ними всегда простиралась эта пустота невыговариваемого). Зато она в совершенстве освоила искусство кивания. И дед продолжал что-то рассказывать, освобождаться от переполнявших его слов, отдаваться их потоку, нанизывал обрывки на обрывки, призвуки на призвуки, отголоски на отголоски, пока наконец не замолкал. Но и это формально завершавшее долгую речь, застывавшее на его губах веское слово никогда не было последним – казалось, эхо голоса еще продолжает биться о потолок террасы, застревать там, завиваться, как сухие ветки винограда, висящие с той стороны стекла. Затихает, но не прерывается, просто перестает быть разборчивым. Как едва затухшие угли, которые подкравшийся ветер легко может снова превратить в огонь. Старые рейки стен прятали в своих резонансах все его интонации. Дед вставал, точь-в-точь как, внезапно затихнув, вскакивает маленький ребенок, лепетавший что-то над игрушками – сам с собой, без слушателей. И потом старик надолго прерывал свои рассказы. Словно переставал бояться тишины. Не зная его, а наблюдая лишь в этот момент, наверное, вы не смогли бы даже представить, что он способен на долгие повествования. Да, теперь он неподвижно сидел на скамейке. В его молчании не было пренебрежения к речи, оно могло настать только как итог – уже после столь многих слов, когда все они уже были выговорены. Хотя, казалось, он так и не произнес самого главного. (Помню, как однажды во время шумного застолья мой отец вдруг сказал, что часто думает о том, что же человек должен сделать перед смертью: может быть, сказать что-то должен или завещать точную надгробную эпитафию – непонятно; я не могу забыть этой неуместной, простодушно-отчаянной фразы.) Так долгими часами дед сидел с полузакрытыми глазами, словно думая, что именно нужно сказать. Как будто разучивал еще не написанную, бесконечно-однозвучную поэму. Наверное, будущему молчанию внук тоже научился у него. Или путает с другим своим дедом. Да, конечно. Если представить, что их можно спутать. Второй старик прекрасно формулировал мысли, но никогда не произносил лишних слов. Это завораживало. Он мог часами всматриваться в природу, опершись руками на свернутое вопросительным знаком навершие трости. Иногда читал – сосредоточенно и отрешенно. Порой пересказывал что-то беспокойной бабушке – у нее к старости совсем испортилось зрение, поэтому она перестала заглядывать в книги (прежде ее было не оторвать от них) и посвящала почти все время кухонным хлопотам (она с трудом ходила, но при этом – никаких признаков помутнения сознания). Изредка дед даже читал ей вслух, как правило – газеты. Впрочем, она говорила, что больше не способна запомнить содержание книг, особенно романов. Кажется, внук понимает ее. Недавно, читая один роман, он только странице на двухсотой осознал, что узнаёт повествование. Потом случайно нашел свои забытые записи об этой книге – впечатления почти совпадали с нынешними. Но настоящий страх в другом: книга была прочитана им четыре года назад. Не двадцать, не десять, а четыре. И он не помнил ни слова, даже из собственных заметок о романе, на которые случайно наткнулся. Успокоил себя тем, что это был не особенно важный текст, таковым и остался, заурядной сюжетной чушью, не роман, а лишь изложение выдуманных событий. Но ведь были и еще менее важные – значит, они забыты еще больше? Такое возможно? А откуда эта уверенность в том, что запоминается важное? Не раз ловил себя на том, что это не так. Все важное тоже испещрено неузнаваемыми пятнами, соответствующими пробелам в воспоминаниях. Не помнить, а забывать – вот главное свойство памяти. И старики знают об этом все. Вот о чем стоит писать романы. Этим он и пытается сейчас заниматься. Написать о том, что не может вспомнить. Пока не очень получается. Не больше десяти страниц в год. Кстати, бабушка все время спрашивала, что он пишет. Забывая свои признания о том, что потеряла связь с книгами, просила принести почитать ей что-нибудь. Он отделывался какими-то нелепыми отговорками. Прекрасно понимал, что им не надо читать его книг. Что он не сможет прокомментировать написанное. Удивительно, но от первого – разговорчивого – деда он до последнего времени не скрывал своих текстов. Даже бабушка, кажется, что-то прочла. До последнего времени. А теперь пусть будут только газеты. Так вот, дед (второй дед, хотя вообще как раз он был старше всех, и определение «первый» больше подошло бы ему) читал бабушке, но чаще пропадал где-то в саду, за домом, скрывался там от празднословия. Внуку поначалу казалось, что на второго – молчаливого – деда он похож больше. Потом уже осознал, что оба присутствовали в нем в равной степени. Или, может быть, они не так уж сильно отличались – деятельность и апатия. Их лица, такие разные, оказались одним. Лицом самого разговорчивого в мире молчуна. Внезапно дед вставал и принимался за работу, словно труд тоже был разновидностью высказывания (то есть я, конечно, хочу сказать: молчания). Более того – главной его формой. А теперь так же, прервав долгое безмолвие, с внуком говорила бабушка, в сотый раз протирая стол и попутно делясь давно сообщенными известиями о его бедной матери. У нее самой новостей было ничтожно мало, но, наверное, бабушке казалось, что, повторяя, она увеличивает их количество. Когда же, в какой именно момент эта бесконечная ретрансляция перестала быть просто привычкой и начала все явственнее обнаруживать примеси безумия, приметы внутреннего распада? Можно ли зафиксировать час перехода? Вторая его бабушка – та, что больше не читала книг (да, у многих с детства нет никого старше родителей, а ему всегда приходилось уточнять, о какой бабушке или о каком деде идет речь, ведь он помнил даже своих прабабок и прадедов; невероятно, что можно жить так долго – и то, что он считает почти прожитой жизнью, может оказаться лишь меньшей половиной), так вот – вторая бабушка, пережившая почти всех своих младших братьев и сестер (десять детей в семье), тоже любила многократно повторять одно и то же, но ее речи были полны жалоб – до смешного мелких, даже казавшихся странными на фоне той силы, которую он всегда чувствовал внутри нее, или они и были изнанкой этой силы. Слушая, уже всерьез не мог припомнить, бывали ли такие годы, когда бабушкин сад приносил урожай (а ведь каждую осень от овощей и фруктов нельзя было спрятаться); дни, которые она не считала чересчур душными или наоборот – невыносимо холодными (притом что нигде в мире не было такой потрясающей теплой прохлады, как в ее загородном домике); часы, в которые бабушка не чувствовала недомоганий (как правило, она до захода солнца не уходила с огорода, прерываясь только на кухонные заботы); минуты, в которые тишина не нарушалась до смерти надоевшими соседскими криками (он их ни разу не слышал). Во всяком случае, из этих исповедей все, способное приносить радость, оказывалось вычеркнутым, словно ее улыбки привиделись во сне, а ее застольное пение (кроме нее, в семье никто не умел петь) было выдумкой. Но он так привык к причитаниям, что в какой-то момент перестал перечить им, внезапно понял, что то, что он считал поддержкой, никогда не являлось ею. Бабушке совсем не нужны были его переубеждения и подбадривания, вернее всего – они тихонько ранили ее, а не помогали, даже если она соглашалась с этими доводами, в глубине себя она хотела, чтобы ее сетования просто выслушивали, ничего больше, даже жалость ей была не нужна, казалась ей чем-то вроде еще одного лишнего подарка, который она поставит в угол за трюмо (там неизменно скапливались все свертки, полученные в праздничные дни). Может быть, именно это и делало ее сильнее. Но все равно вздрагивал, когда она произносила: «Теперь уже – все почти» (эту же фразу в конце жизни стала повторять и вторая бабушка, которая недавно сказала во сне: «Скоро умру, наверное – завтра»). А в остальное время – просто слушал, вглядываясь в красоту ее глаз. Да, она любила, когда он так слушает, это было известно абсолютно точно, как-то само собой. Так он иногда вглядывается в потрескавшиеся черно-белые фотографии из старого альбома (с парусником на обложке) – тогда еще нужно было приклеивать карточки к серым картонным страницам, теперь многие из них оторваны, потеряны – он разглядывает те, что остались. Вот прабабушка, которую он учил читать; другая, которую он никогда не видел; бравый прадед в военной форме (к нему – девяностолетнему – он приезжал в гости); молодые, неузнаваемо молодые дед и бабушка (им ведь теперь тоже девяносто). Фотографии, снятые много лет назад, в другой стране, в другом времени, и даже глаза почти нельзя узнать (неужели это те же самые люди?), он пытается вслушаться в вырванные из общего шума голоса, вернее, в их немоту, в то, что они хотели бы сказать, в тот несостоявшийся разговор, который является суммой всех действительных или, вернее, конечно, чем-то куда большим, чем простое собрание. Чаще всего они листают этот самый старый альбом, всматриваются в свою молодость, но ведь есть и другие, с фотографиями, снятыми намного позже, и за последние сорок лет с ними тоже произошло очень много, немыслимо много событий, которые и я немного помню, если, конечно, это можно назвать памятью. А вторая бабушка все продолжала рассказывать, как они опять возили его мать в больницу (нет, он не станет исполнять просьбу поздравить ее с днем рождения; он будет стараться помогать им, если эти недостарания вообще можно назвать помощью, – помогать им, но не ей; что-то всегда будет мешать этому; не упрямство – какая-то неформулируемая и непроходимая преграда; что же тогда такое его нелепая помощь, если главное, в чем нужно поддержать стариков, – это помочь им разобраться в их отношениях с дочерью; а именно здесь он феноменально беспомощен в роли помощника; и все, что ему остается, – это делать их безумие чуть более комфортным, и толку здесь удивительно мало, не хватает смелости признаться, что его нет вовсе; а разбитый алкоголем мозг дочери (матери) продолжает рушиться, и мозг матери (бабушки) тоже рассыпается – от нервов и от старости; недавно позвонил дед и сразу передал трубку бабушке, чтобы я успокоил ее; она снова ищет свою мертвую мать, на которую становится все больше похожа, а потом спрашивает, где же дед, где ее муж, который минуту назад передал ей телефон и стоит рядом с ней, выслушивая эти сумасшедшие вопросы, – что он чувствует? как мне помочь ему? – но вот она уже успокаивается, вслушиваясь в мой голос, в рациональность доводов, перестает всхлипывать, говорит: «Прости меня, со мной что-то случилось, со мной что-то случилось»; через пару часов к ней вернется полупамять, и она снова сможет делиться со мной скудными новостями, повторять их), да, она продолжала пытаться рассказать мне что-то про мою мать, а я слушал, только не смогу понять – внимательно или нет. Текучие, перемежаемые паузами репризы выстраивались в странный, не столь уж понятный рокот. А другая бабушка как-то раз, когда ему было еще лет шесть, невольно сказала то, что он так и не сможет забыть. Твои родители поженились, толком не зная друг друга, все как-то наскоро, вот почему ничего из этих отношений и не вышло. (Короткая пауза.) Ну, кроме тебя, конечно. (Минутная, нет, многолетняя пауза.) Подумал тогда: кроме меня? А этого недостаточно? Кроме меня. Бабушки говорили, говорили. Да, их голоса превращались в мерный шелест, в рокот волн. Ему казалось, что он вспоминает то, что помнить уж точно не может. Разве что благодаря давно потерянным подсказкам – слайдам и беззвучным кинолентам, на дальнем фоне которых всегда было море – ничего, кроме него. Скрежет камней и ракушек, принесенных пеной, шелест песка, сползающего вслед за потоками. Крабы, мечущиеся по берегу и, едва почуяв опасность, ныряющие в крохотные норы. Вновь разворачивающиеся свертки волн (всегда – слева направо), запах водорослей, мокрый песок, засохший мусор, легко превращаемый в игрушки, – все это уже не могло никуда деться. Коварно-торжественное замирание природы. Прикрыв ладонью глаза, он куда-то смотрит. До конца не мог вспомнить и все-таки помнил. Вернее – не терял этот последний шанс вспомнить. Впрочем, и это, наверное, было подвидом забвения. Все невычеркиваемые падения во время – в них почти умираешь. Забвение многократно превышает память, сохраняя ее как странную дрему, как указание на себя, как уведомление о ничтожности любых воспоминаний. За всем их испаряющимся месивом, за всей их беспорядочной суетой царит неподвижный, каменный покой. И письмо тоже всегда определено мерой великого забвения, оно плещется и обретается в его недрах – алфавит рождается там. Только забвение и позволяет разворачиваться истории (если угодно – Истории). Родители, едва ребенку успел исполниться год, отправили его с какими-то малознакомыми людьми к бабушке и дедушке (рассказывали, что я кричал на протяжении всего полета; ты сочла, что это было главное событие моей жизни, предопределившее все; и я уже почти готов согласиться). Но именно там впервые – столько разлитой воды, сразу. В очень далекой стране, которой больше нет. На побережье, у волн. Их шум, их запах. Не помнил и все-таки помнил. Во всяком случае, раньше этого воспоминания не было ничего. Оно раньше родителей. Там же еще через несколько лет (я дважды вернусь туда – один раз четырехлетним, второй – двадцатилетним; даже найду дом, где мы жили) пережил и возможность исчезновения, когда застрял в складках волны и, открыв глаза, следил за ее прощальными вращениями; его кружило, он уже готовился задохнуться и соскользнуть в самую глубину, как вдруг обнаружил себя над водой, а ноги снова доставали до дна, это показалось чудом (может быть, тогда и появилась эта привязчивая морская игра: его, единственного выжившего матроса с разбившегося в буре корабля, выбрасывает на незнакомый берег). Позже он начнет бессознательно отшатываться от бесконечного опыта мира. Но, наверное, оттуда и всплывает неприступный образ – просторы водной пустоты, которую никогда не удастся застроить, заселить, сделать сподручной. Здесь, как и в пространстве памяти, подобные начинания выглядят как-то по-особенному беспомощно и сомнительно. Море по-прежнему неприручаемо. Море – это и есть забвение. Море – это и есть письмо. С ним нельзя вступить в сговор. Обступая островки, укачивая в тревожном полусне целые континенты, лишь по таинственной, неведомой милости оно не смывает с карты мира их очертаний. Или еще: помнишь, как в другой чужой стране (граничащей с той, в которую меня отправили в детстве) мы забрались ночью в чью-то лодку и сидели, свесив босые ноги в воду, болтая о какой-то ерунде? Ведь тогда с нами уже случилось все, что много позже должно было сложиться, определиться, обрасти деталями. Это были уже мы, хотя и не совсем мы, а какой-то поразительный горизонт нашей жизни. Но как будто те мы тоже никуда не девались и продолжают сопровождать нас сегодняшних, так поменявшихся. Что означает интервал между нами нынешними и тогдашними? Это не укладывается в голове, всегда проговаривается негодными, неподходящими словами, которым не удается ничего, кроме как взбаламутить поток тишины, внести скверную фальшь в величественные аккорды молчания. Выступать контрапунктом здесь способен лишь монотонный плеск. И сейчас они (словолны) опять развертываются с тем же звуком. Бабушка продолжала говорить что-то, а он все молчал и молчал, и безмолвие в считаные секунды утрачивало весь горделивый ореол – он понимал, что просто не может высказать то, что его мучило. Как в детстве иногда замолкал лишь потому, что не способен был сформулировать противоречивые мысли, а вовсе не из-за того, что считал слова неважными. Да, его упрямое безречье можно было разоблачить лишь несколькими фразами или даже жестами – выявить всю шаткую двусмысленность его молчаливого голода, различить в нем лишь неловкую заминку, лишь пепел тощего слова, застрявшего в робком горле. Кажется, он и не вырастал. Стоит перед бабушкой, словно провинившись. Она вовсе не ругается, и все равно как-то совестно. Знакомое чувство стыда, от которого никуда не скрыться. Стоит, погруженный в свое презренное, косноязычное молчание, так не похожее на блаженное спокойствие деда. А сны про бабушку еще невыносимее, чем про мать. Вот самый недавний: какой-то праздник, за столом – родственники, знакомые и даже совсем посторонние люди; бабушка суетится над тарелками, старается уследить, чтобы всем всего хватило; вдруг замечает, что кто-то не попробовал суп, говорит, что сейчас нальет, непременно нужно попробовать; только суп почему-то в кофейнике на дальней полке, где-то наверху; одной рукой бабушка держит на уровне лба плошку, а другой наклоняет высокий кофейник, пытаясь попасть в миску струйкой супа; но это не удается, и бульон льется ей на голову, стекает по волосам, плечам, вся блузка в пятнах; лужа на липком полу, тут же, прямо на столе, какие-то неуместные, покрытые жиром тазы и ведра; бабушка приговаривает: «Ничего-ничего, ничего страшного», упорно пытаясь наполнить супом плошку, которую придерживает лбом; и он – словно один из гадких гостей, пытающихся превратить происходящее в шутку, – замерев, сидит за столом; даже не пытается сдвинуться с места, в ужасе молчит. И это его молчание еще хуже, чем самая пустая болтовня. Так же и сейчас, в застывшем прошлом, он просто слушает ее монолог. Она еще не в лечебнице. Она еще не исчезла. Я еще не сижу рядом с ней в машине скорой помощи, перевозя из реанимации одной больницы в другую, бессмысленно глядя на показания аппарата искусственной вентиляции легких, положив руку на ее живот, чтобы убедиться, что она дышит. Мы с дедом еще не склонились над ее кроватью в надежде, что она услышит то, что мы говорим, что изменит свой стеклянный полувзгляд, не дающий возможности понять, слышит ли она нас (мы, конечно, догадываемся, что не слышит). Что будет кипеть в этот момент в ее голове? Может, что-то, немножко напоминающее мою прозу? Или что-то совсем другое? Или почти ничего? А пока что старуха лишь бесконечно много раз повторяет одни и те же слова – точно так же, как иногда с блуждающим, никого не узнающим взглядом перебирает предметы в сумке, пытаясь вспомнить, что именно она собиралась найти (лекарства? паспорт? телефон?), забыв, что ничего и не искала. Но нет ничего более жестокого, чем намекнуть ей на бессмысленность этих поисков – она готова будет расплакаться, если услышит такое. Она и так захвачена тревогой. Каждую секунду она теряет еще что-то. Внезапно весь необъятный мир ее бесчисленных свертков, узелков, кульков, шкафов, комодов, полок, тумбочек, кухонь, кладовок, погребов, баночек, кастрюль, подносов, чашек, половников, плошек, ящиков, коробков, мешочков, грядок, цветников, лужаек, теплиц, парков, озер, полей, лесов, морей – весь он сузился до размеров маленькой сумочки. Ее голос. Прости, со мной что-то происходит, со мной что-то случилось. Он ничего про нее не знает, про одного из самых родных людей. Не решается даже поправить ее растрепанную прическу, боясь обидеть. Нет, он не может проникнуть в ее жизнь. Мечтал бы поговорить с ней, но они оба замкнуты, закрыты друг для друга, и с этим ничего нельзя поделать. Действительно ничего. Врачи светят чем-то ей в глаза, просят дотянуться до кончика носа, высунуть язык; покорно, с некоторой растерянностью она исполняет эти равнодушные приказы, забудет их уже через минуту. Он замечает неотстиравшееся пятно на рукаве ее кофты. Помнит ее совсем другой – далекой, всемогущей, красивой, а теперь перед ним – распадающаяся, беспомощная. Той, прежней, уже никогда не будет, или она все-таки прячется где-то внутри нынешней? Два образа смешиваются, и все же отказываются смешаться. Он не слишком верит врачам, но приводит ее к ним. Иногда ей все-таки становится лучше, она начинает вспоминать. Когда-то у нее было два брата, один – умственно отсталый, второго похоронили маленьким ребенком на каком-то военном полустанке. Она почти ничего не рассказывала про них. Как поздно он узнаёт что-то о контурах ее жизни, полной кошмаров. Но и восторгов тоже. Да, восторги тоже были. Смотрит ей в лицо так, как недавно осматривал двор дома, в котором когда-то жил. Несколько смутных воспоминаний, но почти никаких чувств, кроме тревоги. Разве что изумление, что здание прямо рядом с детским садом оказалось не отделением милиции, как он всегда считал, а тюрьмой. Его детский сад был напротив тюрьмы, ведь это удивительно. Идеальный, сияющий гротеск. Текучая, молчаливая вода. Бесконечный дождь. Попытаться переждать его на пороге психбольницы. Неподалеку от морга (никаких преувеличений, все это на соседних улицах). Знаки неясной жизни – с самого дна памяти. Оледенелые буквы, не складывающиеся в слоги. Мертвые подворотни, дороги, лестницы, по которым когда-то ходил каждый день. Разрушенные детские площадки, они с самого начала были руинообразными. Помню, мы гуляли здесь с отцом. А вот еще один сон: подъезд дома, в котором жили дед с бабушкой до того, как переехали. Фойе с высокой белой лестницей, не в пример нашему облезлому подъезду. Словно я вернулся туда спустя тридцать лет. Консьерж спрашивает из-за стекла, к кому я иду. Называю фамилию. Вы сын? Нет, внук. Ваши имя и отчество? Называю. А вашего отца? Называю. А вашего деда? Называю. Постойте, я запутался, говорит консьерж, вот лучше запишите в столбик все имена и отчества. Протягивает мне старую разлинованную тетрадку, уже изрядно исписанную кем-то. Я нахожу свободное место и, облокотившись на перила, свернув тетрадь вдвое, пытаюсь записать в столбик слова, но ручка все время соскальзывает. Когда после долгих попыток удается накорябать что-то относительно разборчивое, протягиваю тетрадь консьержу. Он говорит, что не может ничего понять в кривых буквах, предлагает сесть за стол в его комнате и написать аккуратнее. Прохожу к нему за стекло. Комната оказывается весьма просторной. Пока он продолжает заниматься своими делами (писать что-то, отвечать на телефонные звонки, поливать цветы), я сажусь за второй стол, возвращаюсь к попытке записать в столбик три имени. Но снова фиаско: в ручке кончаются чернила, а старая бумага расслаивается под стержнем на какие-то катышки, мнется, рвется. К тому же я уже исписал всю страницу невыносимыми каракулями, а свободного места в тетради больше нет. Все продолжается мучительно долго. Нет, у меня не получится записать нужные слова. (Недавнее признание отца: я не смогу подготовиться к смерти деда, не представляю, как быть, если он умрет; пусть он живет как можно дольше; и еще ведь, получается, почетное звание старейшины рода перейдет ко мне; а я не хочу.) Невероятно, что я все еще могу общаться с ними. Когда-нибудь, очень скоро они все равно начнут умирать. Одна за одной, один за другим. Еще вспышка: мы с двоюродным братом (я почти забыл, как он выглядит) вжались в поручни детской карусели, которую дед раскручивает все быстрее и быстрее. То ли я и в самом деле помню, то ли просто потом часто видел черно-белую фотографию с двумя мальчишками. Но действительно странно оказаться в этом месте через тридцать лет, расширив короткий взблеск до невообразимых пределов. А ведь до того, как мне исполнилось десять, я проводил здесь каждое лето. Детских площадок под деревьями давно нет, но почти все осталось на удивление прежним: тем же самым, и все же совсем другим. Вот оно, это место. Мы въезжаем в березовую аллею, здесь когда-то отец сажал меня на колени и учил водить машину, тогда эта дорога казалась бесконечной. Обычное для детства увеличение расстояний. Но дальше будет не так. Все словно начнет воспроизводиться с замедленной скоростью. И восприятие тоже замедлится. Я вспоминаю каждый поворот. Вот здесь раньше была площадка для городков (ее больше нет), рядом теннисные корты, похоже, их не восстанавливали с тех пор – в заграждениях зияют дыры, краска облупилась, коричневатая хвоя по углам, ворс полностью вытоптан. Рядом – детская футбольная площадка. Огромный прямоугольник деревянной стены и крохотные заржавелые воротца по центру. Но даже какая-то радость, оттого что ничего не подретушировали. Вопреки сохранившимся лишь в черно-белом виде фотографиям я хорошо помню густо-зеленый цвет. Только сейчас он совершенно не сочетается с желтизной фона: впервые в жизни я приехал сюда осенью. Какие-то ненужные новостройки просвечивают вдали за деревьями. Они совсем уж неуместны, потому что их не может быть в моей памяти. Хочется разломать, уничтожить это безвкусное нововведение. Косогор над рекой, вот здесь не изменилось ничего, только стволы стали еще выше и толще. Мы с братом иногда сбегали с этих холмов вниз. Может быть, он помог бы мне вспомнить что-то, известное только детям, но я не знаю, увижу ли его когда-нибудь, с трудом представляю даже страну, в которой брат сейчас живет. Вряд ли мы с ним приедем сюда еще раз, вряд ли мы даже созвонимся. А нам было бы о чем поговорить, если бы начали разговаривать. Но мы не начнем. Пожалуй, я и не хотел бы начинать. (Снова ошибка – через год мы с ним увидимся, и окажется, что все мои представления о нем неверны, я расскажу ему про эту поездку и даже пришлю фотографии, а когда-нибудь мы, может, даже приедем сюда вдвоем – нет, это уже ненужно-сентиментальные мечтания.) Рябь реки внизу, тени деревьев, бесконечный лес. Идем в другую сторону. Малиновая черепица жилых корпусов. Здания не изменились (то есть вообще не изменились, как будто даже шторы в холле остались прежними), только сейчас совсем пустынны – под моросящим дождем не встречается ни одного человека. В трехэтажном корпусе, кроме нас, действительно не было жильцов. Словно меня пустили в прошлое, уже лишенное жизни. Но и этого – слишком много. Вот три дерева (вернее – три ствола, соединяющихся в один корень), около которых я научился ходить. У бабушки есть фотографии (да, первым шагам меня учила она, а не мать). Рядом – огромные елки, под ветвями которых можно строить целые города. Я помню все эти высоченные деревья. И то, что отец мог подкинуть мяч выше их верхушек. А вот белая тумба, которая в детстве была всем, чем угодно: каретой, крепостью, горой. Мне тогда было четыре или даже три года. А сейчас на нее забралась наша двенадцатилетняя дочь. Смотрим на нее. Теперь дорога через лес. Новые странности: в детстве путь ко второй речке и обратно был настолько привычным, что не казался длинным, но теперь ясно, что он займет около часа. Подхожу к ели, берусь рукой за сухие, острые ветки. Первые иголки начинаются на пять метров выше моей головы. Таких толстых стволов я не видел больше нигде, может, только в Шварцвальде. Зеленые от мха ветви. Множество грибов, не приходит в голову собирать их. Просто смотрю, просто слушаю. Звук леса тоже прежний. Поляна, мимо которой проходили когда-то сотни раз. Непривычно красные листья под ногами, непривычно сухая трава, непрерывный хвойный ветер. Теперь крохотный полуостров у пересечения двух рек. Первый раз я побывал здесь, когда мне был год (или даже на несколько месяцев раньше), тоже есть фотографии. Те же пятна ряски у берега, еще и листья, но вода чистая, просматривается до самого дна. Опять какие-то ненужные домики на противоположном берегу. Как разбросанные кем-то детали конструктора. Здесь начинает казаться, что впечатлений уже непоправимо много. Но мы идем дальше. Прошло несколько часов. Территория огромна. Это раньше все было на расстоянии вытянутой руки. Сидим в старой беседке. Когда-то в ней тайком курили знакомые подростки. Снова выходим к корпусам, на дорогу, по которой каждый вечер ходили ужинать – в эти часы бабушка накидывала на плечи шаль. Ей тогда еще не исполнилось шестидесяти, сейчас, повторю, девяносто. Вот здание кинотеатра, заросшая травой лестница выхода. Поднимаюсь по ней; когда-то я боялся этих прорезей между ступенями. Низкие, неудобные перила. В самом кинотеатре все переделали, больше нет старых откидных кресел, неинтересно, нет смысла входить в зал. Теперь спускаемся к лодочной пристани и пляжу. Песка уже нет, просто лужайка, окруженная невообразимо высокими соснами. Их собирающиеся в шары рыже-зеленые иглы. Вот каменный бортик, с которого я прыгал в воду. На лестнице новые ступени, но под ними – старый каркас, мне хорошо знаком этот темно-розовый цвет. Такие детали запоминаешь только в детстве (точно так же сразу узнаю плитку на балконе в нашем номере). У заброшенной пристани больше нет лодок, от прежних времен осталась только заколоченная будка. Еще было старое облепиховое дерево, похоже, его срубили. Тишина, покой, но отчего-то – никакого умиротворения. Единственное, чего мне не хватило, – это путешествия на лодке вдоль склоненных над водой веток, кажется, я помню каждый речной изгиб, или, может быть, хорошо, что лодок не было. Потому что ночью голова расколется от боли, и только благодаря тебе я смогу наконец уснуть с мокрым полотенцем на лбу. В номере, похожем на тот, где когда-то засыпал каждый день. Как будто забрел на те уровни прошлого, куда заглядывать не следует. Какая нелепая игра. Голова не сможет вместить ее. Внезапное осознание: в моем детстве не было никаких травм, потому что все оно было травмой. Не за что ухватиться. Каждый из фрагментов по отдельности не болезнен, но стоит ему сомкнуться с любым другим, и они пробуждают истерику. Все эти вроде бы безобидные, даже радостные события. Сейчас, когда печатаю, голова опять начинает трещать по швам. Может быть, не нужно было приезжать? Может быть, и старую дачу тоже нужно навсегда бросить? Может быть, это что-то изменит? (Недавно снилось, что дом сгорел.) Уехать в другую страну, как сделал брат? Он не стал даже звонить деду на девяностолетие. А я, кроме него, наоборот, почти никого не поздравлял за последний год (и на протяжении долгого времени успешно скрываю от знакомых день своего рождения). Впрочем, брат еще приедет к деду, еще увидит его девяностолетним, еще обсудит это со мной. В конце концов температура поднялась до тридцати девяти, почти совпав с моим возрастом. Потом выяснится, что именно в этот день – день поездки – я подхватил какой-то вирус, но разве можно поверить в это совпадение? Мне снятся складки реки. Я опускаю в них голову. Там, под водой, мы с братом крутимся на карусели. Застывшие призраки. Внутри дождя. Почти исчезнувшие и все же продолжающие исчезать мгновения. Я упрямо пытаюсь провалиться в них. Так в недавнем сне мой маленький сын, не обращая внимания на запреты, назло мне залез по шею в заполненную холодной осенней водой канаву. Я тоже пытаюсь окунуться в холодную воду, вытащить из нее свое детство. Да, почти исчезнувшие и все же продолжающие исчезать мгновения. И что я чувствую теперь? Неосуществимость? Безразличие? Нужно что-то ответить. Нужно зачем-то писать обо всем этом. Из года в год. Может быть, я никогда не смогу завершить этот короткий, слишком короткий текст. Под приветственными улыбками всегда будет колыхаться сгусток неврозов, истерик и непонимания. В пустой комнате до сих пор продолжают толпиться родственники, знакомые и не очень. Невыносимо. Как же часто ему хотелось, чтобы они исчезли. Но нет, он не торопится выгонять их. Все равно, кроме них, у него нет больше никого. Пусть даже с первым встречным ему легче заговорить, чем с ними. Пусть даже почти все они давно мертвы, ему продолжает казаться, что единственный покойник – он. Да, их лица склонились над лежащим на полу, едва заметным, но все еще принадлежащим ему телом. То ли они мучают его, то ли он – их. По-прежнему слышит гул их голосов, они доносятся откуда-то с небес. Кажется, спрашивают о чем-то или укоряют. Может быть, отпевают его. Все так же мало намеков на взаимопонимание. Но разве можно расслышать хоть слово в этом клубящемся гомоне, в этом полузабытье? Что он может сделать, кроме как притворно шевелить губами, в надежде, что его молчание примут за растворившиеся в общем гаме ответы и, удовлетворившись этим, не станут переспрашивать. Нет, потом наконец он все же начнет рассказывать. Не всем сразу, только бабушке, она опять перед ним, одна. И этот неуклюжий диалог, видимость общения. Не скажет ничего из того, что действительно стоило бы обсудить – не потому, что не сможет решиться, а потому, что по-прежнему окажется не готов даже начать формулировать этот вопрос внутри себя. Так много нужно узнать у нее, но он этого так никогда и не сделает. Пожалуй, бабушка и не смогла бы ответить, не захотела бы отвечать, даже помешала бы спросить. Наконец ушла бы, не сказав ни слова (в итоге именно так и произойдет, можно не сомневаться). А может быть, вопросы слишком запоздали. Да, она не сумела бы вникнуть в них, ведь он и сам не может. Но вдруг у нее все-таки были ответы? Все же так много, бесконечно много времени, чтобы задать вопросы, и он все упустит, все до последней минуты. Но где-то внутри памяти он (разумеется, не признаваясь в этом) находит боязнь возможности ответа. Может быть, поэтому и не решается спросить, не знает, что именно спрашивать. А ведь теперь он говорит что-то, не переставая, словно подражая ей? Конечно, про своих детей. А бабушка что-то спрашивает, как будто и не дожидаясь никакого ответа. Да, она кивала, когда он говорил. Верила, что у нас-то все по-другому. Она (мать или бабушка?) сама виновата, а мы-то хорошие родители. Детство наших детей лучше нашего. Но мы с тобой всегда знали, что создали их для себя, ради нескольких (но все же – таких долгих, почти бесконечных) лет своей радости. А они прижимались к нам. Откуда могла взяться нелепая уверенность, что им лучше? Но только глядя на них, мы чуть-чуть прикасались к жизни. И чем больше они вырастали, тем сильнее укреплялось чувство стыда. Сами толком не понимая его, мы, конечно, не надеялись и на то, что оно будет ясно детям. Мы ничему не могли их научить. Мы не смогли подобрать ключей к ним. В изнеможении уходили в последний оставшийся на земле сквер и укладывали свои тела в продолговатые лужи, чтобы полюбоваться тонкими ветками и осенним небом. Иногда говорили о том, что в старости найдем способ умереть одновременно. Но это решение легче представить, чем принять. Да, ложились в прорези луж. В шаре, сотканном из серебряной паутины. Почувствовать странное жжение в зиявшем безмыслии. Держась за руки. Все же нам повезло.