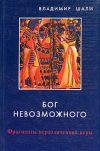Текст книги "В молчании"
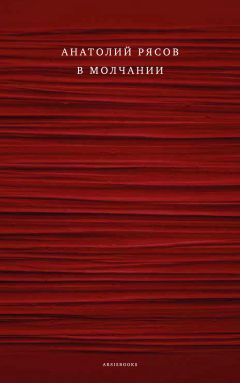
Автор книги: Анатолий Рясов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
§ 15. Сумрак
Не перестает приближаться. Что ж, продолжим. Если, конечно, здесь уместно говорить о продолжении. Но взгляните, какой странный у него почерк. Пробелов между словами едва ли не больше, чем самих слов. Да и, кажется, белизна продолжает стирать строку за строкой. Букв все меньше и меньше. Неужели не замечаете? Вот-вот и его самого застят эти сияющие лакуны. Как притягательно. Как пугающе невыразимо. Голова все еще наклонена. Но никакой сонливости. Почему-то продолжает ждать, что сквозь белизну проступят слова. Обозначатся черными ожогами или еще как-то. Он не решается признаться себе, что боится именно этой минуты, что слова и есть главный источник его боязни. Он и не призна́ется. Да и в страхе ли дело? Пока только снежное спокойствие. Только ослепление. Может быть – глухой шум, стоны, мелкая пыль неба. Так все и будет тянуться – одно за другим. Что-то хорошее, что-то невыносимое – постепенно разница начнет стираться. Просто будет длиться что-то, и пусть. По очереди или все сразу. Немота в завязях тумана. Когда-нибудь буквы прорастут сквозь метель. Как черные лучи странного, навсегда потерянного, ненужного маяка. Откуда-то эта болезненная надежда. Зачем-то это ликующее отчаяние. Под выцветшими облаками. В окружении стен, исполосованных прозрачными царапинами. За изгородью, обвитой лишайником невидимых морщин. Их притворная моложавость вот-вот рассыплется, может быть уже рассыпалась в пыль. Но прежде чем стать бесконечной, этой истории нужно начаться. Рано или поздно это должно случиться. Что же я вижу. Зевающие, скучные улыбки, смуглую вогнутость несуществующих лиц. Неисполненные обещания, безукоризненно стертые имена, их беззвучный топот. Всю эту малость. Даже если слова повествования не приходят, могут появиться другие, описывающие отсутствие. Но уже давно нет и их. На бумаге оседает только иней чужого дыхания. Неживая, едва колышущаяся пена. Лишь иногда еще неуместная вера, что вдруг удастся, как когда-то, записывать первое, что приходит в голову. Фиксировать все, о чем мимолетно задумался. Откуда-то брались силы на это. Так было раньше, неизвестно когда. А теперь уже почти не жаль, что мыслей толком нет. И все же – еще одной строкой больше. Так может дойти до чего-то, кто знает. Еще раз судорожно подсчитать страницы. Так же ничтожно мало. Кто бы сомневался. А из-за постоянных сокращений и вычеркиваний, кажется, даже еще меньше. Может быть, добавить еще больше абзацев. Или начинать каждый абзац с новой страницы. Не поможет. Может быть, поступать так с каждым словом. С каждой буквой. Вот до чего дошло. Нет, лучше снова удалить все красные строки. Снова писать так, как будто разбиение на абзацы еще не изобретено. Может быть. На месте стоит лишь проза, но кажется, что остановилось все. Или подождать. Еще немного, еще пару лет. Пока рассказ (ясно, что не роман) наконец не сложится сам. Пространный афоризм, не претендующий на выразительность. Нет, что-то упрямо говорит о том, что здесь будет иначе. Строка к строке, все опять станет нагромождаться друг на друга, как дождевые потоки. К счастью, с этим удалось разобраться, это удалось остановить, но осталось еще самое главное – неисполненное обязательство предотвратить саму возможность повторения. И это закрытие занавеса необходимо осуществить внутри письма, иначе окончательность остановки не будет подлинной. Именно запись должна уничтожить потребность в записывании. Должно быть так. Откуда-то эта убежденность. Но не лучше ли было вообще не ввязываться в это? Кто спорит, но вопрос теряет смысл для всех, кто начал с опоздания. Точкой отсчета для летописи мира всегда оказывается забвение. И все же письмо нужно беспамятству, чтобы указывать на себя. Это указание и остается отсутствием желанной преграды. Нагромождаясь, наслаиваясь друг на друга, неначатые строки стираются. Замерзают. Снова сияют густой белизной. От которой можно ослепнуть. От которой нельзя спастись. Дымчатые узоры, бледные следы необутых ног, колышущаяся острота звезд. О них можно подумать. Снова уставиться на них. Представить, что они немного похожи на буквы. Их тени тоже искривлены ознобом. Знакомый, чуть взломанный почерк. Не принадлежащий никому. Взгляните. Смысла пока не разобрать. Чуть позже он, может быть, прояснится. Уже завтра или еще раньше. Может быть, прямо сейчас. Пока – только пенный лед и весь этот нескончаемый клекот под ним. Герои все так же время от времени заходят в его комнату, чтобы помолчать. Что ж, он научился различать все нюансы их безмолвия. Говор, который и не думает начинаться. Что? Вижу. Сумерки и метель обволакивают друг друга, но белое и черное не сереют. С каждой минутой темнота становится еще немного темнее, но не настолько, чтобы совсем перестать сгущаться. Всегда сохраняет эту возможность темнеть еще больше. А белый лист, кажется, начинает сильнее светиться, напоминать об отсутствии слов. Он стал еще белее. Зачем-то. Отступающие мысли, серебряные вспышки, проигравшие сражение надвигающейся на них бесцветности. Белой, как сам белый цвет. Как он есть. Мгла, раскрывающаяся еще больше, застящая все. Последняя белизна, но не в том смысле, что ее больше не будет. Отныне будет только она. Вечно бледная. Это и есть истинный цвет слова. Лишь неприметная траурная кайма по краям. Столь очевидная, что ее материализация необязательна. Сумасшествие, едва слышная ворчащая брань. Отголоски трескучих криков. Их безымянная, бьющаяся о стены отторженность. Сухая пыль мира в зазубринах тишины. Забвение. Мои зашитые веки.
§ 16. Квартира
Эхо шагов. Еще несколько мгновений назад казалось, что дойти сюда невозможно, что лабиринт несуразно узких улочек и проходных дворов будет вечно оборачиваться скользящей усмешкой. Но вот – внезапное, дышащее прозрачностью, истомное бесцветье. Узкая, слишком хрупкая лестница. Как-то она выдерживает тяжесть громадных ступеней. Как-то не теряет изящества. Как-то находит общий язык с временем. Впрочем, ступени могут лишь казаться огромными. Едва различимые в тусклой, талой мгле, они слишком воздушны, чтобы можно было описать их. Как и все остальное. Крохотные окна – лишь в высоте, где-то под самым куполом. Или это свечи? Или искрящиеся зеркала? Или? Не разобрать. Спускаясь, нити незаметного света завиваются в обтянутые бархатной пылью перила. Тонкие, смуглые фрески на осыпающихся стенах. Их лукавая монотонность. Их знакомое, хриплое молчание. Продолжаю подниматься в бездну ослепительной тишины. Дрожащее свеченье, блеск сумерек – непроходимые дюны, целые горы немоты. Их очаровательный, надрывный лязг. Их ледяная твердость. Моя растерянность, моя боязнь вымолвить хоть слово или даже промолчать. Но ведь теперь, когда ступени обрушились, назад не вернуться. Выступы исчезли, как облака, развеянные ветром. Я заперт в ловушке лестничной клетки. Между сквозящими потоками. Может быть, есть и другие двери, но, конечно же, не замечаю их. Все равно они окажутся наглухо запертыми, несуществующими. Продолжаю ждать, застыв в цепкой неподвижности. Все еще бесконечно далеко до встречи. Слышные и неслышные скрипы, другие случайные призвуки. Но отголоски речи, кажется, приближаются. Неужели для свыкшегося с тишиной это возможно? Да, если это последняя, снежная речь.
Потом я постучал. Отзвук, равномерная неровность тишины. Опираясь виском о темноту, ждать было несложно. Все готово было предстоять бесконечно. И вот, через несколько мгновений – мягкий, неслышный стук шагов, и мне отворили. Ее мерцающее лицо, приоткрытые спокойные глаза. Ее почти неприметная улыбка. Тонкие пальцы, полупрячущиеся с той стороны двери. Светло-розовые овалы, их бледно-белые сердцевины, рассеченные тонкими полосами света. Эта прекрасная, хрупкая худоба. Неведомость ее существования. Призрачное, почти знакомое сияние. Не мог пошевелиться, окутанный неистовой недвижностью, что расположилась на месте еще не произнесенных слов.
– Войдете?
– Да, всегда испытывал слабость к сумеркам и молчанию.
– Даже не знаю, чего здесь больше.
– Неторопливости?
– Может быть, если, конечно, не считать ее частью безмолвствующего полумрака.
– Не важно, я спросил, просто чтобы еще раз услышать ваш голос.
Снова воображаемое место. Ширмы на месте стен. Усыпляющее беззвучие, полусвет. Высокие кресла, плотные портьеры, отблески бокалов – все словно из другого, давно минувшего или никогда не наступавшего века. Тени, их тревожная музыка. Помню, как я впервые пришел в эту пустынную квартиру, странно – тогда она показалась мне совсем не похожей на себя. Представлялось, что комнаты, полные причудливой, смутной немоты, должны выглядеть как-то иначе. Но и что-то общее тоже было. Наверное, сам однозвучный узор тишины. Схожесть со степью или небом. Без вычурности. Рука едва заметным (похожим на далекое хоровое пение) движением отвела от глаз тонкую прядь. Изгибаясь, длинные волосы точно копировали контуры плеча. Далее – едва слышная беседа, перемежаемая сверкающими паузами. Пока тянулась каждая из них, они успевали по несколько раз забыть и вспомнить друг друга.
– Сколько сторон у темноты?
– Не меньше, чем граней или вершин.
– А многие из вершин покорены?
– Уже ни одной. С тех пор, как их начали считать…
– Слова ускользают, как мысли.
– Да. И мысли тоже ускользают, как мысли.
Занавешенные оконные рамы. Их монотонная, загадочная бездвижность. Разговор, окруженный хрупкими лучами теней. Приглушенные голоса. Пытающиеся произнести забвение. Самое сложное – правильно расставить затишья между произносимыми фразами.
– На некоторые ширмы я решила повесить окна. За шторами спрятаны междуночные картины и междудневные гравюры.
– Я помню.
– Стоило бы занавесить и дверные проемы, но что-то сдерживает меня.
– Что именно?
– Точно не здравый смысл. Может быть, тяга к неприметным сквознякам.
– Или беспредметный смех?..
– Прикоснитесь ко мне.
– Разве я уже не прикасаюсь?
– Еще нет.
Здесь повсюду темнота. Нет, тусклый лиловый полусвет. Нагая бледность. Кутались в дымящиеся сумерки, вслушиваясь в дышащее безмолвие, в его мерный, внезапный шум. Тут же рядом – на ширму облокотилось вытянувшееся вдоль пола зеркало с закругленными углами. Не без любопытства поглядывали на переливы отблесков, на рассыпавшиеся волосы, на изгибы рук, на исчезающие в темноте очертания, на робкую красоту судорог. Боялись спугнуть их. По-прежнему почти ничего не знающие друг о друге. Мне понадобилось несколько лет, чтобы запомнить цвет ее глаз. Казалось, хлынул сверкающий ливень. И он уже не прекратится.
– Вы когда-нибудь чувствуете удушье?
– Только когда дышу.
– А я задыхаюсь оттого, что никак не могу надышаться тишиной.
– Так и будет, пока смысл здравствует.
– Как, столь недолго?..
Исчезающее существование. Его привычная странность. Сутулая игла секундной стрелки неприметно замедлила свои обороты. Наши ладони все реже и реже ощущали ее мягкие покалывания.
– О чем вы сейчас думаете?
– Позабыла, что мы еще здесь.
– Я и сам едва это замечаю.
– Не помню, если вы еще ждете ответа…
Лежали в лиловой темноте. И на месте стен не было ничего.
Без моросящих слов.
Только хруст наших пальцев.
§ 17. Остров
Нужно сказать о нем еще что-то. Да, по обросшим зеленой шерстью камням все так же осторожно и торопливо перемещаются мелкие крабы, ненадолго выползая на солнце и опять ныряя под размякшие щепки, дряблую ботву, листья и случайные корки. В поросль своих заплесневелых дворцов, под крапчатые камни, распластавшиеся, как могильные плиты. Там внизу невзрачная щетина мха разрастается в гигантскую сеть, тихо колышется и временами выплескивается на скалы зеленой грязью. Один из уступов заштрихован движущимися тонкими темно-серыми полосами. Это вереницы муравьев неровными линиями сбегают на песок и исчезают в золотисто-пепельных россыпях, лишь изредка мелькая среди разбитых ракушек и покрытых налетом соли коряг. Косые коричневатые лучи тонут в стертых следах на песке, погружаются в желтый лёсс. Ближе к опадающим и вновь и вновь стягивающимся волнам – полоса за полосой – берег темнеет и кажется глинистым, а прямо у воды – блестит и даже отражает пустоту неба. Вдоль кромки по мокрым, изъязвленным неприметными морщинами валунам, петляя, скользит тонкая тень. Тут же рядом плотная, темно-зеленая ткань размочаливается в стеклянную, исчезающую бахрому. По всему побережью разбросаны волглые сучья, мелкие обломки коры, лепестки белых листьев (нет-нет, никаких цветков), серо-зеленые травинки, перья, продолговатые раковины, обрывки водорослей, мертвые и полуживые насекомые. Похожие на иссохших спрутов деревья склонены над этими неразборчивыми, мрачными иероглифами. Их ветви и вырвавшиеся из земли корни почти касаются черной воды, норовя погрузиться в маслянистую рябь, в переливчатый блеск. Разница между ними и продолжающими их отражениями по-прежнему неуловима. Худые темные руки тянутся куда-то вдаль и исчезают в веерах спутанных листьев и расплетках виноградных гирлянд, свисающих увядшими венками, корневищами гигантских растений. В клочьях тумана, в рассыпчатой пелене их складки мерцают и напластовываются друг на друга. Рядом, в бурых разводах, осторожно трепещут их тени. Все снова путается. Шорох сливается с младенчески-старческим морским гвалтом и другими далекими, совсем робкими намеками звучания. Невнятный язык, ни одно слово которого никогда не поддастся переводу. Розовое горение блаженствует в нескончаемом, роскошном увядании. Лоскутья облаков обвивают одно из наверший своей дымящейся тиарой, похожей на сдутую ветром пену. Рядом едва заметные стайки мошкары распадаются и снова собираются в неясные фигуры. Их бесшумная воркотня. Издалека зеленые линии деревьев кажутся полосками мха, но, перемежаясь густым свечением, ближе к вершине теряются и крошатся в обволакивающий сине-серый фон. Горы, жаркие тени. Их равномерные продолжения в море. Кажущаяся застывшей возрождающаяся нескончаемость. Тягучая вода продолжает шуршать своими прозрачными, полуслипшимися страницами, буквы на которых не то бесследно стерлись, не то никогда не были начертаны, не то требуют какого-то иного зрения для вчитывания. Но даже когда колыхания ненадолго застывают, как будто бы леденея, все продолжает переливаться, сверкать и кипеть в безмерной агонии. Не успевая наполниться смыслом (или наоборот – из-за перенасыщенности им), страницы рвутся и оставляют незрячему взгляду лишь коварные очертания, сумбурные, неуловимые искривления, разломы, срезы и зияния. Скользкие мысы под натиском то и дело меняющих цвет волн, прибрежная тина, камни, раковины, иглы, резвые стайки рыб, почернелые растения, скалы, не отвязанная лодка, серая белизна чаек, облака, пенные гребешки, тусклые пятна, молчащие имена – все это плещется в мерном, бесконечном остинато, в изменчивом постоянстве, в мучительном замедлении, по-прежнему сохраняя зыбкость, смятение, готовность пошатнуться и обрушиться. Белые хлопья на прозрачных вершинах. Полупрозрачные гроздья. Ничего не решено, ничего не потеряно. Воздух продолжает скапливать ту же безмятежно-яростную тишину. Достаточно.
2011–2018
Миниатюры
Поэт
Имя. Отсутствует. У старика нет имени. Точнее, имя, скорее всего, есть, но оно не имеет никакого значения. Оно растворено в тысячах других имен, и нет никакой разницы, существует оно или нет. Поэтому все-таки можно сказать, что оно отсутствует. Ведь отсутствие не всегда отрицает существование. Возможно, и здесь перед нами тот самый случай. У старика не может быть имени. Оно существует, но его нет. И никогда не будет. И никогда не было. А если когда-то и было, то со временем исчезло. Как стирается надпись на надгробном камне заброшенной могилы. Нет, это не будет натяжкой. Пожалуй, что так. Пожалуй, так.
Возраст. Точных сведений нет. Но явно более семидесяти. Речь идет о старом, очень старом человеке.
Семья. Никакой информации не получено. Ближайшие родственники либо мертвы, либо прекратили со стариком всякое общение. Сам старик никак не распространяется на эту тему.
Пол. Мужской. Скорее мужской, чем женский. Хотя это не имеет значения.
Род занятий. Не определен.
Старик не хочет говорить ни о чем. Он замкнут и озлоблен. Пожалуй, единственная тема, которая может вызвать его улыбку, – это стихи. Его собственные стихи. Да, этот грязный, оборванный старик пишет стихи. И его лицо светлеет, когда он берет в руки толстую тетрадь, чтобы вслух прочитать что-нибудь из нее. Но беда в том, что стихи эти очень плохи. Причем плохи настолько, что это ясно даже ничего не понимающему в поэзии. От этого старика становится жалко еще больше. Да, жалость увеличивается, но эту жалость нельзя назвать состраданием. Состраданием было бы признание этих стихов, попытка найти спрятанный в них смысл. Но беспощадный голос продолжает повторять, что стихи никудышны и ни на что не годны. Впрочем, самому старику все равно, он улыбается и продолжает листать тетрадь.
2006
Речь
Уже с самого утра он начал чувствовать, что его Речь готова, что бессвязные обрывки наконец соединились в одно целое, сгустились в стройную систему. Он ощущал то ликование, которое называл для себя «научной радостью». Просто ему казалось, что это чувство сродни восторгу ученого, завершившего огромный исследовательский труд. В этот миг годы кропотливого накопления материала перестают казаться бесцветными и бессмысленными – они обретают сакральное значение. Речь готова. Сегодня же он произнесет ее на главной площади города. Сегодня же.
На площади с утра как всегда было столпотворение. Прохожие хаотично копошились, сталкивались друг с другом, ругались, кричали, толкались, гоготали. Но он все продумал. Он знал, что привлечет единовременное внимание всех. Он забрался на постамент памятника и, разогнав сонных голубей, набрал в легкие воздуха и издал самый истошный крик, на какой только был способен. И что же вы думаете? Суета прекратилась. Все замерли и посмотрели в его сторону. Все поняли, что должно произойти нечто из ряда вон выходящее.
И тут он осознал, что не рассчитал силы. После такого крика ему требовалось некоторое время, чтобы отдышаться. Но времени-то как раз не было. Ни секунды. И тогда он понял, что нужно начинать свою Речь. Потому что иначе эта немая сцена закончится уже через несколько секунд. И он начал говорить, но с ужасом ощутил, что говорит совсем не так громко, как того требовали обстоятельства. Площадь была огромной, и, чтобы быть услышанным, он обязан был декламировать ясно и громогласно, иначе стоящие дальше чем на пять – десять метров не разберут ни слова. Но вдобавок к этому он почувствовал, что говорит не просто тихо, но еще и со множеством запинок, что он сбивается с одной темы на другую, что его стройные предложения рушатся даже не на словосочетания и отдельные слова, но на бессвязные слоги и звуки. И эти осколки сыплются вместе с мокрым снегом на асфальт, к подножию памятника. И там внизу его Речь превращается в серый комок и стаптывается множеством сапог в грязное месиво.
Стоявшие вдали действительно не услышали ни слова, но некоторые из них все же заинтересовались и стали спрашивать тех, кто стоял поближе, о чем же все-таки говорил этот странный оратор. Несколько человек из первых рядов отозвались на их просьбу и, перекрикивая друг друга, начали спешно пересказывать услышанное. Особенной активностью отличалась одна толстая старуха, которая, как потом выяснилось, была туга на ухо и отличалась манерой приплетать собственные домыслы к каждой истории. Кстати, вполне возможно, что сама она вовсе и не стояла в первом ряду, а лишь пересказывала чужие впечатления. К тому же в самый разгар ее эмоционального рассказа кто-то рассы́пал прямо у ее ног мелочь, и история на некоторое время была прервана всеобщей толчеей и руганью. Когда же она попыталась продолжить рассказ, то желающих дослушать его до конца оказалось вдвое меньше, чем до инцидента с рассыпанной мелочью.
Большинство же горожан попросту не обратили на Речь никакого внимания, и едва затихли отзвуки крика, как прохожие опять погрузились в свои хлопоты и, толкая друг друга, понеслись по делам, моментально вычеркнув из памяти бормотание этого умалишенного.
2007
Пожар
Первым делом старик сдернул с кресла покрывало и расстелил его посреди комнаты. Широкий лоскут синей ткани определил границы жертвенного пространства. И уже через несколько мгновений ее поверхность безропотно приняла обрушившиеся удары – это беспорядочно падали брошенные стариком предметы. Стул, кресло, стаканы, книги, телефон, сорванные с карнизов шторы, сумки, вилки, ножи, пустые коробки, пустые ящики от старого письменного стола, конверты, блокноты, ручки, вывалившаяся из рамы картина с изображением сельского пейзажа, смятые газеты, немногочисленные письма и фотографии, граммофонные пластинки, скатерти, зонтик, пиджак, шляпы, трость, очки с треснувшим стеклом, стаканчик для бритья, ножницы, катушка ниток с иголкой в боку, упаковки таблеток, пузырьки с лекарствами, вставная челюсть – вещь за вещью все это падало на покрывало, образуя изломанную пирамиду, на самом верху которой оказались детские игрушки – пластмассовые модели самолетов и кораблей, воздушный змей с оборванным хвостом и дутый резиновый мячик, с трудом добытый из-под дивана, под которым он валялся все эти годы. И наконец он снял с себя всю одежду и накинул на пирамиду полотнище лохмотьев. Затем старик принес канистру и, быстро облив всю кучу вещей керосином, голым уселся на пол и чиркнул спичкой в предвкушении наслаждения величественным зрелищем пожара.
2007
* * *
Смысл. Можешь время от времени его придумывать.
Мысли. Карусель банальностей.
Общество. Не будем об этом.
Время. Что-то невозможное.
Жизнь. Нечто неясное.
Смерть. Вдох или, может быть, выдох. Наверное, имя не так уж важно.
Пустота. Можно было бы о ней говорить, если бы мы хоть что-то знали.
Дети. Их жальче всего.
Стихи. То, что вот-вот стихнет.
Любовь. Только здесь не нужны метафоры.
2011