Читать книгу "Пешком через Байкал"
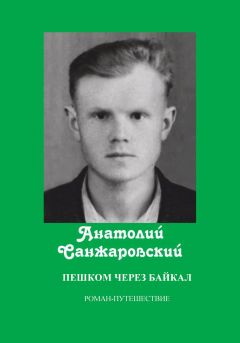
Автор книги: Анатолий Санжаровский
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Анатолий Санжаровский
Пешком через Байкал
Не приходом люди богатеют, а расходом.
В благополучии человек сам себя забывает.
Распутья бояться, так и в путь не ходить.
Русские пословицы

1
Даром и чирей не сядет, а всё начесавши.
Нежданный гость лучше жданных двух.
В редакции мне сказали:
– Послушайте! А чего б да вам не прогуляться по Байкалу?
– На предмет?
– Поразомнётесь… А заодно полюбуетесь красотами. Загорите…
– В марте на Байкале?
– В марте на Байкале. Между прочим, на Байкале больше солнца, чем в Кисловодске, в Ницце.
Я полез в энциклопедию.
"По продолжительности солнечного сияния и прозрачности воздуха Иркутск занимает одно из первых мест в стране".
Правда, Иркутск ещё не сам Байкал. Но всё ж под боком.
А вот уже самое что надо:
"По солнечным дням, яркости и силе сияния солнца Прибайкалье – Крым, Италия…"
Каюсь, Сибирь почему-то виделась мне всегда ледяным домом. А тут… Вот уж не думал.
Разумеется, лично я ничего не имею против дармовой Италии, Крыма и загара, вместе взятых. Только чем ещё помимо загара должен я порадовать редакцию?
Заданий набежало столько, что мысль о халявном загаре в момент поблёкла, показалась мне вконец неуместной, даже стыдной.
А вечером я был уже в аэропорту.
До посадки оставались какие-то пустые минуты.
Припал я к почтовой стойке с пуком телеграфных бланков.
«Самая красивая королева квартиры тринадцать! Самая лучшая жена на планете Земля!
Прошло полных четыре тыщи двести одиннадцать секунд, как распростились мы на Павелецком в электричке, ты ещё, провожалочка, может, не добралась до дома, а я уже пишу. Вот где глупую моду взял. Как только отъехал за семафор – сразу доставать тебя каждодневными письмами.
А с другой стороны…
Ну, кому пожалуюсь, когда у меня беда?
Выхожу в Домодедове из электрички…
Понимаешь, какое безобразие? Почетного караула нет, ковровой столбовой дороженьки нет, оркестра нет, никто ничего не играет, никто не мотает мне флажками…
С гнева тёмна вода в глазах разлилась.
Я б такого вовек не пережил, если б не орешки, что ты тайком насыпала в карманы. Орешки я подмёл ещё в электричке. Нащёлкался – дышать нечем!
Ну-с, миланя, попробуй теперь скажи, что я толст. Я скажу, что эта уродливая полнота – верный портрет твоей доброты.
Кто спорит… Талия у мужа – хорошо, а доброта жены всё ж лучше!
Объявляют посадку. Надо бежать.
Не балуйся. Я тоже не буду. Совсем не балуйся!
Имею же я право на дорожку хоть один совет дать?
Мысленно с тобой, возможно, самый уважаемый мужчина квартиры тринадцать».
На конверте с танком на постаменте черкнул обратный адрес: небо, до востребования, я.
Чуть подумал, приписал под танком:
”Не вскрывать! При вскрытии конверта этот танк стриляить!”
Напрасно летел я на весь дух к выходу.
Не добежал ещё – получите первый аэрофлотовский гостинчик. Рейс передвинули на час!
Нас ещё дважды провожали, дважды билеты проверяли, дважды уже толклись мы в зяблой галерее на подступах к самолёту, были уже надёжно проверены милицией и автоматом, но нас вежливо возвращали.
В толпе зароптали.
– Не разбери-поймёшь…
– Мы уже и не звеним. А нас всё ни одна холера не отправляет…
– А ну ещё Омск тормозни? Ба!.. Когда ж мы обозначимся в Иркутске?
Ближе к полуночи рейс и вовсе перекинули на утро. Гололёдка!
Ладно, утро вечера смирнее…
Можно было бы, глядя на других, вернуться домой отоспаться.
Я не вернулся.
Вовсе без нужды. А ну ещё зевнёшь?
До срока освободился я от лишнего груза жениных бутербродов, прикипел плечом к стенке, с верха которой ясно говорило, и, стоя, не сходя с места, до первого света липко караулил объявления. Всё боялся, уйдет самолет без меня, как есть уйдет!
Утром, ни свет ни тьма, наконец-то дали посадку.
"Маяточка моя!
Всего лишь ночь, как расстались, а кажется, вечность проводил. Мне не то что скучно, мне плохо без тебя, так плохо, что очень хочется тебя увидеть именно сейчас; не может быть того, что не увижу; одна и радость ты; во все глаза смотрю в круглое свое оконце, не прозевать бы, как ты подойдешь к трапу, я выскочу подать тебе обе руки…
Но вот трап уже забирают, а тебя нет и нет…
Гремучий наш гробина ненадёжно как-то подымается. Не зацепился бы за Урал возле Гая твоего.
Вроде бы не должен.
Когда я шёл на посадку, в галерее лениво пересекал мне дорогу рыжий кот. Я наддал, обогнул кота, так что нам с бедой делить нечего.
Дают воду, усыпляют бдительность.
Выпил, а ни в глазу. Голод не тётка, жмёт. Давай!
Обнесли, попотчевали завтраком. Кормёжечка, доложу, на евроуровне.
Подмёл, видит Бог, всё до крошки.
Для дома, для семьи еле оторвал от себя три пакетика с солью, с горчицей, с перцем. А тебе персонально припрятал пока от глаз своих красную рыбку. Чтоб был стимул ждать ”.
"Наши в Омске. Срочно разыскиваю золотой эшелон, который кто-то у кого-то как-то увёл ещё в гражданскую. Про это даже по телевизору показывали. На поиски дали всего сорок минут (промежуточная посадка). Найду, пригоню тебе к третьей годовщине нашего кольцевания. Пригоню обязательно в-в-в-весь! состав! УЖЕ! ВИЖУ!! ЕГО!!! НА!!!! ГОРИЗОНТЕ!!!!!”
С благополучием прииркутились мы в лиловое большеводье сумерек.
Заполняю гостиничную анкету.
Что-то мягко толкнуло в грудь.
Батеньки! Да где-то в тутошних дебрях затерялись следы старинного приятеля!..
Николя́!.. Каменский!..
Отшумела, отыграла молодая пора…
Вместе копили ума в бурсе, как окрестил он университет в Ростове-на-кону[1]1
Ростов – на – кону – город Ростов-на Дону.
[Закрыть]. Вместе работали. Вместе спали на одной койке.
Крутила его потом журналистская судьбина из края в край по Россиюшке, крутила…
А-а, судьба… Сам крутился, как чёрт на бересте!
Не в давних годах последняя была вестка вот отсюда. Из Иркутска!
Пихнул я анкету в карман, пожёг через улицу к телефонной будке.
Раскопал по ноль девять. Звоню.
Узнал меня. Сразу вопрос:
– Откуда, асмодей? Из столицы алёкаешь?
– Вообще-то, насколько я знаю, из Иркутска.
Он ошарашен.
– Сто-ли-ча-аанин!.. Ты пошто сюда?!
– А об ручку да "в охапочку поздороваться" с тобой…
– Ты где?
– В "Ангаре". Заполнил анкету, ещё не отдавал.
– И не отдавай, плутоня! Прихромаю сейчас со своей клохтухой Петровной. Тут каких три квартальчика.
2
Что ветер подхватил, пиши пропало.
Чужую рожь веять – глаза порошить.
Коренное мне задание – репортаж про выходной прогулочный переход иркутян на лыжах через Байкал.
Переход завтра, в субботу, в крайний день недели. Помнят, нет легче дня против субботы.
Парни, девчата уже сегодня вечером подадутся наушкинским поездом в начальный пункт Танхой.
Раздосадованный, вконец разобиженный на самого себя вернулся я из штаба перехода.
– Ты чего, чудечко на синем блюдечке, отквасил губы? – спросил Николай.
– А! Швах мои делишки… Послушал людей… Не топтать байкальские мне вёрсты.
Он как-то разом притемнился в лице:
– Что так? Чем ты хуже других? Или ты у господа баню сжёг?
– Не падок на пожары.
– Тем более. Случаем прорваться в нашу сторону да не нарисоваться на Байкале! Это, друже, всё едино, что впервой приехавшему в столицу не пойти на Красную площадь. Кто тебя не пускает?
– Я.
– Е-е-ень!.. Опять вечорошние песни!
С минуту Николай смотрит быком.
Глубоко, поди, до дна легких вдохнул, гаркнул лихоматом:
– Микки!
Из коридора влетели, тыркаясь друг в дружку, здоровенный котина и вдвое мельче против него карманная жиденькая псинка на недовывернутых спичечно-тонких ножках колёсиками.
И велит он собачонке:
– Микки! Посмотри, пожалуйста, вот на этого бабая, – пальцем на меня. – И тут же доложи всё, что ты про него думаешь.
Сучонка задрала худую мордуленцию, нагло вылупилась на меня. Потом с ленивой брезгливостью тявкнула и потешно заперебирала кривыми палочками ног, степенно удаляясь из комнаты.
– Беспутенький, наивняк… Даже Микки набрыдли твои байки про неудобно. Докуда им кланяться? Неудобно в почтовом ящике спать. Ноги высовываются и дует! А всё прочее… Придись до любого… Сколько положено труда… Ехал писать про переход и не быть в переходе? Анекдот!
– Анекдот, если пойду! Это не прихоть моего каприза. Поверь… Ну как не понять? Все на лыжах, один я на своих рессорах… Разве я виноват, что рос под Батумом? Разве виноват, что видел лыжи лишь в кино? Березовый, никудышный я лыжник… И для смеха лыж даже в руках не держал! Эсколь народищу! Тяни один я всех назад?.. О-очень здорово! И потом, пеше не сунешься. Совесть не пустит… Надо бежать! С моей аварийной коленкой?! А мне уже и не двадцать… Давненько выщелкнулся из молодых. Большие уже мои года. Два кидай по двадцать! Да с гачком!.. И за раз сорок пять кэмэ по льду! Да куда-а мне лезть?!
– Не пойму… Или ты умом граблен? Ты подумал, как сядешь писать?
– Завтра к четырем – к тем порам уже перейдут – отправятся в Листвянку встречать. На автобусах. Уже договорился, на одном завернут за мной. Обратного пути вполне хватит, потолкую с добрым десятком. Неправда, наскребу живых впечатлений.
– Эдаким макаром мылишься сляпать репортаж? Не видя? Не участвуя сам в деле? Какого ж огня было переться за пять тыщ вёрст?
Конечно, он прав, подчистую прав.
Брал я командировку… Мне даже мысль не пала, что я и секунду не стоял на лыжах.
Пускаться ж теперь пешком… Затея эта повязана риском, в тягость не мне одному. Я не могу, чтоб я кому-то мешал, чтоб кто– то тревожился за меня.
Отказаться, отказаться бы от командировки! Да поди откажись… Хватился монах, как полно в штанах.
Посветлел Николай лицом, заговорил уговорчиво:
– Кончай эти алалы!.. Да ты, лихобойник, или уже не мужик? А я ж прекрасно помню твою сольную легендарную пробежечку Сапожок – Нижняя Ищередь. Конечно, это не Москва– Владивосток… Тем не менее… Прилетел в Сапожок. Распутица. Нижняя пожалела даже подводу послать. Что делать? Возвращаться из командировки с пустом? Тряхнула нуждица, ты и свистани в гордом одиночестве на своём одиннадцатом номерке… По водянистому мартовскому снегу, по слякоти. Полмарафона небрежненько так дал по пересечённой местности. Да-а. Нашего братца журналюгу ножки кормят… Что тогда двадцать два, что сейчас сорок пять. Какая тебе, скоропеший, разница?
– Большая. То было шестнадцать лет назад.
– И что, ты хочешь сказать, что за эти годы твоя пороховница опустела и в ней мыши вьют гнезда? Брось! Да потешь ты, отдёрни охотку, пробежись за милую малину, глянь, что же ты такое теперь? Посмотри, чего же ещё сто́ишь?
– Не думаю, что самое глубокое озеро лучшее место для смотрин собственной персоны.
– А ты возьми и подумай. Сибиряк говорит, истинную цену человеку назовёт один батюшка Байкал… Решайся! Главное ввязаться в драку…
– … а там кто-нибудь и даст в ухо?
– Иначе это не драка.
Препирательства надоели и мне, и ему.
Он властно взял меня за руку, ввёл в ванную, пустил горячую воду.
– Дискуссия окончена. Попарься на дорожку. Полезно.
Делать нечего. Гость невольный человек, что дают, то и жуй.
Под момент, когда я выбанился, в углу на полном снеди рюкзаке уже лежало новое мне обмундирование: Николаева штормовка, женин свитер, белые шерстяные дочкины носки и прочее, и прочее.
Весь дом собирал меня в дорогу, собирал с каким то первобытным неистовством.
"Боже! Неужели я им так осточертел?"
– И тебе всей этой амуниции не жалко? – усмехаюсь Николаю. – От меня можно ожидать чего угодно. Я могу, например, запросто затонуть и всё это поневоле прихвачу с собой туда.
– Не-е, голуба, туда пути заказаны. После баньки ты полегчал. Теперь саженный ледок наверняка не распахнёт тебе врата рая. Как видишь, вероятность разлуки с нашим старым рюкзаком составляет ноль целых хренок десятых.
Не силой ли усадили за стол.
Я что-то без охоты жевал, а больше всё отнекивался, вовсе неломливо твердил, что не хочется.
"Видно, это надёжный цивильный способ избавиться от нежданного гостя. Надоел – выпихни на Байкал просвежиться. И с концом! Как же, бегу и спотыкаюсь! Мне б только за дверь. Раскладушка в гостиничном коридоре сыщется!"
Ни в кои веки не провожал Николай и до порога, а тут прилип, как мокрый листик. Вышагивает и вышагивает рядком под ногу.
Заворачиваем за угол.
Паями, порывами, припадал боковой ветер; зловеще мрачнело низкое тучистое небо.
– Гостя, – подкалываю, – провожают в двух случаях. Чтоб не упал на лестнице иль чтоб не скоммуниздил чего. С какой радости провожаешь дальше?
Молчит.
Одни глаза посмеиваются.
На остановке вслед за мной вжался плечом в автобусную давку, битый час торчал на вокзале (я всё искал, напрасно искал среди походников хоть одного такого ж безлошадно-го, то есть без лыж, как и я), с подозрительным рвением проводил до вагона.
Я всё надеялся на авось. Авось, думал, туристские власти заартачатся, явят принципиальность и в самый последний момент что-нибудь да выкинут вкусненькое. Из запретительной серии. И я – не еду. Но не выкинули. Это уж совсем напрасно!
Вот когда кинулся я сучить петлю.
Поднялся в тамбур. Походя рванул дверь в соседний вагон. На ключе!
– Первая дверь нерабочая, – заворчала с платформы проводница. – Не выворачивайте почём зря.
Не бегом ли сунулся в другой конец – перекрыто и там.
Было отчего пасть в отчаяние…
Поплёлся назад в тамбур. Николай – привёл же леший как на вред! – у самой у подножки. Вежливо интересуется:
– А чего это ты как с креста снятый?
– Топал бы, Хрен Константиныч, до хаты…
Лыбится, а сам ни с места.
"Или он догадывается?"
Тут вагон дёрнуло.
Николай сорвался следом, растаращил руки.
– Легкого рюкзака!
В ответ я круто тряхнул кулаком и побрёл искать пустое место, да завяз у первого же окна. Как стал, так и простоял то ли пять, то ли все с десяток остановок, наверняка простоял бы, злой, распечённый Николкиной плутней, и до самого до Танхоя, если бы…
Поезд уже огибал Байкал.
За окном, на воле, жила ночь, когда запнулись мы у какого-то столба в поле. Ни огней, ни людей.
И вдруг где-то в хвосте поезда задавленно полоснула гармошка– резуха. Гармошка шла: звуки накатывали чётче, резвей, яростней.
Парубки и девки, будто похвалялись друг перед дружкой, ядрёно, вперебой ввинчивали в темнищу тараторочки:
– Не поеду в Баргузин,
А поеду дальше.
Я того буду любить,
С кем гуляла раньше.
– Шила милому кисет,
Вышла рукавичка.
Меня милый похвалил —
Какая мастеричка!
– Через крышу дружка вижу,
По чему я узнаю?
По вышитой рубашке,
По румяному лицу.
– Напишу письмо слезами,
Запечатаю тоской.
Я пошлю по телеграфу,
Пусть читает милый мой.
– Мама, мама, полечи,
Меня изурочили.
Приходили два солдата,
Голову морочили.
– Я сидела на окошке,
Три я думки думала:
То ли сеять, то ли жать,
То ли замуж убежать.
– Миленький, удаленький,
Пошто не помер маленький?
Я бы не родилася,
В тебя бы не влюбилася.
– На углу висит пальто,
Меня не сватает никто.
Пойду выйду закричу:
”Караул! Замуж хочу!”
– Мой миленок смековат,
Смековатей я его:
Он мою подружку любит,
Я – товарища его.
– Моя милка умерла
Да на столах лежала.
Я хотел её нести —
Она убежала.
– «Ангара» идёт по морю,
Окна голубеются.
Ты скажи, матросик, правду,
Можно ли надеяться?
Стоял поезд дольше против обычного, да и стронулся он как-то вяло, вовсе без охоты. Медленно поплыл состав. Весело вышагивали рядом с тараторочками на устах молодые.
Похоже было, не спешил уходить от них поезд; и машинистам, и проводникам, и налипнувшим к окнам пассажирам – всем вкрай как хотелось, нетерпёж подпёк! – дослушать непременно про всё, про что пелось…
И под счастливые голоса ночи, и под ленивый колёсный стукоток всё во мне полегоньку смирилось, успокоилось… прилегла маятная душа…
3
Всякая избушка своей кровлей крыта.
Жена мужу пластырь, муж жене пастырь
Напротив за откидным столиком в скуке провожала время тоненькая обаяшка с медицинским сундучком.
Светлана.
Медсестра.
То, что с нами ехала не крестная сила, а медицина, успокаивало как-то.
В соседнем купе девушка счастливо просила:
– Золотце, спой!.. Ну, спо-ой…
Дрогнула на гитаре струна. Красивый молодой голос повёл песню:
– А под ногами, сквозь туман,
Встаёт хребет Хамар-Дабан…
«Боже мой, если б ты знала, – писал я жене, – сколько ещё сору у меня не только в карманах, но и в голове: я отважился идти пешком через Байкал. А, будь что будет… Для сибиряков это обычная прогулка… Все на лыжах, один я так. 45 км! Это не любовь твоя Невский, даже не Новый Арбат.
И выжал, вытолкал на променаж кто бы ты думала? Небезызвестный дружок юности. По старой памяти всё довоспитывал, в ранешние годы не успел: ”В наш грустный век машин, в век лени не грех побольше хаживать, иначе превратишься в пристяжку к мотору”. Тоже мне… Мартын с балалайкой, а туда же, в академики! Было не расплевался с ним.
Забраковал мои он ботинки, снял с лыж свои, всучил.
«И пальто, – командирничает, – не бери. Не донесёшь. Да и по коленкам окаянное будет хлыстать. А вообще-то, друже, в дороге и бородавка за пуд тянет…»
Взаменки дал штормовку, брезентуху свою. Кажется, домодельная.
У Николки у нашего в одних санях катаются «тонкая тактика и грубая практика».
Распрекрасно помню твоё: хочу в Сибирь, там все меха бегают. Покуда не совстрел. А нападусь если на Байкале на какого подходящего, обязательно дам ему наш адрес – попрыгает к тебе. Только уж очень не жди.
Простучали границу бурятскую.
Уже час ночи.
Скоро Танхой. Там пущу тебе письмо.
Из Танхоя союзом пойдём через Байкал. Карточка твоя со мной, значит, пойдешь и ты, маяточка моя».
4
Плохо знают люди, чем человек хорош.
Всякая сосна своему бору шумит.
Танхой.
Глухая ночь без звёзд.
Весёлый, гомонливый людской ручеек изгибисто течёт по тропинке меж плетнями от вокзальчика к школе.
В просторном спортзале самые проворные валятся впокат на маты: перед дальней дорогой сон не во вред.
Распахиваются рюкзаки.
Как-то непривычно подкрепляться в столь поздний час, но в охотку все едят, набивают в оба конца. Почему не облегчить рюкзак и мне, всё легче будет. Тем более, что есть отчего-то манит…
Скоро вкореняется тишина.
Покой до трёх.
Общим повалом, головами к стенке, лежат на матах тесно, боком; засыпают сразу, засыпают крепко – как пропащие.
Всем места на матах не хватило.
Лежат лоском, вповалку, и прямо на жёлтом крашеном полу. У каждого что-то такое приискалось, что можно было пихнуть под бок.
В зале убрали свет.
В предбаннике горит. Там толклись немногие, кто не собирался спать. Двое парней точили палки лыжные да парочка шушукалась у подоконника.
В угол к баку с водой прожгла девушка в красном. Рука прижата к щеке: зубы. Щёку порядком разбарабанило.
Хватила в рот воды, мёртво, с закрытыми глазами, постояла, с опаской чуть отдёрнула руку от щеки. В жалких глазах мелкая пробилась улыбка. Вроде полегчало, вроде отпустило…
Следом за девушкой в красном в зал правятся труськом на цыпочках пятеро или шестеро ребят. Вместе с ними проявилась в предбаннушке и Светлана, последней вот вошла со двора.
Спать Светлана не пошла, остановилась, сердито повела глазами на парней, что пропали в темноте за закрываемой с потягом дверью.
– Ну не нахалюги?! Это всё наши асы. Штабисты. Только что с совета. Как вам понравится? Не с велика ума в рукойводители переходом втёрли разъединую в штабе девчонку.
– С повышением, Светлана Ивановна!
– Тоже мне одна радость в глазу… Как же, доверили! Абы столкнуть на кого попыдя… Не к душе мне всё это, не к душе…
Ей так шло сердиться!
Чем больше сердилась, тем притягательней становилась она и – странное, необъяснимое дело – то, на что она сердилась, на что жаловалась, быстро и верно теряло всякую значимость, всякую силу; вовсе не сострадать – ломало тебя улыбаться ей.
– Как к начальству сразу вопрос. Что новенького мне в блокнот?
– Ну что там может быть? В рабочем порядке обговаривали детали. Раскомандировка такая. Давать ориентир, торить лыжню будет передовая группа. Впервые такая пропасть народу. Сто тридцать гавриков! Люд ото всей области. Бамовцев наших порядком поднабежало.
Из горушки рюкзаков Светлана выдернула свой, что-то достала. Не спеша надела бахилы, ещё один свитер.
– А теперь я тё-ё-оопленькая, – оглаживает на плечах свитер. – А теперь я гото-о-оо-венькая к свиданию с Байкалом…
Протягивает и мне зелёный свитер. Надевайте!
Я не отказываюсь.
– Вы бы поспали, – говорит она, – а то тяжело идти… – И, медленно, вроде бы даже нехотя направивши шаг к улочной двери, добавила, будто в оправдание: – Схожу-ка в столовку. Гляну, что там да как…
В окно я вижу, как она, бело посвечивая себе под ноги фонариком, прошила по тропке к принизистому дому напротив с ярко горевшими окнами; в доме разлив света, такое море света, что ему, поди, тесно там, он не вмещался и широкими тяжелыми полосами, раскроенными крест-на-крест переплётами, громоздко вываливался на снег.
Её свитер дал, набавил тепла, умиротворённости. Только сейчас мне стукнуло: эту одежинку она носила сама, живое это уютное тепло – её!
Уставившись в окно, я почему-то ждал её возвращения. Зачем? Вот с минуты на минуту войдет она, что я скажу?
Но ни через минуту, ни через полчаса она не вернулась.
А если там с нею беда?
Кинулся я в столовую.
Добегаю до угла, вижу: за неплотными занавесками в компании какого-то парня и деда Светлана чистит картошку.
Гм… Не переживайте слишком, сударь. В этом купе все места заняты!
Потерянно, как-то покинуто побрёл я назад.
Оглянулся.
Над столовой чёрно обваливались неприкаянные комья дыма.
Рядом с тропинкой, в ямке, вырытой в аршинном снегу, трое доваривали, судя по запаху, курицу. Убито спало всё живое вокруг. Из-под кольца лыжной палки крайками вздрагивал под толчками ветра нарядный импортный пакет – варилась не местная, а дальнестранная курица.
Покойно, согласно лилась беседа; невысокое пламешко тускло желтило задумчиво-восторженные молодые лица, сорило плотными искрами.
Срывался снег.
Разламывая широкие плечи, из зала вышел, закрывая глаза от крутого света кулаками, коренастый чернявый парень.
Оказывается, ему идти в первых. Не спеша достал из кармана компас, взял азимут на Листвянку – 338.
В осторожности распохаживая под дверью, сажает к себе на запястье рядком с часами и компас. Рука сильно вывернута, мне с подоконника, где прокуковал полночи, расхорошо видать. Часы выстукивают три.
– Хватит баклуши сбивать! – не успев ещё войти, через порог плеснула Светлана парню. – Ну-ка, милочек-огонёчек, давай буди!
Парень отчаянно-радостно размахнул до предельности дверь в зал, ощупкой нашарил выключатель, степенно добыл большого огня.
– Да будыт свэт! Ужэ тры нола-нола!
Он был кавказского замеса.
В тон ему и Светлана говорит громко. Слушай все:
– Кто не хочет – может спать! А завтрак, между прочим, заказан на всех. От а до я!
Две столовские бабы, на кассе и на раздаче, вскочившие к котлам в полночь, абы накормить экую тучу, весело пересмеивались и в открытой радости поглядывали на своих доблестных помощничков.
Быструха парень, пожалуй, тот, с кем Светлана чистила картошку, в клеёнчатом переднике, шально съехавшем набок, проворно собирал со столов несвежую посуду, горушками оттаранивал на кухню и там – видно было в раздаточное окошко – горячей, паровой водой её мыл плотно сбитый бородач.
Через малые минуты, нахваливая завтрак, уже последняя группа молотила на полный рот.
Я давно отстоловался, но уходить не уходил. От этого тёплушка, от этой чистоты, от этого спокоя не летелось в ночь, в метель.
– За полчаса, всего за полчаса эку оравищу дурноедов напитай! Стахановцы!
Светлана с улыбкой подавала поклоны и раздатчице, вытиравшей со лба пот, довольной, что к ней уже никого не было, и кассирке, что подбивала выручку, и мойщику в окошке, в ответ с поклоном тронувшему рукой низ своей курчавистой могучей бороды.
– А спасибко давать в первую очередь надо Гене, – сказала раздатчица. – Разворотливый…
Осадистый парубец, вихляя со столбиком тарелок к синей кухонной двери, оглянулся на те слова, сконфузился лицом и, накинув прыткости шагу, припадая набок, счастливо пропал за дверью.
– Он у нас штабист, – пояснила мне Светлана. – Будет замыкать колонну. До Бама Гена в Танхое жил. Мы заране и снаряди его гонцом. Просили сорганизовать спортзал. А Гена прояви от себя общественную инициативу, заказал и завтрак ещё. С завтраком такой крутёж… Полстоловки гриппует, так Гена с вечера примчал сюда. Дед, неспокойный Николай Митрофанович Ефиркин, вслед хвостом. Накроили гибель дров, картошки начистили пять вёдер. С вечера так и не уходили…
– Вправде, дочуня, выдержали рекорд, не ходили, не ходили, – готовно отозвался старик, на ходу промокая руки полотенцем, что было вправлено одним концом под ремень на боку. – Люди мы небольшие, нуждица кликнула, мы с Генушкой, как армейцы, – валенок к валенку, подушечки пальцев к виску, натянуто подобрался, – тут как тут. Ну раз надонько, какие речи?
– Устали? – спросил кто-то.
– Э-э, – посмеиваясь, старик вяло повёл руки врастяжку, – не устаёт один Бог. А я… самый давний танхойский извековалец… Всю жизнь втуточке толкусь на одном местушке, стал быть, головной сибиряк, корневой… Вишь, однако запятая-то какая – надёжа на меня, как на вешний ледок! – потерял уже восемьдесят четыре золотых годика…
Он так и сказал, виноватясь, с детской горечью: годика, именно так, никак иначе, я не ослышался. Кроме горечи в его голосе, в лице было и детски-светлое удивленье, казалось, он и сам временами не верил своему уклонному возрасту, удивлялся, вроде года эти – так, пустое что невзначай сронил с языка, вроде это и не его года и вроде как его.
Но со стороны ни в какие силы ему не дашь его закатные, потопные года. Молодой, весёлый, крепкий румянец горел на тугих щеках, на которые высокие стариковские лета так и не осмелились накинуть сетку из морщинок. Не дед – роскошь! Одна борода всех богатств сто́ит!
Похоже, мой телячий восторг подбил старика похвалиться: простодушное сердце не терпит.
– Однако давнушко поставили меня на инвалидность, по-вашему, ссадили на пенсию по годам. А я как был вечно плотник, да так и остался. По се день хожу в совхоз. Не изработался, не истёрся ишо… Хватливый ишо так. Где починить, где состроить чо, там на вспохвате и я. Ничо в свете не надобно, абы топорок в руках… Не сплетни сплетаю. Во-он Генушка не даст почём зря брякать.
Гена – он вытирал соседний стол – согласно кивнул, подплеснул маслица в огонь, отчего старик, брызнув ясной улыбкой, пустил слова свои вольней, разбежистей.
– А чо! Не в престарелом, чай, доме… Ходи свети топорком! С бабкой мы одне в избёношке. Сподрушному хозяйству… какое оно там? – кот да веник! – бабка одна управу даст. Наизаглавно мы с ей ишо когда обладили! Ребятёжи полное накопили лукошко, впустили в жизню однех сыновьёв семь. Се-е-емь! С мальства никого не сняли с учебы. Все имеют грамотёшку. Все на все руки годные, служат кто где… При нас ни одного. Чем прикажешь заняться? Пинать воздух? Бабка – она у меня рекордная, с лица хорошая и так развитая на все стороны – навроде бы при делах-заботах. Норовит нигде не проспать… Покудова с пенсионерией перемоет известия все колодезные, и дня уже нету. Удёрнуло, забрало трудовой день, был, да весь вышел, сгас, недосуг и болячки свои стариковские понянькать. Поохивать, вишь, стала… Я покуда, Бог миловал, исправный здоровьем, не износил ишо. Век свековал, был тощей соломины. А в поза-тот год разморде-ел, навёл тело, широконько подправился. Прям бока заворотились!.. А… Глазами доволен, не тяжёлый на ухо, перевышение кровей, давление, – это игрушка ишо не моя…
– А одышка чья игрушка? – с напряжённым смешком подколол Генка, пробуя взять со столешницы горку тарелок.
– Собирай боле! – взбросил глаза вприжмур дед. – Генушка, бесхвостой ты ветродуй, где ж твоя стыдобушка? На кой жа ты перед заезжанином офальшивил дедку своего? – конфузно, уговорливо выпевал вослед Генке старик.
Вприбежку Генка нёсся с посудой на кухню и, похоже, не слышал.
– Терпи, голова, в кости скована… А! Это у него, у просмешника, так, с морозу сорвалось… Одно пустое, милок, званье, а не опышка… А хоть и… Чё ж теперь, скласть ручки? Молиться на её? У меня не дождётся! Мало-малешки ну давит… Топорком отбиваюсь, покудова не вышел из сил. А успокоюсь, угребу топорок туда, накажу в оголовье положить. Жили-были союзно ладом, вместе хорошо и отмирать.
Во весь разговор старик от души, просветленно насмеивался. Видите, ему даже помирать хорошо.
Боже, да настань та минута, он, гляди, и смерти посмеётся в лицо.
Привернувшийся к моменту фотокор из областной молодёжки всё постукивал меня скобкой указательного пальца в локоть, восторженно шептал:
– Дедулио на разговоре хороший. Любит поговорить… Ну и уважь, потолкуй ещё за жизнь, дай на последе ещё хоть разок щёлкнуть. Ничего подобного не снимал… Не улыбка – праздник! Так и просится в кадр! – и, припав на одно колено, отстраняясь верхом, всё щёлкал, щёлкал…
Старику поглянулось сниматься, и он, уловив, что заезжанам всякое словцо про тутошнее в интерес великий, помалу подтираясь, приподлизываясь, заискивая, порядка ради спросил нашего согласия на одну историю и тут же, разумеется, получив его, накатился повествовать про Байкалову дочку Ангару и про богатыря Енисея – одной этой легенды довольно, чтоб насниматься дуриком досхочу.
"Давным-давно жил в нашем крае могучий, седой богатырь Байкал. Не было во всей стране равного ему по силе и богатству.
Суровый он был старик. Как рассердится, так и пойдут горами волны, так и затрещат скалы. Много рек и речушек было у него на посылках.
Была у старика Байкала единственная дочь Ангара. Первой красавицей она слыла во всём мире. Очень любил её отец-старик. Но строг был отец к ней и держал её взаперти, в неведомых глубинах.
Не давал ей старик даже наверх показаться. Часто, часто тосковала красавица Ангара, думала о воле…
Прилетела раз на берег Байкала чайка с Енисея, села на один из утёсов и стала рассказывать о житье-бытье в привольных степях Енисея. Рассказывала она и о красавце Енисее, славном потомке Саяна.
Случайно подслушала этот разговор красавица Ангара и загрустила…
Ёще раз она услыхала о красавце Енисее от горных ручьёв и ещё более заскучала.
Решила наконец Ангара сама повидаться с Енисеем.
Но как вырваться из темницы, из крепких высоких стен дворца?
Взмолилась Ангара Богам и Богиням:
– О вы, тэнгэринские Боги,
Хоть сжальтесь над пленной душой,
Не будьте суровы и строги
Ко мне, окруженной скалой.
Поймите, что юность в могилу
Толкает запретом Байкал…
О, дайте мне смелость и силу
Раскрыть эти стены из скал.
Узнав о мыслях любимой дочери, Байкал запер её крепче и стал искать жениха из соседей – не хотелось отдавать дочь далеко.
Выбор старика Байкала остановился на богатом и смелом красавце Иркуте. Послал старик Байкал за Иркутом.
Узнала об этом Ангара и горько, горько заплакала. Взмолилась Ангара старику отцу, просила не отдавать за Иркута: не нравился он ей.
Но Байкал не слушал, еще глубже спрятал Ангару, а сверху хрустальным замком замкнул.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































