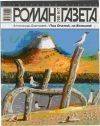Текст книги "Серебряный голубь"

Автор книги: Андрей Белый
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Встреча
Все еще стояли они и миловались, и неизреченная вставала меж ними близость, как у порога в сенях раздались шаги, и едва успели они отскочить друг от друга, как на пороге стоял из Лихова возвратившийся сам хозяин, Митрий Миронович Кудеяров, столяр.
– О-о-о-о! – стал заикаться он и вошел.
Босые ноги Матрены Семеновны оттопотали куда-то вбок, там она укрывала фартуком грязным до невозможности густо горящее лицо, и оттуда поглядывала она выжидательно на обоих: будто даже какое любопытное лукавство на лице отразилось ее и легкая робость; ну чего ей было бояться? Сама же она миловалась с сожителева с допущенья, и даже более того – с приказанья; но прошел внутри ее страх, на зубы зубы не попадали: не оттого ли, что тайное столяра приказанье исполняла она не так: приказанье-то обернулось в ней в сладкий и вольный души порыв; еще маленькая секундочка, и все в ней – захолонуло, когда мертвая, тощая половина лица столяра мертво уставилась на икону, а мертвая, тощая, как рыбья костяшка, рука для крестного приподнялась знаменья; чуяло ее сердце, что она совершила перед сожителем грех; от поцелуев, объятий, ласк растрепанное лицо дрожащими Матрена Семеновна оправляла руками и незаметно там, в темноте, свою застегнула кофту.
Но, должно быть, так-таки ничего не приметил столяр; ласково глянул он на Дарьяльского: а еще верней, что на Дарьяльского глянул супротив лица поставленный нос; только длинная, желтая борода укоризной протягивалась к полу.
– О-о-о-о-… очень… (он уже перестал заикаться), очень… очень можно что даже сказать, вот тоже, приятно видеть мыслящего человека в нашей берлоге-с… Очень…
И широкую протянул Дарьяльскому, мозолистую ладонь.
Но столяр видел все и сам как бы даже перепугался; что бы оно выходило, значит, такое и что бы оно теперь, значит, следовало. «Нет, не могу, не могу!» – думал он и вздыхал, а что бы это такое он не мог, видно, еще и не обмозговал сам; только было ему душно в спертой избе от запаха черного хлеба.
С сурово сдвинутыми бровями и с низко опущенной головой исподлобья Дарьяльский вперил в столяра крепкий, дико блистающий взор, готовый дать столяру и ответ, и отпор; ни следа бы недавних волнений тут не прочесть; все во мгновение ока герой мой измерил, чтобы встретить достойно то, что между ними могло произойти; но ласковость столяра, а еще более его мозолистая рука из Петра вынули силу.
– Я вот… мне бы, вот… собственно, я за заказом: мне бы вот стул, деревянный, знаете ли, с резным петушком, – говорил он первые попавшиеся слова.
– Можна… можна… – тряхнул столяр волосами, – можна. – И какое-то было в этом потряхиванье волос снисхожденье, может быть, поощренье, а всего более – злое, едва приметное издевательство: так бы столяр вот эту паскудницу-бабу за волосы да о пол, ей бы подол завернул да запинял бы ногами; а баба-паскудница из угла дозирала за столяром; глаза же ее говорили: «Не ты ли, не ты ли, Митрий Мироныч, сам миня насчет таво вразумлял да силу свою в мою вкладал в грудь?»
Вразумлять-то столяр – вразумлял; это – точно; да как-то оно выходило будто не так: без молитв, смысла и чину; а коли без чину без богослужебного – по обоюдной, значит, одной срамоте; сам же он – хвор: отощал от поста да от кашля: женским ли ему теперь естеством заниматься – тьфу: всем эдаким занимался, бывало, столяр; а вот Матрене-то рожать – след; знал и то, какие такие произойдут отсюда причины и какие такие дела от причин воспоследуют: воспоследует духа рожденье, восхолубленье земли да аслабажденье хрестьянского люда; и выходит оно – того: след Матрене связаться с барином; а оно-то, вишь, – не того, коли ревностью сердце исходит. «Как, иетта, они да без миня!» – думает он, и с омерзением сплевывает, и почесывается, не глядя на моего героя.
– Так ефта про стул – вот тоже: можна… и деревянный стульчик – вот тоже с резьбой; все ефта можна… И чтобы на спинке петушок али голубок, и иетта, вот тоже, можна… Иетта не значит, значит, ничаво, тоись: штиль всякий быват…
При слове «голубок» Дарьяльский вздрагивает, будто грубо коснулись его души тайн; и уже схватывается за шапку:
– Я, собственно, без вас, тут у вас посидел… Да мне и пора бы идти.
– Што ж, иетта, вы, можно сказать, абижаете нас: я, значит, вижу, наш человек, – подмигивает Кудеяров, – што ж: я в избу, а вы – вон; нешта возможно!..
И явственно на столе Кудеяров перед Петром трижды начертывает крест; и опрокидывается все в голове Петра; уже ему от столяра невозможно уйти; и чуть-чуть не срывается с уст его: «В виде голубине».
Но столяр суетится уже вокруг:
– Вот тоже: милости просим нашего хлеба-соли откушать… Вздуй-ка, Матрена Семеновна, самоварчик… Да што ж иетта ты, дуреха, – спохватывается столяр, – гостя не просишь в паратные наши хоромы?
Вдруг он как топнет, как цыкнет:
– Ишь, гостя в темноте держит, стружками да опилками обмарала: пойди сейчас – засвети огонь!..
И Матрена протопотала мимо них, из-за плеча боязно кинув взгляд столяру в глаза: она не могла понять, какое такое его поведенье; не он ли, Митрий Мироныч, указывал ей, как ей поступать с барином, с милым; а будто бы вот на нее столяр осерчал.
– Дуреха! – он процеживает ей вслед, а сам думает: «Связалась, а для ча? Снюхалась – не могла обождать мово возвращенья!» С удвоенной снова сладостью, покашливая, бросается он на Петра:
– Уж вы глупую бабу простите-с: ишь стружечки-то на вас: и на усиках-то опилочки, и в волосах-то опилочки, вот тоже; милости просим в горницу!
Дарьяльского опять охватило волненье; и опять чрез минуту оно прошло.
Все трое уже за столом; сладкие речи меж ними; сидят, чайничают, среди картин да хромолитографий. Дарьяльский взволнованно говорит о народных правах, о вере.
А столяр крепкую думает думу: может, то, что без чину, мольбы да соглядатайства братьина произошло всякое, ну там, – так оно ничего; ан оно – не того; «как, иетта, они без миня – тьфу!». И опять-таки ему, столяру, обидно; хоть себя-то он от нее сберегал, а тоже это иной раз был не прочь и погладить ее; а вот тут, небось, барин-то ее тоже погладил.
Но столяр спохватывается.
– Што ж: иетта точно; народ теснят; под Лиховом в овраге собирались митинга и с арараторами…
– А стул – можна… Все можна: всякие штили выделывам… под орех, под красное дерево…
– Кабы мы были не мужички, а слаботное, значит, храштанство, мы бы – ух как!
– Да, фахт явный: для мелкого вещества достоинства не хватат…
А едва Петр вышел за ворота, Митрий Мироныч к Матренке:
– Срамница: ну, говори сейчас, связалась ты с ним али нет?
– Связалась! – не сказала, а проревела Матрена, копошившаяся у постели, одеялом прикрылась; поглядела на него косым, уже озлобленным взглядом.
– Связалась, связалась! – простонал столяр.
Наконец все угомонилось. Уже Матрена ушла под одеяло, а, все еще опираясь о стол мозолистою рукой, распоясанный, неподвижно стоял над столом столяр, а другая его рука, выдаваясь костяшками из-под потного красного рукава, теребила тощую бороденку, отстегнутый ворот рубахи, большой шейный крест, поднималась с размаху над головой и потом уходила в желтые космы волос своей всей пятерней: так стоял столяр с полуоткрытым ртом, с полузакрытым, на себя самого глядящим взором, и как болезненно вычертилась на лбу его складка, так она и осталась: мелкие по всему лицу разбежались и трепетали морщинки, хотя и казалось, что большая одна дума, глубокая и больная, просвечивала подо всеми пробегающими выражениями иконописного этого лица; катилась по лбу капля пота, дрогнула на реснице, мигнула на щеке и пропала в усах.
Наконец, к Матрене тихое это повернулось лицо, и все как есть оно передернулось.
– Ааа!.. Паскудница!..
И он уже снова ее не видел; стоял и носом поклевывал в пол, бормотал и качал головой:
– Ааа!.. Паскудница!..
Медленно опустился на лавку; медленно на стол опустил руки; медленно в руки опустил голову; а быстроногий прусак по столу к нему подбежал, остановился у самого его носа, зашевелил усами.
Ночь
Кустики, кочки, овражки; и опять кустики; через всю ту путаницу ветвей, теней и закатных огней вьется извилистая дорожка; Петр быстро уходит туда – в глубь востока – в кустики, кочки, овражки, между зелеными глазами Ивановых червячков.
Его догоняет Евсеич.
– Батюшка, Петр Петрович, – кхе, кхе, кхе, – что же это будет такое с нами? Сжальтесь – на барышню посмотрите; барышня убивается, плачет!
Ему отвечает лишь хруст хвороста да бульканье по болоту убегающих к Целебееву ног…
– Кхе, кхе, кхе, – закашливается Евсеич; Петра Петровича ему не догнать: куда старику с больными ногами за молодым угоняться!
Евсеич сворачивает к Гуголеву; день меркнет; ночь мутная хаосом пепла падает на него.
В гуголевском парке мертво: старая бабка, вся обложенная подушками, под окном утопает в меху; снаружи в открытое окно на нее бросается мрак; навстречу ему из окна от лампы бросается сноп золотого света; полуосвещенные лапы дикого винограда протягивает в окно ветерок.
А где же Катя?..
Там, там Целебеево, впереди: и Кате страшно; крадется Катя одна, бледна; и Катя еще похудела; будто серый, тоненький стебелек, опушенный белой паутинкой, в бледно-пепельном платье и с как зола волосами, завуаленная в бледную шаль, она бледно истаивает в сине-пепельной мути, тонет в море ночном; на поверхности того моря едва-едва удерживается ее худенькое лицо; она туда идет тайком от бабки, от гуголевской дворни, от Евсеича даже: ей навстречу шаги; в бледном блеске зарницы там, за кустом; ей навстречу – Евсеич; Катя прячется от него в кусты; значит, и старик, и старик… тайком туда тоже похаживать стал.
Старик далеко у нее за спиной; в бледном блеске зарницы еще раз мелькнула ей лакейская серая спина, как она обернулась.
– Евсеич, Евсеич! – зовет в темноту перепуганная девчонка, но Евсеич не слышит; смотрит вслед ему Катя… и плачет.
Ее глаза – точно кусочки ночной синевы, дозирающей на Катю из черного, вокруг обступившего кружева листов: останавливается Катя… и плачет.
Разорение бабки, пощечина, глупая пропажа бриллиантов, страшное Петра исчезновенье, толки об этом исчезновенье и той пропаже, наконец, мерзкое это, без подписи, каракулями написанное письмо, совершенно безграмотное, в котором ей нагло доносит какой-то простолюдин о том, будто у ее Петра роман с пришлой бабой! Смотрит на звездочки Катя… и плачет, и вздрагивают ее плечики от трепетанья ночного листа; всякий слышал трепетанье такое: то особое трепетанье, какого нет днем.
Шмидт ей расскажет все: он ей отыщет Петра.
И уже вон – избы; точно присели они в черные пятна кустов, разбросались, – и оттуда злобно на нее моргают глазами, полными жестокости и огня; точно недругов стая теперь залегла в кустах огневыми пятнами, косяками домов, путаницей теней и оттуда подъемлют скворечников черные пальцы, – все это теперь уставилось в лес, все это выследило Катю на лесной опушке и только что ей открылось; а сперва из темного леса выступала лишь путаница огней; и пока подходила к селу глупая девчонка, тяжковесная белая колокольня от нее прошла вправо, тонко пискнув проснувшимся на мгновенье стрижом.
Легкие туфли промокли в бурьяне, платьице обливают травы водой, и дрожь гуляет между плечами; заблудилась Катя, забрела к пологому логу; глядь – и в кусте из лога встала избенка, курит в нее падающим из трубы дымком и поблескивает огонечком; света кровавый плат упадает в траву из окна; а поверх упал черный оконный крест на световое пятно; и все вместе вытягивается на кусты, где стоит Катя; ей чуть-чуть жутко и нехорошей веселостью весело в красноватом том видеть освещенье легкотрепетной росы бриллиант на листах и на тонких стеблях; вдруг просто ей стало страшно: лицо картузника закровавилось под окном; в окошко уставлена его борода, красный нос: туда же уставлены глазки: а кому это под окном закачался кроваво освещенный кулак? И втихомолку она от места того – прочь, прочь: как бы найти ей Шмидтину дачу?
Только теперь она понимает, что целебеевский лавочник, Иван Степанов, там стоял под окном: так чего ж детское испугалось сердечко?
А подойди она к нему: он бы ей указал на окно, а в окне бы она разглядела грязного, обросшего волосами Петра, курносую бабу рябую да хворое хитрое лицо, подмигивающее Петру из-за чайного блюдца, поднесенного к желтым усам; все-то бы она увидала; лучше, что не видала.
Долго еще дозирал под окном целебеевский лавочник, и лихие нашептывал под окном он угрозы: «Погоди, запоешь у меня, старый сводник!» Вот лицо его скрылось в тень, волосатый кулак покровавился на свету, да и он ушел в тень; хвороста хруст вдали по кустам замирал – и замер.
Дарьяльский уже выходил из избы, уже свет во тьме его затеривался, и, обернувшись, он видел, что какая-то там рука поднимала керосиновый светоч, беззвучно бросавший в его тьму мутно-красный света поток, в центре которого там издали стояла Матрена, и яснилось ее лицо сладострастно в его тьму посылаемой улыбкой и от блеску слепнущими глазами: какая там была она маленькой!..
Дарьяльский бродил по селу, и собаки взвывали; и собаки рыскали по его следам, кидались в тьму и с визгом отскакивали обратно. Бесцельно вот он к поповскому забрел палисаднику; случайно прошелся под открытым окном. Попадьихин услышал голос:
– Я вам скажу, он с черными усиками: таракашечка, вот бы вам женишок: вернулся в отпуск – дворянского роду.
Не удержался Дарьяльский, в окно заглянул – и что же он там увидел? Позеленевшая маленькая Катя, запрятанная в угол, силилась улыбаться: животом, грудьми и сплетнями на нее напирала попадья; а печально молчащий Шмидт делал вид, что слушает россказни Вукола; в белом подряснике набивал папиросы под лампой отец Вукол; зорко Шмидт за Катей следил, и едва уловимая за нее тревога прошлась по его лицу.
Дарьяльский бросился прочь……………………………………
Тихие в мутной тьме приближаются голоса; тихие в мутной тьме по росе раздаются слова:
– Нет, это не клевета, это – так.
– Но ведь он же не вор?
– Он не вор: тут стечение нарочно подстроенных обстоятельств; враги спрятались в тьму и руководят его поступками. Придет час, и они поплатятся – за все, все: за него и за тех, кого уже погубили.
– Петр, мой Петр с этой бабой!
– Петр думает, что ушел от вас навсегда; но тут не измена, не бегство, а страшный, давящий его гипноз; он вышел из круга помощи – и враги пока торжествуют над ним, как торжествует враг, глумится над родиной нашей; тысячи жертв без вины, а виновники всего еще скрыты; и никто не знает из простых смертных, кто же истинные виновники всех происходящих нелепиц. Примиритесь, Катерина Васильевна, не приходите в отчаянье: все, что ни есть темного, нападает теперь на Петра; но Петр может еще победить; ему следует в себе победить себя, отказаться от личного творчества жизни; он должен переоценить свое отношение к миру; и призраки, принявшие для него плоть и кровь людей, пропадут; верьте мне, только великие и сильные души подвержены такому искусу; только гиганты обрываются так, как Петр; он не принял руку протянутой помощи; он хотел сам до всего дойти: повесть его и нелепа, и безобразна; точно она рассказана врагом, издевающимся надо всем светлым будущим родины нашей… Пока же молитесь, молитесь за Петра!
Так говорил Шмидт, провожая в Гуголево Катю; вдруг перед ним – хвороста хруст; ручной электрический фонарик кинул сноп белого света, и видит Катя: в круге белого света, как дикого волка протянутая голова, протянутая голова Петра; пьяно блуждают мутные его очи; миг – и уже тьма.
Крепкие руки силой удерживают Катю на месте, когда она хочет броситься за Петром:
– Стойте, ни с места: если сейчас уйдете за ним, не вернетесь обратно!
Синяя мокрая муть и не час, и не два своею прозрачностью напоила поля, легко отливаясь в прозелень и свеченье опалов в местах солнечного заката, где уставлена в ясные еще остатки недавних великолепий черная бора гребенка; мокрая муть – на востоке, за исключением только одного места, которое болезненно воспалено еще не взошедшим месяцем; хоть вокруг и черно, а прозрачно; черными пятнами вырезаны кусты, окаймленные кружевом и лепетом листьев; черный кусок этого лепета, будто оторванный лист, ерзает и туда и сюда; вот закатился он в кружево кустов: то – нетопырь; сплошное море над головой кубовой сини обливается летними слезинками здесь и там бледно блистающих звездочек; смотрят на звездочки и Дарьяльский, и Катя – из разных мест шелестящего грустно предлесья. Смотрят они на звездочки и… плачут от воспоминаний.
Глава пятая. На островке
Странное дело: чем умнее был собеседник Петра, чем больше гибкой в нем было утонченной хитрости, чем капризнее, чем сложнее рисовала зигзаги этого собеседника мысль, тем Петру легче дышалось в его присутствии, тем и сам он казался проще; из-за ненужных ухваток прохожего молодца в нем просвечивал ум и усталая от борьбы простота волнений душевных; нынче пришел он к Шмидту, сидел у него за столом, перелистывал письма, адресованные на его имя, загорелый, небритый: и блаженная на его лице застывала улыбка; и улыбка эта казалась каменной; сидя здесь, он был на границе двух друг от друга далеких миров: милого прошлого и новой сладостно страшной, как сказка, действительности; высокая и глубокая уже по-осеннему чистая синева бисером облачных барашков глянула Шмидту в окошко вместе с Целебеевом; видно было вдалеке, как поп, посиживая на пенечке, ожесточенно отплевывался от Ивана Степанова; Иван Степанов ему говорил:
– Я тех мыслей, што столяришку пора бы заарестовать: сехтанты они да пакостники; бабенка-то, тьфу, – срамная бабенка: може, они ефти самые и есть голуби. Я уж давненько за ними приглядываю…
– Ну, это ты, Степаныч, думаю я, что по богобоязненности по своей; оно правда: Митрий Мироныч текстами заинтересован, но что ж оно…
– А барина-то гуголевского, позволю сказать, окрутили, околдовали: чего иетта ён в работники поступил к столяру?
– Ну, это барская блажь!
И поник отец Вукол, затянувшись трубочкой, приятно сплюнул в солнцем сожженную мураву; в глаза ему небо кидалось – чистое, нежное, бисером бледных барашков и высокой голубизной.
Скоро Степаныч пошел к себе в лавку; человек прохожий, наглый, с ним повстречавшись, как гаркнет с протянутой рукой: «Аа!.. Ивана Степанова руку!..»
– Проваливай: руку прохожим не подаю; может, у тебя какая больная рука, я не знаю!..
И пошел прочь.
Всего этого не слышал заглядевшийся в окошко Дарьяльский; он видел небо, его барашки, цветные избы и точно вырезанную на лугу далекого попика фигурку; изредка перекидывались они с Шмидтом летучими, краткими словами.
Шмидт сидел, погруженный в бумаги; перед ним лежал большой лист; на листе циркулем был выведен круг с четырьмя внутри перекрещивающимися треугольниками и с крестом внутри; между каждым углом вверх шли линии, разделяя окружность на двенадцать частей, обозначенных римскими цифрами, где «десять» стояло вверху, а единица с правого боку; странная эта фигура была выше вновь окружностью обведена и на 36 частей разделена; в каждой части стояли значки планет так, что над тремя значками был значок зодиакальный; в двенадцати больших клетках стояли и коронки, и крестики, и значки планет, от которых через центр окружности, пересекая звезду, были проведены туда и сюда тонкие стрелки; были еще на фигуре надписи, вписанные красными чернилами: «Жертва», «Косец», «3 кубка», «Свет ослепительный»; сбоку листа были вписаны странные надписи, вроде: «X-10: Сфинкс (X) (99 скиптров); 9, Лев, Венера; 10, Дева, Юпитер (Повелительница Меча); 7, Меркурий. Тайна седьмая» и т. д.
Шмидт ему говорил:
– Ты родился в год Меркурия, в день Меркурия, в час Луны, в том месте звездного неба, которое носит названье «Хвост Дракона»: Солнце, Венера, Меркурий омрачены для тебя злыми аспектами; Солнце омрачено квадратурой с Марсом; в оппозиции с Сатурном Меркурий; а Сатурн – это та часть звездного неба души, где разрывается сердце, где Орла побеждает Рак; и еще Сатурн сулит тебе неудачу любви, попадая в шестое место твоего гороскопа; и он же в Рыбах. Сатурн грозит тебе гибелью: опомнись – еще не поздно сойти со страшного твоего пути…
Но Дарьяльский не отвечал: он оглядывал книжные полки; странные на полках тут были книги: Кабала в дорогом переплете, Меркаба, томы Зохара (всегда на столе в солнечном луче золотилась у Шмидта раскрытая Зохара страница: золотая страница вещала о мудрости Симона Бен-Иохая и бросалась в глаза удивленному наблюдателю); были тут рукописные списки из сочинения Lucius Firmicus’a, были астрологические комментарии на «Тетрабиблион» Птоломея; были тут «Stromata» Климента Александрийского, были латинские трактаты Гаммера и среди них один «Baphometis Revelata», где прослеживалась связь между арабской ветвью офитов и темплиерами, где офитские мерзости переплетались с дивной легендой о Титуреле, были рукописные списки из «Пастыря Народов», из вечно таинственной «Сифры Дезниуты», из книги, приписываемой чуть ли не Аврааму, – той «Sepher», относительно которой рабби Бен-Хананеа божился, будто ей он обязан чудесам; на столе были листки с дрожащей рукою начертанными значками, пентаграммами, свастиками, кружками со вписанным магическим «тау»; тут была и таблица с священными гиероглифами; старческая рука изображала венец из роз, наверху которого была голова человека, внизу голова льва; с боков – головы быка и орла; в середине же венца были вписаны два перекрещивающихся треугольника в виде шестиконечной звезды с цифрами по углам – 1, 2, 3, 4, 5, 6 и с вписанным числом посредине – 21. Под эмблемой рукой Шмидта было подписано: «Венец магов – Т = 400»; были и другие фигуры: солнце, ослепляющее двух младенцев, с подписью: «Quilolath – священная правда: 100»; Тифон над двумя связанными людьми, под которым Шмидт надписал: «Это есть число шестьдесят, число тайны, рока, предопределения: т. е. пятнадцатый герметический глиф «Xiron». Еще вовсе непонятные тут были слова: «Атоим, Динаим, Ур, Заин». Сбоку на стуле лежала мистическая диаграмма с выписанными в известном порядке десятью лучами-зефиротами: «Kether – первый зефирот: риза Божья, первый блеск, первое иссиявание,первое излияние, первое движение, премирный канал, Саnаlis Suprаmundanus» и восьмой зефирот, lod, с подписью «Древний змий». Были странные надписи на белом дереве стола вроде: «Прямая линия квадрата есть источники орудие всего чувственного», или «все вещественное вычисляется числом четыре».
Из книг, значков и чертежей поднималась лысая голова Шмидта, и старческий голос продолжал Дарьяльского вразумлять:
– Юпитер в Раке предвещал бы тебе возвышенье, благородство и жреческое служение, но все то опрокинул Сатурн; когда Сатурн войдет в созвездие Водолея, тебе угрожает беда; а вот теперь, в эти дни – Сатурн в Водолее. Я тебе в последний раз говорю: берегись! Ведь и Марс – в Деве; все то можно бы избежать, если б Юпитер в годовом твоем гороскопе оказался в месте рождения; но Юпитер – в месте судьбы…
И Петр потрясен: он вспоминает прошлые годы, когда Шмидт его судьбой руководил, открывая ему ослепительный путь тайного знания; он было уже чуть не уехал с ним за границу – к ним, к братьям, издали влияющим на судьбу; но Дарьяльский смотрит в окно, а в окне – Россия: белые, серые, красные избы, вырезанные на лугу рубахи и песня; и в красной рубахе через луг к попику плетущийся столяр; и нежное небо, ласковое. Вот обертывается на прошлое свое Дарьяльский: отворачивается от окна, от в окне его зовущей и погибающей России, от верховного нового владыки его судьбы, столяра; и говорит Шмидту:
– Я не верю в судьбу: все во мне победит творчество жизни…
– Астрология не учит власти фатума. Тот говорит: мысль и слово создали и мир, и всемогущество, и семь духов гениев-покровителей, проявившихся в семи сферах; их обнаружение и есть судьба; человек поднимается по кругам: в круге луны сознает бессмертье; в круге Венеры получает невинность; на солнце выносит свет; у Марса учится кротости; у Юпитера – разуму; созерцает на Сатурне правду вещей.
– Ты угощаешь меня «Пастырем народов», на котором лежит печать позднейшего александризма; мы, филологи, любим исконное, а исконной науки магов тут еще нет.
– Разве ты забыл, что я говорю не по внешним памятникам, а по устному обучению. Некоторые из старинных списков, вашей науке неведомых, я видел воочию – у них, там…
Но Дарьяльский встает: в окно на него бьет поток солнца.
– Тебе нечего больше сказать?
– Нечего!
– Прощай: я от вас ухожу – не к твоим, а к моим; ухожу навсегда – не поминай лихом.
И он вышел; солнце его ослепило.
Долго еще сидел Шмидт среди своих вычислений; слеза жалости застывала на его старой щеке: «Он – погиб!» И если бы сюда вошли невзначай, то, наверное, удивились бы целебеевцы, что дачник Шмидт заливается горькими слезами.
Это был единственный дачник в округе; уже в конце марта он в глухие наши переселялся места; уезжал дачник в дни, когда уже над селом ветер бурные проносил ревы первых метелей; и беззуб, и лыс был дачник, и сед; он бродил в жару по окрестностям в желтом шелковом пиджачке, опираясь на палку и держа в руке соломенную свою шляпу; и его окружали сельские мальчонки и девчонки; и еще хаживал дачник к попу; и еще привозил с собой от клопов персидского порошку; и еще в Бога не верил, хотя и был православный; только всего и знали про дачника в Целебееве.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.