Текст книги "И все-таки жизнь прекрасна"
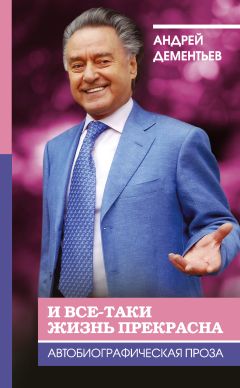
Автор книги: Андрей Дементьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
С этой непростой и неторопливой дружбы с Максимовым начались в «Юности» и его первые публикации, главы его интереснейшего романа о Колчаке. Именно в это время я получил письмо из Кельна от известного правозащитника Льва Копелева, который писал:
«Глубокоуважаемый Андрей Дмитриевич!
В этом году Ваш журнал доставил нам – моей жене Р. Орловой и мне – столько радости, столько пищи для ума и сердца, что я решился послать Вам три своих книги, которые были изданы по-русски в США, по-английски там же и по-немецки здесь. Прилагаю мое предисловие к очень занимательной и талантливой книге немецкого ученого о Тверской деревне 20-х годов. Вам будет особенно интересно прочесть, как уроженцу Твери.
Буду счастлив, если Вы и Ваши сотрудники не только просмотрите или прочтете мои работы, но и найдете возможным опубликовать что-либо из них. Пожалуйста, дайте мне знать, что Вы об этом думаете. С самыми добрыми пожеланиями.
Ваш Лев Копелев.Кельн. 27.VIII.88.
Забегая вперед, скажу, что вскоре мы встретились со Львом Зиновьевичем в редакции «Юности» и договорились о публикации его эссе.
Я потому так подробно рассказываю о всех наших попытках установить добрые отношения с выдающимися писателями русского зарубежья, и в том числе с бывшими авторами «Юности», чтобы всем было ясно – ничего само собой не приходило даже в условиях перестройки. Когда в 1988 году мы напечатали в журнале роман В. Войновича о солдате Чонкине, равнодушных не было. Взорвалась напряженная тишина – от грубого фельдфебельского окрика «Кощунство!» до восторженных слов и писем простых читателей. И мне, и другим сотрудникам редакции, и прежде всего самому Войновичу приходилось отбиваться, благодарить, спорить, объяснять. Но «Юность» уже трудно было представить без произведений русского зарубежья. Этого хотели наши читатели, этого требовали время и справедливость.
Еще ждали своего возвращениям романы Александра Солженицына, а мы тем временем опубликовали главу из книги Г. Вишневской «Солженицын и Ростропович». Появился вновь на своих родных страницах «Юности» Василий Аксенов. Его роман «Остров Крым» читала вся страна. На родину возвращались не просто любимые писатели, не только их запрещенные книги, но и горькая память об атмосфере тех черных дней, когда они, рискуя и мучаясь, говорили правду о себе, о нас, о стране, где их не хотели слушать или не позволяли им быть услышанными.
Кто-то из великих сказал: «Человек, умеющий смеяться над собой, не может быть слабым». Это же можно отнести и к государству. Наше государство в те годы боялось смеха, ибо по своей политической сути было слабым. И сейчас мы все убедились в этом – распалась империя, рушатся идеалы, умерла система, где параграф и кресло были превыше личности. В письме Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву я писал в 1989 году: «Многое из того, что создавали русские писатели, будущие эмигранты в беспросветное время застоя, не было ни злом, ни наветом. Наоборот, это была глубокая боль и затаенная надежда на лучшие времена. Это была бескомпромиссная борьба за будущее Отчизны. Именно за это они и пострадали. Но живучи еще, к сожалению, бездумные стереотипы, и недавнее прошлое виснет на репутации честных писателей, как старый мох на деревьях». Позднее в личном разговоре с Михаилом Сергеевичем я вновь настаивал на том, что возвращение гражданства всем уехавшим на Запад деятелям культуры будет воспринято мировой общественностью как акт справедливости и гуманности. Даже если кто-то из них не вернется на Родину, сама мысль о постоянной связи с ней, о неразрывности личной жизни и великого времени перемен изменит соотношение сил в мире, просветлит атмосферу, обнадежит уставших от разлук талантливых наших соотечественников. Ну, а о тех, кто захочет вернуться, правительство должно позаботиться особо. Чтобы было куда возвращаться. Не гостевать же всю жизнь в случайных номерах своего дорогого отечества. Культуру невозможно разорвать. Она держится не географией, а чем-то бо́льшим. Наша страна хотела быть великодушной. Пора бы ей стать и справедливой к своим детям. Мои слова тогда получили полную поддержку. И через некоторое время появились первые Указы о возвращении гражданства нашим друзьям, авторам, коллегам. Хотя смущала необъяснимая очередность имен.
И снова мне хочется вспомнить о знаменательных встречах. Летом 90-го года в Конгрессе США Михаил Шемякин довольно резко говорил о нашей полумертвой политической системе. И это воспринималось как позиция художника, чей внутренний мир и чье творчество испытали на себе в годы застоя хамский кураж чиновников от искусства и железный сапог власти, отшвырнувший полотна выдающегося мастера, не понятные ее зашоренным идеологам. Но Шемякин прилетел из Нью-Йорка в Вашингтон не для выяснения отношений, а ради того, чтобы вместе с нами – друзьями из Комитета за возвращение на родину советских солдат, плененных в Афганистане, убедить конгрессменов помочь им вернуться домой. Потом мы виделись с Михаилом Шемякиным в Риме, где российские писатели и наши соотечественники с Запада пытались обрести гражданское согласие. Знаменитый художник искренне ратовал за это же, потому что любил Россию. Шемякин – человек суровый. В иные времена он походил бы на бывалого воина и дуэлянта – весь в шрамах, с жесткой складкой губ, с тяжелыми сильными руками. Но это лишь внешний образ. На самом же деле Миша Шемякин – человек широкой души, отзывчивый, тонкий. Уже потом я узнал, что именно Шемякин прислал дорогие и дефицитные у нас краски, кисти и материалы для работы двум сестрам-художницам, которых болезнь на всю жизнь приковала к постели. Услышав о них, помог издалека, считая это нормальным делом – делиться с коллегами всем, что имеешь сам.
Все они очень разные – наши земляки, живущие за океаном, в Израиле, Париже или Мюнхене. Помню ночные беседы среди книг и вкусных русских деликатесов в гостеприимном доме Андрея Синявского и Марии Розановой. Впрочем, ее имя надо было поставить первым не только потому, что она очаровательная хозяйка, но и потому что ее умение вести разговор остро, бескомпромиссно и умно давало ей право главенствовать на наших встречах. Думаю, это чувствовалось и по журналу «Синтаксис», который Мария Васильевна редактировала в те годы.
В России постепенно узнавали увезенную в дальние края, скрытую от нас надолго литературу соотечественников. Чувствуя при этом, как меняется и к нам самим, и к нашей жизни отношение этих тоже изменившихся людей. Они постоянно искали во встречах с земляками внутренние перемены, ожидали глобальных изменений во всем, к чему в прошлой жизни были сами причастны. И когда однажды из редакции «Юности» позвонили в Париж Андрею Донатовичу Синявскому с просьбой сократить в его статье «Диссиденство – как личный опыт», полтора десятка строк, потому что они не умещались на полосе, там это было воспринято как маленькое доказательство больших перемен. Ведь за годы советской власти на Западе уже привыкли к тому, что в СССР не считались ни с авторским правом, ни с личностью писателя, ни с его существованием вообще.
Сейчас, когда много говорят и пишут о творчестве бывших диссидентов, от которого мы так бездумно отказывались долгое время, многих из нас охватило чувство вины и досады. Вины за все, что случилось с ними и с нами тоже. Досады – за потерянные годы разлуки и запоздалый приход этой литературы в нашу сегодняшнюю жизнь. Помню, холодной осенью в маленький городок Кассель, где должна была состояться презентация дайджеста «Юности» на немецком языке, приехал из Франкфурта выдающийся писатель Георгий Владимов с женой Натальей Кузнецовой, литературным критиком. Два с лишним часа немолодой уже человек, мучавшийся болезнью ног, мчался в своей машине, давя больной ногой на акселератор, чтобы только увидеться с земляками, пообщаться, поговорить, послушать новости и родную речь, по которой так тосковала его душа. Весь вечер мы просидели в уютном ресторанчике и говорили, говорили… Словно знали друг друга давно, еще по России, по былой молодости. И когда мы рассказывали гостям о тогдашних серых очередях Москвы и о всеобщем страхе перед будущим, об изобилии речей и отсутствии продуктов, – каждый из нас вновь переживал российскую жизнь. И вдруг после некоторого раздумья Владимов сказал: «И все-таки мы завидуем вам…» А я вспомнил фразу Владимира Максимова из его интервью «Юности»: «Эмиграция для меня – потрясение. Я больше потерял, чем приобрел…» А сколько потеряли мы, что свои стихи Наум Коржавин отдавал на суд чужих людей, когда их так ждали тысячи искренних его почитателей в попранной стране. Сколько мы потеряли, когда лучшую книгу Александра Зиновьева «Зияющие высоты», достойную таланта Свифта, не только не поставили в этот высокий ряд литературы, но даже не имели возможности долгое время водрузить ее на свою книжную полку. И потому я так завидовал домашним библиотекам В. Аксенова, В. Максимова, А. Синявского. И они радостно дарили нам редкие книги, о которых мы знали понаслышке, и те, что уже стали читаться у нас. Десятки изданий и рукописей со всего света приходили в те годы и в редакцию «Юности». Известные и неизвестные литераторы, пишущие по-русски, узнав, что мы широко стали печатать бывших диссидентов, присылали свои произведения. Литература возвращалась домой, как некогда возвращались с фронта солдаты. Для многих «русских зарубежников» редакция «Юности» была в те годы открытым и добрым домом, когда они приезжали в Москву. И даже больше – местом первых встреч не только с редакторами, но и с новыми читателями. У нас перебывало много пишущего народу – Войнович, Коржавин, Аксенов, Максимов, Гладилин, Синявский, Копелев, Саша Соколов, Лимонов… Без лучших книг писателей русского зарубежья наша литература была бедней, ей не хватало воздуха, второго дыхания на быстром повороте истории, ей недоставало правды и откровений. Когда Анатолий Гладилин после долгой разлуки пришел в редакцию «Юности», которая некогда открыла читающему миру автора «Хроники времен Виктора Подгурского», он как-то печально улыбнулся и тихо сказал: «Вроде и не расставались. А прошло столько лет…»
Конечно, не расставались, потому что в душе каждого, кто верил в искренность и доброту, порядочность и честность поневоле отверженных от нас соотечественников, – разлука была внешней. Но оставалось в ней, произнесенное великой мученической литературой русского зарубежья.
И то, что мы сегодня стали другими, – в этом есть и их заслуга. И сколько бы мне ни осталось прожить, и как бы ни повернулась ситуация в стране, я буду верен нелегкому опыту тех десятилетий, потому что он был и во мне. Я тоже его выстрадал через собственные ошибки, через разочарования и открытия.
Уже четверть века как я ушел из «Юности». Ушел из лучших дней своей жизни, из поры надежд и свершений. Сейчас уже всё отболело – и непонимание коллег, и неурядицы, и обманутое доверие, и обиды, которыми провожали меня те, кто еще вчера бросался выполнять любое мое редакционное поручение. Впрочем, все это суета. Мы выпускали прекрасный журнал – и это главное. Но наступили девяностые годы. Пришли иные и непривычные для всех времена. По творческим организациям прокатилась волна междоусобиц. Разломилась напополам «Таганка». Писатели разбежались по нескольким Союзам. Надо было думать, как удержать высокую планку «Юности», не уронить имя журнала. Я полагал, что мы – шестидесятники – свое дело сделали. Пришла пора молодых. Но перепуганные возможными переменами мои весьма постаревшие «юниоры» не захотели ничего менять. Они встали насмерть, не понимая, что смерть придет не к ним, а к нашему общему детищу. Так и случилось. Увы, журнал скончался. И боевая слава его приказала долго жить. А на том месте, где когда-то вершилась незабываемая литература, которой зачитывалась вся страна и где поднимались в рост новые имена, тихо зашелестела серыми страничками тоненькая книжица со знаменитой девочкой Красаускаса на титуле. Но книга эта, которую по старинке величают «Юностью», стала очень походить на семейный фотоальбом, где хранят снимки из далекой и навсегда ушедшей жизни… Жаль, что так получилось. С трех с половиной миллионов экземпляров тираж журнала скатился до нескольких тысяч. Ушли из редколлегии и со страниц «Юности» писатели, чьи имена всегда были ее гордостью. Наивная самонадеянность моих бывших коллег не принесла ожидаемых результатов. Читатели журнала хотели подписываться на яркие произведения и талантливые имена, а не на «трудовой коллектив». С горечью пишу об этом, как с горечью слышу бесконечные вопросы давних поклонников «Юности»: где журнал и что с ним? Об этом спрашивают всюду – и в России, и в Израиле, и в США, и в бывших республиках СССР. И что ответить им?
Журнал «Юность» остался где-то в далеком прошлом. Я ушел из редакции неожиданно для своих коллег, которые незадолго до этого избрали меня председателем акционерного общества «Юность», оставив за мной пост главного редактора. В первые годы перестройки было модно избирать руководство, ибо страна приобщалась к демократии. Позади остались конфликты и перебранки, от которых горчило на душе. Журнал пережил свой миф. Новые времена требовали и новой легенды. Поиски независимости, которыми так успешно занималась «Юность» в советские годы, исчерпали себя. Появилось такое количество газет и журналов, что читатель растерялся в этом многокрасочном хаосе. Кроме того, с каждым месяцем ухудшалось материальное положение народа. Тиражи всех изданий пошли на убыль.
Необходимы были свежие силы, которые бы по-новому стали вести популярное издание. Я все предвидел. И очень скоро мои опасения подтвердились. Но в те дни перестройки я предложил нескольким молодым писателям и журналистам поработать в журнале. Однако «трудовой коллектив» испугался нововведений и новых имен. Он не утвердил даже Юрия Полякова в ранге моего заместителя, которого я прочил в свои преемники. Хотя Юра был один из самых близких журналу и перспективных молодых писателей. Я понял, что надеяться не на что. Консерватизм пожилых «юниоров», их боязнь за свое место погубили некогда знаменитый и читаемый всей страной журнал… И я ушел.
Вспоминается интересный эпизод. 10 июня 1990 года в ЦДЛ мы отмечали юбилей «Юности» – 45 лет. В «Дубовом зале» народу битком: члены редколлегии, редакция, старые и молодые авторы. Как всегда, было весело и шумно. Произносили тосты, читали смешные стихи, пели песни, говорили комплименты женщинам. И вдруг среди этого бедлама встал красивый бородатый парень и попросил слова. Это был Павел Глоба – уже известный в Москве астролог и предсказатель. Сам его вид – мрачноватый и слишком серьезный для юбилейного вечера – как-то всех насторожил. Он сказал несколько добрых слов в адрес «Юности», а потом вдруг огорошил нас неожиданным финалом… По его предсказанию, журнал в недалеком будущем ожидали очень тяжелые испытания. «И еще, – уже совсем упавшим голосом добавил «маг», – через два года с поста главного редактора от вас уйдет Андрей Дмитриевич…»
Все притихли. Я попытался разрядить обстановку и весело выкрикнул: «Паша, мы вас лишаем сана волшебника, потому что уходить я никуда не собираюсь. За это и выпьем. Налейте ему штрафную…» Все засмеялись, и торжество продолжалось. Но на душе у меня было тревожно…
Предсказание Глобы сбылось точно – и по срокам, и по ситуации.
А недавно, перебирая свой архив, я нашел письмо известных писателей, членов редколлегии журнала «Юность», которое они послали в «Литературную газету» и которое было там опубликовано. Привожу его целиком.
«Мы, члены Редакционного Совета «Юности», узнав о конфликтных событиях внутри редакции, хотим высказать свое твердое убеждение: честная, не подверженная дешевой конъюнктуре позиция журнала «Юность» в сферах литературы и нравственности определялась в эти годы позицией главного редактора Андрея Дементьева. К сожалению, раздраженная нетерпимость нашего общества коснулась и его имени. Думая о руководителе «Юности», мы не видим альтернативной личности… Да и зачем ее искать, если Андрей Дементьев полон энергии и готовности вести журнал ради утверждения настоящей литературы».
Письмо подписали Анатолий Алексин, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Фазиль Искандер, Юрий Поляков, Роберт Рождественский, Виктор Розов, Игорь Шкляревский. Шел 1992 год…
В той непростой и действительно конфликтной ситуации, когда некоторые не очень разборчивые и рвавшиеся к власти мои коллеги создали вокруг журнала атмосферу склок и лживости, публикация этого письма была выражением честного и объективного отношения к журналу, заботы о его будущем.
Из дневника
1981 год
29 апреля в редакцию пришел Женя Евтушенко. Принес новые стихи. Потом мы спустились в любимую «Софию» и просидели там почти три часа. Он прочел все, что оставил «Юности». Стихи интересные, по-евтушенковски острые и очень жизненные. Я сказал, что с публикацией не задержим.
В этот раз он много рассказывал о своих зарубежных поездках. Особенно меня поразила история со встречей Нового года в Чили. Великий чилийский поэт Пабло Неруда пригласил Женю к себе отметить праздник, но Евтушенко отказался, потому что еще раньше он обещал одному простому чилийцу побыть с ним. Тот повез его на могилу своей любимой женщины, которая умерла от горя, когда он надолго уехал на заработки за границу. Несколько лет они были в разлуке, и она не перенесла этого… А памятник ей поставили ее бывшие подружки… из публичного дома, где он впервые с ней и познакомился. На холодном мраморе они выгравировали нежные слова от его имени. Несчастный молодой человек, не стесняясь случайных прохожих, разрыдался на могиле своей возлюбленной… «Я понимал, что утешать его не надо. Пусть выплачется…» – закончил свой рассказ Женя, вновь переживая эту историю.
А я подумал о странностях женских судеб. Мы привыкли думать, что девицы легкого поведения – легки во всем – в торговле своим телом, в пренебрежении к высокой морали, в отношениях с обычным стыдом… Оказывается, бывает и так, что чистая и единственная любовь, как и поэзия, рождается из такого мусора… Когда обо всем узнал Пабло Неруда, он сказал Евтушенко:
– Ты настоящий поэт, потому что в праздник остался с простыми людьми… Хотя праздника, как я понял, и не получилось. Но ты, наверное, что-то приобрел для своей души, которая и есть наша главная тема в искусстве.
«Женщины, которых я любил…»
Я жил в своем родном городе Калинине с самого дня рождения. Лучшая пора жизни – юность – проходила там, где мне был дорог каждый уголок, где рядом были родители и где я впервые повстречал свою первую любовь.
Ее звали Алисой. Красивая, с огромными синими глазами и золотой вьющейся копной, она осталась для меня прекрасным символом нашей далекой юности. В городе мы были заметной парой. Вместе ходили в кино и на каток, ездили за город. Она училась в девятом классе. Я в десятом. Учителя прочили мне золотую медаль. Но из-за своей влюбленности я мало занимался и на выпускных экзаменах получил тройку по математике. Через год и Алиса закончила школу.
Неожиданно заболела ее мать – Вера Ивановна – добрая простая женщина. Диагноз не оставлял никаких надежд. Мы, как могли, пытались облегчить ее невыносимые дни. Она страшно мучилась и очень переживала за дочь, которая была единственным лучиком света в ее черном безнадежном бытии. Естественно, она боялась за ее одинокое будущее. И тогда я решил, что мы должны пожениться. Свадьбу не праздновали – не до того. Но помню, как измученная болями и бессонницей Вера Ивановна перекрестила нас и сквозь слезы улыбнулась. Вскоре мы остались одни. Заканчивался 1947 год…
Мы были слишком юны и неопытны, чтобы выдержать и одолеть все невзгоды, что обрушились на нас с Алисой с первых же дней самостоятельной жизни. К тому же обострились отношения с моими родителями, которые не одобряли столь раннюю женитьбу сына. Вскоре я уехал на учебу в Москву, а моя жена в Румынию, где в то время служил ее отец. Иногда она писала мне. Но я чувствовал, что разлука разрушает нашу романтическую любовь, накапливает обиды и взаимное непонимание. Видимо, нам суждено было потерять друг друга. И хотя однажды я предпринял попытку вернуть прежние отношения – ничего из этого не вышло. Алиса во время моих студенческих каникул приехала на несколько дней в Калинин. Мы сходили с ней на кладбище, постояли возле могилы ее матери, которая ушла из жизни с надеждой на наше счастье. Но счастья не случилось… Мы расстались.
Теперь, когда прошло столько лет, думаю, что в разрыве больше виноват я. И сейчас запоздало прошу у Алисы прощения за все горести и обиды, которые я ей причинил. Но в душе моей (надеюсь, и у нее тоже) сохранились воспоминания о первой любви, которая прошла по нашей жизни светлым и неповторимым праздником.
И если уж продолжать эту биографическую канву, то не могу не рассказать о том, что случилось позже. Через несколько лет я женился вновь. Моя вторая жена Ирина училась в Калининском педагогическом институте. Тоже красивая, с цыганской отметиной больших темных глаз… Мы прожили с ней чуть больше десяти лет. Растили дочь Марину, весело встречали дни в старом деревянном домике с мезонином и были счастливы. Я работал в редакции областной газеты, много писал стихов, печатался, выходили книги. И, наверное, мало уделял внимания семье, потому что для меня в эти годы главным стало мое творчество. Нередко я засиживался допоздна в своем кабинете, поскольку дома не было условий для нормальной работы. Не хочу вспоминать, как произошел разрыв, но я очень переживал, потому что бесконечно любил свою дочь и не представлял себе жизни без Марины. Ей тогда исполнилось десять лет. Забегая вперед, скажу, что моя бывшая жена хорошо ее воспитала и наши отношения с Мариной остались самыми нежными. Сейчас она живет в Петербурге, работает в Пушкинском музее на Мойке, 12… Мы видимся не так часто, но постоянно перезваниваемся. Она счастлива в семье – у нее хороший муж, дочь Ника, которая закончила Петербургский университет. Я бесконечно рад за них.
Вспомнились наивные строки из давнего Марининого письма, которое она прислала мне из Сочи. – «…Я тебе никогда этого не говорила, но сейчас признаюсь, что очень верю в «Алые паруса». Могу часами сидеть на берегу моря и ждать. Иногда мне даже казалось, что я их вижу и тогда у меня падало сердце от того, что все ожидаемое… сбудется…» А ведь, действительно, сбылось…
Второй развод нанес мне глубокую душевную травму. Я не то чтобы стал женоненавистником, но уже побаивался новых увлечений. Однако молодость брала свое… Когда я женился в третий раз, мои родители не пришли на свадьбу. Видимо, они уже разуверились во всем. Отец и мама не приняли мою новую жену Галину. И не столько потому, что плохо ее знали, сколько потому, что у нее была дочь от первого брака. Им казалось, что я «предал» Марину и что теперь стану любить ее меньше. В конечном счете все образовалось. И я всегда считал и считаю, что у меня две дочери – старшая Марина и младшая Наташа. Отношения между ними сложились хорошие.
У жены был спокойный характер. Не случайно к ней на прием (она – врач) всегда записывалось много больных. Она умела общаться с пациентами – мягко, внимательно, не формально.
Вскоре мы переехали в Москву. Столица меняла нас. Мы встречались и дружили с интересными людьми – писателями, артистами, политическими деятелями. Ходили на концерты и в лучшие театры страны, много ездили по миру. Я стал часто выступать на телевидении, вести авторские программы. Все это требовало постоянного духовного самоконтроля, критического отношения к своему имиджу. Я понимал, что, несмотря на три высших образования, я в чем-то оставался прежним провинциалом… Приходилось заново переучиваться, набираться опыта и знаний. Моя природная доброта и неисправимая доверчивость воспринимались некоторыми московскими снобами как дремучая простоватость. Но поэзию – искреннюю, открытую, как и свой характер, я менять не собирался.
Работая в это время в журнале «Юность», я окунулся в мутные потоки литературных интриг, когда вокруг личности главного редактора роились подхалимские вихри, заушательские разговоры и т. д. Меня это и удивляло, и раздражало. Но, будучи реалистом по природе, не очень я поддавался елейному обхождению некоторых авторов, потому что знал истинную цену чужой выгоде. Как показало время, я оказался прав. Те самые именитые любимцы «Юности», что выдавали себя за моих друзей, как-то вдруг потерялись и замолкли после моего ухода из журнала. Но я ничему не удивляюсь. Время такое. Да и человеческая натура подвержена коррозии. Впрочем, многое я отразил в своих стихах, а потому не буду конкретизировать…
Осенью 1979 года меня пригласили на конференцию в Ташкент по теме «Литература и правопорядок», которую устроило Министерство внутренних дел. Речь шла в основном о детективах. Мне, как руководителю «Юности», было интересно послушать знаменитых «детективщиков» и как бы со стороны оценить то, что печатали мы в своем журнале. Тогда все зачитывались повестью Николая Леонова «Трактир на Пятницкой», опубликованной «Юностью». Сидя в президиуме, я вглядывался в переполненный зал, пытаясь понять, что за люди пришли на это собрание – писатели, библиотекари, учителя? И вдруг меня словно пронзила молния – я увидел в ближнем ряду необыкновенно красивое женское лицо. Огромные черные глаза, ярко очерченные губы, какой-то извиняющийся глубокий взгляд… Ничего, кроме этого земного божества, я уже не видел в зале. Женщина, почувствовав мое пристальное внимание, улыбнулась, и белозубая улыбка осветила каким-то особым светом ее небесную красоту. Никогда прежде я не встречал таких прекрасных лиц. В перерыве я подошел к ней. Вблизи она показалась мне еще красивее. Пытаясь завязать знакомство, я глупо поинтересовался, как отсюда позвонить в Москву. Красавица лукаво улыбнулась, поняв мое намерение познакомиться с ней. А после заседания мы четыре часа просидели в зеленом сквере, и я узнал, что Лариса преподает в техникуме экономику, что очень любит поэзию и что вскоре собирается приехать в Москву в гости к бабушке. Я не помню сейчас, о чем мы говорили, но мне было очень интересно с ней, умной, начитанной, смущающейся от неожиданного знакомства.
А через несколько месяцев она приехала в Москву. Мы ждали ее вместе с Вознесенским в условленный час на площади Маяковского. Андрей сразу узнал Ларису, когда она шла к нам по улице. Узнал по моим рассказам и по неземной красоте, которая заставляла прохожих оглядываться…
Так начался наш трехлетний роман, когда почти каждую неделю я летал в Ташкент, чтобы увидеть свою богиню. И всякий раз как бы заново поражался ее красоте. И не только внешней, но и той скрытой, духовной, которая еще больше сближала нас… Она ушла из семьи, забрав сына, ни на что не надеясь, ничего не прося и не требуя. Просто любила и была счастлива. Я метался между домом и Ташкентом, но уйти к ней не решался, потому что не представлял жизни без Димы – моего единственного сына, которого очень любил… А он был слишком мал, чтобы понять меня. Всю свою тревогу и любовь, нежность и отчаяние я доверял лирическим стихам, которые вошли в мою книгу «Азарт» и которой не было бы, если бы я не встретил Ларису…
И все-таки мы расстались. Но я навсегда сохраню в своей душе тот яркий свет искреннего чувства, который озарил мою жизнь. Как сохранились и стихи, посвященные моей давней любви.
Я прощаюсь с тобой… Ухожу.
Я целую твои онемевшие руки.
И сквозь боль улыбнусь твоему малышу —
Лишь один он спасти тебя может в разлуке…
Я прощаюсь с тобой… Ухожу.
Шаг до двери, – о, как он мучительно труден!
Все, что было у нас, – я в себе уношу.
В жизни той ничего уже больше не будет.
Мы опять остаемся с тобою одни.
Ухожу из судьбы твоей в горькую память.
Ты в былое вернись, в те венчальные дни,
Когда словом своим я не мог тебя ранить.
Оглянусь еще раз… Ты стоишь у окна.
Словно памятник нашей любви и печали…
И кончается жизнь – для тебя и меня,
Потому что любовь у нас в самом начале.
Со своей третьей женой Галей я прожил двадцать пять лет, до 1994 года. Закончил школу и отслужил в армии наш сын Дима. Душа его была соткана из доверчивости и доброты. Это в конечном счете и погубило его. Обманутый в любви, он не сумел справиться с бедой и покончил с собой… Ему было всего 26 лет.
29 августа 1996 года – самая страшная и горькая дата в моей жизни. И все стихи, посвященные его памяти, – это бесконечная боль и упрек себе, что я не сумел спасти своего единственного сына…
Еще при его жизни я ушел из дому. Он никогда не упрекал меня, а пытался понять. Я был благодарен Диме за его такт и доверие. Мы оставались близкими друзьями до самого последнего часа. Помню наш разговор по телефону за день до его гибели. Я позвонил ему с Кавказа. Он был спокоен… Ничего не предвещало трагедии. Мы договорились о встрече. Но Дима не дождался отца…
В те тяжелейшие дни я жил машинально, ничего не понимая и не веря в реальность случившегося. И если бы не Аня – моя нынешняя жена, с которой до того мы проработали вместе 20 лет в редакции «Юности» и которая очень хорошо чувствовала и понимала мою душу, мне бы не удалось справиться с этим невероятным горем.
А когда я впервые пришел к маме с Аней Пугач, о которой рассказывал ей еще раньше, моя мудрая и добрая матушка, глядя на ее юное красивое лицо, и, видимо, вспомнив мои прежние скитания по семейным рытвинам, грустно сказала:
– Что же это тебе, сынок, так с бабами не везет… – Мы с Аней рассмеялись… Но шло время, и мама все больше и сильнее привязывалась к моей новой симпатии… Однажды мы пришли и сказали, что поженились. Она достала свою любимую хрустальную вазу, которую бережно хранила с довоенных времен, и подарила нам. Потом поставила рюмки на стол, и вместе мы отметили радостное событие. Это уже что-то да значило. Я вспомнил, как она не пришла на одну из моих свадеб. И как не очень жаловала моих прежних жен.
Мы готовились с Аней ехать на работу в Израиль (а это был 1997 год), и кто-то позвонил маме и с сочувствием сказал, что сын, мол, вас бросил и навсегда уезжает за границу… Она не спала ночь, плакала. А все произошло из-за того, что в одной из газет напечатали заметку под крупным заголовком «Андрей Дементьев уезжает жить в Израиль». И лишь ниже обычным шрифтом пояснили, что еду я туда работать, представлять Российское телевидение на Ближнем Востоке. Аня все это объяснила маме, и тогда… она произнесла грустную фразу, которая надолго запомнилась нам: «Что ж это за жизнь такая, если моему сыну надо ехать так далеко, чтобы заработать деньги».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































