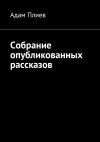Читать книгу "Новая семейная хроника"

Автор книги: Андрей Драгунов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Новая семейная хроника
избранные стихотворения
Андрей Драгунов
© Андрей Драгунов, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
АНДРЕЙ ДРАГУНОВ
НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
избранные стихотворения
«Мы пили чай из бледно-синих чашек…»
Мы пили чай из бледно-синих чашек
и как-то нехотя смотрели мы на сад,
что крепко спал в ногах у старой башни.
И выспавшись после гостей вчерашних,
мы пили чай, смотря на старый сад.
1989
«Осьминог, опускаясь на дно морское…»
Осьминог, опускаясь на дно морское,
средь коралловых зарослей ищет покоя.
И найдя, зарывается в теплую тину
и вспоминает женщину, что звали Ниной.
Нина – владелица прибрежного кафе.
Здесь по утрам встречают постояльцев,
здесь с иностранцем объясняются на пальцах
и здесь седой полковник в галифе —
с утра…
Море, как всегда безмятежно штормит.
Восемь с четвертью балов. Над ухом шумит:
толи шелест волны о прибрежный песок,
толи дула железо о вспотевший висок…
А может это просто упавший птенец
серой чайки
кричит под ногами прохожих.
Может быть…
– Вы с ним чем-то очень похожи,
Нина.
А может – это просто конец.
«И пора под венец,
да не пустит отец…», —
размышлял осьминог
зарываясь в песок.
1989
Энтомология
Яркое созвездие знакомых —
по учебнику еще, еще из детства.
Длинное гуденье насекомых
вечером под фонарем. Одеться
не мешало бы – в прохладный вечер мая
ветер еще холоден и резок.
Воробьев растрепанная стая
бьется в купол фонаря. Отрезок
времени с подлета до съеденья,
что падение звезды с небес на землю.
Майский жук за радостное пенье
захлебнулся кровью. Кровь на землю
пролилась и растворилась в пыли.
Шум умолк под фонарем и крылья
разметались в небе. Жили – были…
1991
Натюрморт
1
Стоваттная свеча под потолком
сжигает тонкий ситец абажура
и стены комнаты вбирают хмуро
свет в воздухе разлитый молоком.
Разбрызганный по стульям и цветам
в горшках на подоконнике горбатом
на швабру переходит, что солдатом
стоит в углу, на первобытный хлам
по комнате разбросанный то там,
то тут, на сломанный светильник,
висящий над кроватью, на будильник,
стоящий рядом. Снова по цветам.
По тонкому сплетенью их стеблей,
переходя от пестика к тычинке.
По выцветшей давно уже картинке,
по девочке смеющейся на ней.
По выпитым когда-то на троих
бутылкам под газетой, по пластинкам,
по одиноко брошенным ботинкам —
давно уже не надевают их.
2
Сломавшийся когда-то патефон,
пустой аквариум, разбитая посуда,
газет истлевших собранная груда,
давно не говоривший телефон,
залитый чаем стол, раздавленная муха,
на два разломленная корочка батона,
три лепестка упавшие с бутона…
И звук не различаемый для слуха —
с той стороны оконного стекла.
А с этой стороны все как всегда:
разбитая посуда, пустой аквариум,
газет истлевших груда,
сломавшийся когда-то патефон,
залитый чаем стол, раздавленная муха,
давно не говоривший телефон,
и звук не различаемый для слуха…
Немой будильник, сломанный светильник,
горбатый подоконник, швабра, пол,
стол, стулья, девочка, распитые бутылки,
окно, кровать, стена, опять окно
и лампочка под потолком, и тонкий ситец абажура
мотыльком
прильнул к стеклу —
все тянется к теплу…
Все, как всегда:
разбитая посуда…
И голоса, что могут без труда
сказать: «Смотри, как падает звезда…»
ноябрь 1991
Песня дорожной пыли
1
Находясь в трех минутах ходьбы от родного порога,
отдаешь должное полету мысли и восторга.
Сознаешь себя слагаемым учения Пифагора
и классических статуй.
Но слова типа – Здравствуй —
уже не являются причиной радости
и застолий.
2
Отряхнув пыль с обветшалого платья,
стараешься быть похожим на человека,
освободившегося от чужих объятий
не без пользы для дела.
С успехом измерив окружность земного шара,
переступаешь порог знакомый —
так и надо.
3
Не видишь изменений в четырех стенах,
перегороженных занавеской,
только у сына в гостях будущая невеста
напоминающая дрожжевое тесто
на подходе.
Жена на взводе из-за раннего возвращения —
ничего не готово к встрече.
4
Уместней было б оказаться проездом,
случайно. Заскочив на часок,
попить чаю, взять бутерброд и раствориться
в дорожной пыли,
как сказал бы сказочник: «Жили —
были», и хотя постель давно остыла —
жаждет новых свершений, а мне не мило.
5
И журчанье воды напоминает ставни —
поздней осенью журчат так же,
аж мороз по коже, когда один.
Но и рожа в зеркале. Соскрести охота
ноготком с кости… У всех заботы до
десяти. А потом охота за водой из крана —
до рвоты.
6
Застолбить дорогу верстовыми ухабами,
чтобы телега рассыпалась на подъезде к дому – от страха.
Соседская сваха
предлагает жениться (при живой жене)
на своей сестрице. Обещает, если
хватит ума согласиться, полцарства
в приданное —
7
куда мне столько, разве что для походов,
да и то на долго его не хватит.
Придется лопатить под огороды,
а это значит – прощай свобода и т. д.
Начнутся баталии с соседями из-за
курей, свиней и жен (у меня их может быть две)…
Нарожон лезть кому охота.
8
По мне уж лучше болото
с островком посреди – вот и все
полцарство. Метр на два и брод
для близких, чтоб носить продукты
и с работы записки по вопросу получки
в связи с отлучкой
моей надолго.
9
Кукарекать некому, когда спать охота,
на краю дороги, посреди болота.
Ну какой же прок от дорожной пыли?
Разве что опять сказать: «Жили —
были», и, поставив точку, разойтись по свету.
Я пойду в ту сторону —
ты в эту.
10
Что слова для песни, если музыки нету,
разве что междометья вдогонку ветру.
«Ну и глупый ты, дядя, никакому ветру
не нужны междометья, если денег нету,
чтобы ехать в поле, где он витает
вперемежку с травой, а впрочем, ерунда ведь
все это, если не больше.
11
Как сказал прохожий по дороге из Польши:
«Там жить можно, но и не больше
этого», – все возможно. Я там не был
мне с чем сравнивать, только
«х» и «у» и то уравнивать надо,
подогнать к ответу, чтобы сошлось
с результатами опыта.
12
Хотя все это мало похоже на правду,
все ж расстояние в длину лучше, чем в глубину
лужи, пусть и очень большой.
И зачем к тому же создавать институт
для изучения стужи.
Она ведь все-таки —
зима!
1992
In the cool of the day…
Игорю Кучину
1
Я мальчика увидел, он смеясь,
бежал навстречу – нет, немного мимо.
Разлаживал сандалей ниток вязь,
подобьем шестикрылым Серафима
на берегу – столетий тонких связь.
2
Прозрачный день. Рука скользит к виску —
боль головная раздражает… Вечер.
И непрерывной ниткой по песку
танцует тень – огонь немногих свечек,
дань отдавая мокрому песку.
3
День был как все – за исключеньем лет,
когда мы вместе жили у фонтана.
Страна уже настроила ракет,
открыла атом, кран, лицо Ивана
и бесконечно дальний Новый Свет.
4
Литовский вариант сошел на «нет».
Сошлись соседи. «Призрак» не уехал.
По истеченье очень многих лет —
дорогу переходят не по вехам,
а по скопленью стареньких газет.
5
Война закончилась еще до сентября,
и дети поспешили чинно в школу —
учебники, цветы, блеск букваря,
учителя, цветы! и тост за школу.
Распевки под баян и под “ ля-ля».
6
Желанье выпить. Мокрый календарь —
истории уходят за друзьями.
Попытка перейти из «ныне» в «старь» —
обычно завершается слезами
и возвращеньем слова «жизнь» в словарь…
7
Глагол «уйти» – возможность ничего
не понимать и оставаться дома.
Не возникать без дела и всего
один лишь раз попробовать другого
глагола – «умереть». И ничего…
8
Смерть наступает будто бы зима…
И, кажется, словесная отвага
не стоит ровным счетом – ни черта!
Глаза подслеповаты – будто влага
размыла тень – прозрачная черта.
9
Оконный силуэт слегка размыт:
дождем? слезой? – не расторопность зренья.
И, кажется, из мрамора отлит
прошедший день – наказанность забвенья.
Из радио оркестр не звучит.
10
За дверью ветер воет на трубе,
стучит в окно, замочками играет…
Напоминает чем-то о тебе…
Стучит еще и… улетает,
сыграв «прощай» на каменной трубе.
1993
«Когда-нибудь, когда пройдут года…»
Когда-нибудь, когда пройдут года
и возвращаться повода не будет —
останеться лишь талая вода
и перекрестки старых улиц.
Строений старых мокрые дворы —
после дождя. Банальные качели.
Картавый крик соседской детворы —
теперь уже совсем не те соседи.
И отраженье в зеркале не то —
последнее уже удел старенья…
И утром с тонкой пенкой молоко
напоминает лучшие мгновенья.
Когда-нибудь, уже в других краях,
в другом таком пространстве вспомнишь это —
все, что осталось разве что в мечтах
и на бумаге, только без ответа…
Когда-нибудь… Наверно – никогда.
И поезд в этом больше не помошник…
Из времени осталось лишь – всегда,
как город, дом, фонарь, аптека, площадь…
1995
«Перепрячь мои письма подальше и карандаши…»
Перепрячь мои письма подальше и карандаши.
Бельевою веревкой свяжи мне судьбy напоследок
в этих птичьих конвертах – на память. Хватило б души
пережить это время, как раньше далекий мой предок.
Сохрани на листах, может быть, беспросветные сны,
время года, погоду, тоску и мои вспоминая
о тебе поздней ночью. Черней до рассвета листы,
перепутав уже не страницы, но только названья.
Сохрани написание букв, но не с новой строки,
может быть, предложенье, где все из значков препинанья —
многоточье сильней, даже просто – длинней… Коротки
наши встречи с тобой. Сохрани, сохрани мне дыханье.
1996
Сентябрь 1997 года
Вечер дня в городе с траченным небом —
облаками, как молью пиджак в шкафу.
Автомобили с извечным – где бы
пристроится на ночь, заполнив собой пустоту
проезжей части. Звуки старых мелодий
из репродуктора… Что-то еще из вещей
давно забытых, впрочем, совсем не многих —
из тех, что, найдя случайно – теряешь быстрей.
Несколько пар неспешных – к своим подъездам
через туже проезжую – правилам вопреки,
досужим сплетням старушек, вполне серьезно
рассудивших о будущем, но пальчики коротки,
как и память. Кто-то, немного пьяный
недоволен погодой и вечером после шести —
в шумной компании… Резкий звук фортепьяно
из открытой форточки. Кто-то кричит – Прости!
Старик на стуле под окнами после солнца
млеет в тени. Соседка с сухим бельем
проходит мимо, толкуя, что вот британцы
будто очень злые. И связано все с дождем…
Вечер дня. Я за закрытой дверью
в своей квартире. Мысли о завтрашнем дне,
о погоде утром, о том, что уже неделю
нет из дома писем… Кто-то стоит в окне.
Скоро полночь. Колокол на часовне
пробьет двенадцать. Кто не успел уснуть
вздрогнет привычно, или о чем-то вспомнит,
что было однажды… Чего уже не вернуть.
сентябрь 21 1997.
Окончание перечня
И уже не спросишь – ни птицу, ни дровосека
о прохожем, что был здесь – тому пол века
как пролетело. Не спросишь белку,
потому что погибла в ту перестрелку,
в ту весну, когда ты носила платье
под цветным плащом и дарила объятья
на право и лево своим знакомым,
считая их каждый раз по-новой
системе счета. Не спросишь ветер,
потому что он все равно не ответит
и не дослушает до конца вопроса —
сгинет быстрей, чем сгорит папироса
и уронит пепел на лист опавший —
все равно его считает пропавшим —
ветка, дерево – дуб, осина…
У соседа вырастут еще два сына —
впику твоим, да еще девчонка,
на которой короче любви юбчонка…
В этих краях не любят долго —
все равно от любви никакого толка —
в этих краях… В таком селеньи
считают столетия на поколенья,
на колличество каши и щей в кастрюле.
И из ласки – детское: «Люли-люли!»
Баю-баю – кошачьи сказки…
Только кошки мышкам не строят глазки,
как не строят глазки и все соседи —
здесь добрее голодной зимой медведи…
Даже волки добрее в дремучей чаще,
отпуская с богом совсем пропащих…
Ночью в этих краях замерзнуть —
как «два пальца». Такие звезды! —
снятся стынущему в сугробе:
супчик, женщина… что-то вроде.
Что-то вроде последней встречи —
с дровосеком, птицей, как «Добрый вечер,
со свиданьицем – свиделись, слава Богу!
Не прошло и пол жизни, как я в дорогу…»
Снятся дети, жена, соседи —
не эти, что хуже и злей медведя.
Снятся пряники – нет – баранки.
Снится как в детстве катался в санках.
Снится как отпустил синицу
в синее небо – не пригодится!..
Может быть кто-то еще поймает —
нет – так и лучше – пускай летает.
Может быть журавлем родится,
ну а нет – так и так сгодится
новым рукам и еще живому —
не ушедшему далеко от дома…
Снится еще как в последний вечер
были с женой и детьми на речке.
Как на нее вдруг туман слетает!..
Снится – авось, до весны откопают…
1997
Отрывки из писем
…голубой цвет лагуны. Немного нервный…
Я, в неброском костюме, свои наблюдаю черты —
в потускневшем от влаги зеркале, в пости что сером
варианте неба, в его отраженье. В варианте воды.
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Я пишу тебе снова из этих чужих широт.
Для тебя не знакомых – ну, может быть, по открыткам.
От того тоскливее строчки и больше длиннот
в описании местности, уподоюляясь свиткам.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Здесь все также, как я писал тебе. И народ
так же глуп и несчастен в своем понимании жизни,
так же мерзок, как первый утренний бутерброд
после пьянки вечером, но это всего лишь мысли,
правда – мои. И тебе ни к чему сюда
приезжать и писать… Какие уж тут затеи
или хлопоты встречи, когда лишь одна вода
к пониманью способна – вполне… И я ей верю.
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Ни к чему вспоминать, что ты мне еще жена —
столько прожили врозь, что теперь лишь считать убытки
от почтовых расходов… Но в том не твоя вина —
просто нам было легче писать на песке… и открытке…
…………………………………………………………….
Здесь неважное пойло и кофе здесь, в общем, гавно!
Ах, прости за сравненье – какие с меня реверансы!
Я совсем разучился манерам… Почти что кино…
Жаль, что здесь нет тебя… и кругом одни иностранци…
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…ах, приехала б ты. Я б тебя познакомил с подругой…
Да, прости – времена. Одному здесь не выжить с тоскою!
Я наднях повстречал (перечеркнуто) – встретился с другом,
но и он восвояси… Теперь вот сижу над строкою…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Перечел тот роман, что ты мне подарила когда-то…
Кто ж там автор? Ах, впрочем – какая в том будет заслуга..
Я не помню уже… Да – я скоро умру, вероятно…
Вот тогда и сочтемся за все, что писали друг другу…
1997
Январь
Он исчез в тусклой стуже…
Уистен Оден.
Опять январь… О, сколько января!
И рыбьих фонарей со струйкой дыма
внутри стекла. Уже не говоря —
про снег, мороз… и вообще про зиму.
В который раз Эвтерпа – сирота —
в бумаге дело здесь, или в погоде
начала года? Или же места
распределили раньше боги? Боги! —
не так же часто… Улица пуста.
Аптечный цвет замерзших тротуаров —
как можно кстати… Ветерком с куста
срывается снежинок покрывало…
Опять январь! Кто едет по зиме?
В какую даль загружена повозка,
кто пассажир? Но кто ответит мне?
Кто стелет мягко так, что спать так жестко…
февраль 17. 1997 год.
«Вдох не ровняется выдоху… Эхо…»
Вдох не ровняется выдоху… Эхо
где-то внутри раздражает гортань
шелестом звуков, ломая помеху
пению и, преступая за грань
голос, не в силах держаться, взлетает —
выше, где, может быть птичий Рай,
до облаков и у них затихает,
как бы теряясь, но это за край
облака, звук растворясь, залетает
и поднимается выше – за край!
Звук, не сорвавшись до птичьего крика
сквозь раздраженную эхом гортань,
вдруг растворяется, трогая грань
облака, шорохом, но только – тихо!
апрель 17. 2001 год
«Я родился и вырос не там, где, наверно, умру…»
Я родился и вырос не там, где, наверно, умру
Отпусти же мне, волжский суглинок, грехи напоследок,
чтобы вспомнить в другой географии эту траву,
что горчит на губах и становится в памяти следом
за неспешной водой… География в сумме вещей —
лишь желание выжить, не сгинуть за облачным краем,
поселившись однажды в империи, где без затей —
затеряться среди поселенцев с имперских окраин.
Океанский простор, птичий клекот и облачный край —
дополнение к жизни истории, смысла к бумаге,
новых карт к географии… Где там потерянный Рай?
До которого выжить хватило бы сил и отваги!
Я родился и вырос… и ты отпусти мне грехи!
мне не выбрать уже ни страны, ни погоста, ни даты
окончания перечня, чтобы закончить стихи,
не сорвавшись до крика, с которого начал когда-то!
август 20.2001 год.
Почти что песенка
…и город плыл под краску тусклую
заката, моя грязь и изморозь
по тротуару. От безумства ли,
иль – так вся жизнь моя случилася.
Но от тоски и невеселия —
соображаешь, что осталося
от проживания похмельного,
от буйства давешнего радости.
Остался этот город маленький
с оконцами в размер скворечника,
где душу дьяволу – за валенки!
И, где любимая не встречена…
Где роза алая с гвоздикою,
с каким-то листиком засушенным —
в дырявой банке с паутинкою —
в пространстве, в общем-то, разрушенном.
Но радуется люд по праздникам,
столы сколачивая новые —
они, конечно, очень разные —
до первой даже незнакомые…
сентябрь 19. 2001
Надпись на книге
Яне Джин
На кофейной гуще – где-нибудь в Амстердаме,
в досентябрьском Нью-Йорке, в Москве морозной —
погадать на будущее, но увидев свое отраженье в стакане,
про себя подумать – не поздно ли?..
Но какая музыка в древнем городе! – в любом на выбор —
Только б от счастья не перепутать местами…
Кто-то, приезжий, картавит названья, чертясь на выговор,
дополняя несказанное – стихами.
И в кафе на площади, где-то в одном из лучших
городов – хозяйка кофейни придержит столик
для желающих погадать на кофейной гуще
и чего-нибудь выпить – за имперский стольник!
октябрь 6. 2001
«Я слушал пение сегодня, в понедельник…»
Я слушал пение сегодня, в понедельник,
какой-то девочки – за мелочь или булку…
Подземный переход на Комсомольской
был полон, как всегда в такое время —
обеденное время. Кто-то деньги
бросал в коробку и спешил уйти
от места слабости своей подальше…
Никто не слушал – как она поет!
Был понедельник, я спускался вниз,
в подземный переход на Комсомольской
за свежим номером газеты, кто-то пел.
Из-за угла я никого не видел…
Пройдя чуть дальше – девочка стояла
и пела – голос выходил из подземелья…
Испачканное, милое лицо… и звук,
дробивший стены подземелья на мелкие куски.
Я слушал и заслушивался – эхо
кружило меж людей в подземном мире,
не выходя из темного пространства – на верх,
боясь само себя разрушить… Я стоял,
как вкопанный и плакал. Понедельник
мне показался самым лучшим днем…
И девочка, что пела в подземелье, и жизнь,
что так не любит чистый звук,
что поднимаясь из глуби пространства,
уходят дальше – к облакам и звездам!
«Ни чернил, ни февраля – …»
Регине Дериевой
Ни чернил, ни февраля —
только шариковый стержень,
ночью строчку выводя,
по бумаге буквы режет…
Ни расплывчатых картин —
в небе – облаком летучим…
Кто-то машет средь руин,
но от этого не лучше! —
ноет клапан выходной,
сердце давит – на погоду?
Мне от этой неземной
жизни – хуже – год от года.
Мир не лучшее из мест,
где родиться стихотворцу,
но в отсутствии небес —
строчки, как ножом по сердцу.
И струится красный след
по бумаге, между строчек —
вслед за шариком – во мгле —
этой ночью. Этой ночью.
октябрь 17. 2001
Из семейной хроники
В. Д.
Она была подругой алкоголика.
он был женатым на ее подруге —
любовный треугольник возле столика
с вином и водкой, и с закуской – в круге
настольной лампы. Полные стаканчики
граненые – по правилам гранения.
И вкруг стаканов переплетье пальчиков
искуренных и с пятнами старения.
Он был стахановцем, точнее, был забойщиком,
но не скотины – каменной истории,
в которую, как пальцами закройщика
впивается игла, но ткань не новая.
И он, страдая от убийства каменной
истории, глотал все, что горящее
под руку попадалось, жидким пламенем
сжигая жизнь свою не настоящую.
Подруга стала дивным сочетанием
его мечты с банальной бытовухою.
И славилась на косточках гаданием,
хотя еще и не была старухою…
В ее судьбе не получилось главного —
ни мужа, ни детей, ни продолжения
какого-нибудь боле-мене славного…
И жизнь текла почти что без движения.
Подруга, муж, жена – любовь до коликов —
бутылка на троих делилась правильно.
Она была подругой алкоголика,
он был женат… – а впрочем – все по правилам,
по полочкам, по списку… Жизнь – обманщица! —
отца подруга задушила в день рождения,
в начале августа… И скуренными пальцами —
по крышке гроба, задушив волнение.
октябрь 20. 2001
Речь
Звук осторожный и глухой…
Осип Мандельштам.
Если слово от Бога, то что же у глухонемых?
Перекрестие пальцев? И речь их ветвисто-корява —
в этих самых ветвистых руках? Но покуда в живых
перекрестиях рук – речь звучит, как ни в чем ни бывало,
и длиннее слова, и понятен их смысл – без слов —
значит что-то в ветвистых руках – не доступное звуку.
Может что-то в сплетении пальцев? – но выбор суров —
между звуком и знаком – и напоминает разлуку.
Чем беззвучнее речь, тем чернее от знаков листы.
Продолжение речи – в чернильно-бумажном укладе —
мне милее, чем крик, что доходит до той высоты,
где теряется звук, растворяясь в пространстве, как в яме.
Мне милей говорящий руками – их жестче язык
в выражении чувств, в написании слов на бумаге.
Говорящий руками – не лжет, как кричащий привык —
тем длиннее ветвистая речь, как деревья в овраге.
Чем чернее листы, тем понятнее голос и звук,
доходящий до шепота. Речь – в перекрестии пальцев,
что сжимают перо, переходит от лиственных рук
к почерневшей бумаге и строчки уносятся дальше,
где беззвучней язык в перекрестии крыльев немых.
От того ли черны небеса? От того ли печали
предостаточно в речи ветвистой глухонемых?
Или все от того, что беззвучие было вначале?
ноябрь 9—11. 2001
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!