Читать книгу "Возвышающий обман"
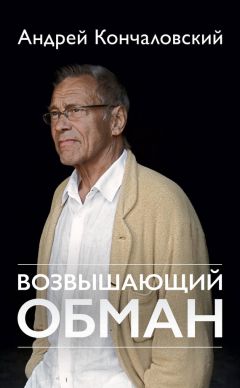
Автор книги: Андрей Кончаловский
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Запрещенный спектакль
Нам с Тарковским позвонил молодой режиссер. Сказал звонким задыхающимся голосом:
– У меня последний раз спектакль. В Калинине. В Театре юного зрителя. Его закрывают. Очень прошу, посмотрите. Может, сумеете как-то за него заступиться.
Не помню уж, кто именно закрывал спектакль – то ли идеологический отдел ЦК ВЛКСМ, то ли местные власти. Во всяком случае, это был вопль отчаяния, и мы откликнулись на него. Поехали смотреть запрещенное искусство.
Была зима, жуткий мороз, градусов тридцать. В моей «Волге» не работала печка. Ужас! Пока доехали до Калинина, окоченели насквозь. Зашли в театр. Зрелище привычное до невыносимости. Крашенные синей краской стены, полутемный зал, в зале – человек тридцать зрителей, добрая половина – солдаты. И в приличную погоду сюда наверняка мало кто заглядывал, а в такой мороз – вообще пустота.
Познакомились с режиссером. Молодой. Нервный. Горит одержимостью.
– Сейчас начинаем, – сказал он.
Открылся занавес. Декорация довольно модерновая. Насчет героя запомнилось больше всего то, что он, кажется, был в кожаных джинсах. Такие тогда носил только Высоцкий, недавно женившийся на Марине Влади.
О чем был спектакль, из-за чего горел сыр-бор, в памяти не сохранилось. Но где-то посреди первого акта герой вскочил на стол, взял микрофон, заиграла музыка, он запел, музыка внезапно оборвалась, а с ней и пение: это была фонограмма. Растерянный актер стоял на сцене, смотрел по сторонам. Дали занавес. Вышел режиссер.
– Просим извинения, – сказал он. – Произошла техническая накладка. Скоро мы ее устраним и начнем снова.
Потом он пришел к нам в директорскую ложу, сказал:
– Сволочи! Они это делают нарочно, чтобы дискредитировать мое искусство. Вы представляете? Простите, ради Бога. Подождите еще немного. Сейчас привезут копию фонограммы.
– А с этой что случилось?
– Меня так не любит звукотехник, что он нарочно порвал ленту и еще залил ее ацетоном.
Он говорил это, чуть не плача. Его было очень жалко.
Мы пошли в буфет. Еще не отошли от холода. В буфете продавался коньяк (в московских театрах спиртное не продавали). Взяли бутылку. Вокруг бродят унылые солдаты, у них денег на коньяк нет. Прождали час, уговорили полбутылки, потом – всю до дна. Потеплело. Часов в девять прозвенел звонок. Поднялись опять в зал. Опять начался спектакль, опять герой залез на стол, пошла фонограмма, но теперь – задом наперед. Актер, естественно, петь не мог – занавес опять закрылся. Бедный режиссер! Представляю, что он в этот момент переживал. Но нам дольше уже оставаться было нельзя, надо было возвращаться домой. Мы с Тарковским тихонько вышли из директорской ложи; тепленькие, сели в студеную, промерзшую машину, поехали в Москву. Печально и трогательно…
Так начиналась театральная карьера и будущая слава Романа Виктюка.
«Дворянское гнездо»
Первую картину я снимал среди баранов, кобыл, юрт, стойбищ. На сапоги налипало овечье дерьмо. Вторую – в деревне. Опять избы, дождь, хожу в ватнике и ватных штанах, ем перемазанную сажей картошку. Кругом коровьи лепехи, также в достатке налипавшие на сапоги. Надоела грязь, ощущение скотного двора. Очень захотелось снять что-то красивое, чистое, цветастое, с большими бабочками и шляпами. Шел 1967 год. В Москве на фестивале показали «Леопарда» Висконти. Хотелось чего-то в том же ключе. Чтобы не шагать по полю в овечьих какашках и коровьих блинах. Подумалось: хорошо бы снять Тургенева «Где тонко, там и рвется». Почему-то я запал именно на эту пьесу.
Снимать пьесу – дело вроде как нетрудное. Но как раз в это время я посмотрел фильм по какой-то классической пьесе. Это было так убого, с таким отсутствием культуры, понимания красоты XIX века, его живописи, воздуха, наконец. Подумал: «Если б только дали снимать!» Я же был режиссер запрещенного фильма.
Но случилось чудо. Меня вызвал Сурков, главный редактор Госкино.
– Не хотели бы снять классику?
– Как раз об этом я сейчас думаю. Очень хочется снять фильм про бабочек, перелетающих с цветка на цветок. «Где тонко, там и рвется» Тургенева.
– А не лучше ли взять к юбилею Тургенева какой-то его роман?
И предложил – «Отцы и дети» или «Дворянское гнездо». «Отцы и дети» делать не хотелось – слишком уж нагружено идеологией. «Дворянское гнездо» казалось гораздо более привлекательным. Я согласился, хотя роман читал не упомню когда, еще в школьные времена.
Сказав «да», отправился узнать, на что согласился. Прочитал и пришел в ужас. Сентиментальный язык, романтические пейзажи, идеализированные герои, идеальная девушка Лиза Калитина. Стало не хватать запаха навоза, от которого так хотел избавиться. Полное отсутствие «низших истин» – все сплошь «возвышающий обман».
Начал читать подряд всего Тургенева, чтобы понять его мир, перетащить из других произведений то, чего здесь недоставало.
Работать мы договорились с Валей Ежовым. После лета в Коктебеле и «Белого солнца пустыни», с которого я сбежал, уже осенью, в Москве, мы сели за тургеневский сценарий. Хорошо помню, как должен был вытащить Валю на худсовет по заявке, написанной между двумя гигантскими попойками. С утра заехал к его знаменитой подруге, где пришлось в прямом смысле вынуть его из постели. Я надел на него галстук, побриться он уже не успевал – до худсовета еще надо было опохмелиться. Худсовет, не долго заседая, постановил заключить с нами договор.
Читая Тургенева, я первый раз отметил полярность его эстетических вкусов. С одной стороны, условный, романтизированный, идеологизированный мир его романов с неправдоподобием дворянской идиллии, с другой – натурализм и сочность «Записок охотника».
Существуют как бы два Тургенева. Один – умелый мастер конструирования сюжетов, поэт дворянских гнезд, создатель галереи прекрасных одухотворенных героинь. А другой – великий художник, пешком исходивший десятки деревень, видевший жизнь как она есть, встречавший множество разных людей и с огромной любовью и юмором их описавший.
В письмах Тургенева из-за границы нередки строки такого рода: «Вчера было скучно. Долго ждал поезда. Сидел в ресторане на станции. Хорошее было вино. Выпил бутылку и пошел сюжетец». «Сюжетцы» в своих романах он прескладно сочинял. А потом тот же барин Тургенев брал перо и писал кусок российской жизни – свои «Записки охотника». Они будто написаны другим художником. В них – сочность характеров, почти гоголевские гиперболизированные образы, юмор, которого в романах напрочь нет. Взять хотя бы рассказ «Чертопханов и Недопюскин» – два абсолютно гоголевских характера. Неходульно, смешно, по-русски сочно, без тени идеализации – проза русского классика. Бессмертные образы! Создав их, Тургенев вообще мог бросить писать – слава и так была бы ему навек обеспечена.
Мне захотелось соединить эти два стиля в одной картине. Я задумывал ее как сопряжение двух миров, один из которых как бы дополнял другой. Последней частью сценария была новелла, в которой герои романа – Лаврецкий и Гедеоновский – встречались в трактире, где шло соревнование певцов. Цветной, идеализированный, романтический мир «Дворянского гнезда» должен был столкнуться с черно-белым миром «Записок охотника», в какой-то мере пересекающимся с эстетикой «Аси Клячиной».
То есть я собирался создать мир цветов, сантиментов, красивый, роскошный – такой торт со взбитыми сливками, а потом хорошенько шлепнуть кирпичом по розовому крему. Взорвать одну эстетику другой. Преподнести зрителю ядреную дулю: после сладостной музыки и романтических вздохов – грязный трактир, столы, заплеванные объедками раков, нищие мужики, пьяные Лаврецкий с Гедеоновским, ведущие разговор о смысле жизни. И в том же трактире – тургеневские певцы. Как бесконечно далеки друг от друга эти баре и эти мужики: и все хорошие, любимые автором люди, а между ними – пропасть, проложенная цивилизацией и историей. В этой пропасти истоки судьбы России.
С таким намерением я начинал снимать «Дворянское гнездо». Набравшись наглости, я заявил, что для картины мне нужно три художника – такого на «Мосфильме» еще не бывало. Двигубский должен был делать Париж, Ромадин – имение Калитиных, Бойм – Лаврецких. Все трое – лучшие художники студии. Дирекция мне отказала. В ответ я заявил, что прошу меня освободить от картины. Выхода у них не было, пришлось разрешить. Каждый из художников делал мир, совершенно отличный от других по своей стилистике.
Думаю, мы написали очень хороший сценарий. Но, как выяснилось, режиссерски я к нему еще не был готов. Не дотягивал до задачи. Думаю, это мог бы поставить такой мастер, как Антониони, или кто-то еще, владеющий тайной атмосферы в кино – может быть, Никита, каким он нашел себя в своем «Обломове».
Давалось «Дворянское гнездо» страшно трудно – стиль картины никак не находился. Все проваливалось между пальцев. Я читал всего Тургенева, все о Тургеневе, все вокруг Тургенева. Старался осмыслить главный камень преткновения всех философских споров российской интеллигенции – славянофилов и западников.
Как относился Тургенев к этим спорам, на чьей он был стороне? Есть такая книжечка «История одной вражды», рассказывающая, как и почему возникла никогда потом не утихавшая взаимная неприязнь Тургенева и Достоевского. Они встретились в Германии, и Достоевский обвинил Тургенева в ненависти к России. Он не мог ему простить слова героя «Дыма» Потугина: «Наша матушка, Русь православная, провалиться могла бы в тартарары и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная: все бы преспокойно оставалось на своем месте…» А когда Достоевский вдобавок обрушился с бранью на немцев, Тургенев, побледнев, сказал: «Говоря так, вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что сам себя считаю за немца, а не за русского».
Достоевский не мог «слушать такие ругательства на Россию от русского изменника» и никогда не простил Тургенева – тот его «слишком оскорбил своими убеждениями».
Этот спор для меня продолжался и в картине: есть ли у человека духовные корни, Родина, нужна ли она, зачем и кому нужна? Это вопросы вечные, логически неразрешимые, недоказуемые, тем и интересные.
Пробы к картине я делал тщательно. Было трудно ощутить главные характеры – Лаврецкого и Калитину. На Лизу пробовалось бессчетное множество красивых девушек из всех институтов. Пробовалась волоокая русская красавица Катя Градова. Девушки шли косяком, что вообще приятно – особенно режиссеру начинающему и нахальному. Среди других пришла девочка из вахтанговского училища, огромные серо-голубые глаза-блюдца, нос уточкой, очень красиво очерченный рот. А я, уже матерый режиссер, сижу в кресле, нога на ногу. Рассматриваю ее. Она молчит, и я молчу. Молчим минуту. Она вспыхнула.
– Я могу уйти.
Уже и привстала.
– Нет, зачем же? – говорю я. – Погодите.
Мы начали ее одевать, сделали пробы – получилось замечательно. Лизой Калитиной стала Ира Купченко.
На роль Лаврецкого пробовался Сафонов, очень хороший, аристократичный актер. Но стиль картины по-прежнему не находился. Я все не мог понять, чего хочу. Как раз в это время Андрей Смирнов снял прекрасную новеллу – «Ангел». В определенном отношении «Ангел» был прорывом в эстетике советского кинематографа. Впечатляли удивительная пластика, фактура и, главное, режиссерское толкование материала. Роль комиссара в «Ангеле» играл никому не ведомый актер из Брянска – Леонид Кулагин. Русые волосы, бычьи глаза, тяжелая челюсть. Он мне очень понравился, меня потянуло в его сторону. Подумалось, что его Лаврецкий будет интереснее – в нем было больше мужика. На роль немца Лемма взяли Костомолоцкого, чудного старика из театра Моссовета.
Мне как режиссеру свойственно, делая картину, или еще на сценарном ее этапе, или даже на этапе подготовки, аккумуляции материала, тащить все в дом. В записных книжках у меня все, что может пойти в строку, дать толчок мысли, – огромное количество разного материала. В «Асе Клячиной» это были в основном Платонов, Гоголь, в «Дворянском гнезде» – все, что могло пригодиться для поиска стиля, характера изображения, пластического решения. От Феллини в картине есть просто прямое заимствование. В кадре возникают статичные музыканты – сначала четыре, потом – пять, семь, десять, и начинается котильон. Этот прием «заимствован» у Феллини – из «Амаркорда». Кто-нибудь заметил?
Для парижского эпизода Коля Двигубский придумал замечательные платья – из жатой бумаги, лигнина (артисты пользуются им для стирания грима). Со стоячими воротниками. В картине достаточно таких бумажных костюмов. У меня был верный человек – Кано, Каныбек, казах, практикант на «Дворянском гнезде». Он был моим ассистентом еще на «Асе Клячиной», где, к прочему, сыграл эпизод – офицера-казаха, уносящего со своими солдатами Асю, родившую в поле. Он обратил мое внимание на своего однокурсника Рустама Хамдамова.
Я посмотрел его короткометражку – «В горах мое сердце», она произвела на меня большое впечатление. Это была еще даже не дипломная, а курсовая работа. Там как раз и играл Костомолоцкий, эксцентричный, забавный старик. Я начал чувствовать, что, как ни странно, маленькая картина студента Хамдамова у меня не выходит из головы. Я о ней думаю. Она была очень красива, хотя в ней был некий маньеризм. Многие решения в «Дворянском гнезде», сам его стиль определены ею. Я настолько был под этим впечатлением, что попросил Хамдамова сделать костюмы, и в особенности шляпы для героинь – к обиде художника по костюмам Нисской. Эскизы ее костюмов были тяжелые, буквально следовавшие реальной моде тургеневского времени – с рюшками и прочими, как теперь говорят, прибамбасами – на экране это выглядело ужасно.
К недовольству Коли Двигубского, и даже к обиде (но что поделаешь!), я пригласил на картину Рустама Хамдамова. При всем огромном вкладе Ромадина, Бойма и Двигубского, мир «Дворянского гнезда» в какой-то степени был создан также и четвертым художником – Хамдамовым. Он сделал для нас замечательные шляпы с цветами на полях, чудные творения – делал все своими руками. На картине он числился практикантом.
Рустам, конечно же, артизан, человек исключительного таланта, я относился к нему с любовью, даже с обожанием. «В горах мое сердце» была первой в списке его работ. Потом была печальная история с фильмом «Нечаянные радости», неоконченным, из-за чего он был заново переснят – так появилась «Раба любви» Михалкова. И потом еще одна печальная история – с «Анной Карамазофф», которой никто никогда не видел, за исключением единственного просмотра в Канне. Где теперь она?..
Забавно, что «Дворянское гнездо» сделано под влиянием Феллини и Хамдамова. Великий классик и студент ВГИКа.
Роль Гедеоновского играл Василий Васильевич Меркурьев. Дикого барина (эту роль мы ввели в сценарий) – Евгений Лебедев. Характер – не из «Дворянского гнезда», а из «Записок охотника». Коля Губенко сыграл лошадиного барышника, эта роль в фильме осталась, она тоже из «Записок охотника». Мне казалось, что роль Паншина, соперника Лаврецкого, должен играть человек, похожий на Гоголя. Я и делал его похожим на Гоголя – с гоголевским носом, гоголевской прической, и актера взял похожего на Гоголя – Сергачёва из «Современника». Я собирал с миру по нитке и все пихал в картину.
Очень долго у меня ничего не получалось. Боялся сам себе признаться, что не знаю, как снимать. Был период во время ленинградской экспедиции (имение Лаврецких мы снимали в Павловске), когда я, от ужаса перед необходимостью идти на площадку и что-то снимать, выпивал с утра полстакана коньяка. Это давало некоторое иллюзорное освобождение.
Состояние было отчаянное, и в этом состоянии у меня было одно желание – ощутить рядом прерывистое женское дыхание. Так начался мой роман с Ирой Купченко. Меня мало что останавливало.
Ира очень талантливый, очень цельный человек. В ней, в ее глазах есть невозмутимость русского северного пейзажа, человеческое спокойствие, философский подход ко всему на свете. Так же она отнеслась и к тому, что между нами произошло. Случилось это в гостинице «Советской» с фанерными стенами, под музыку Перголези: я привез в Ленинград проигрыватель и кучу пластинок итальянского барокко. Помнится, в номере было полно платьев с картины: мы наряжались в них, играя…
Никогда не забуду сцены свидания Лизы с Лаврецким, когда она выходит на балкон, а он, стоя в луже, признается ей в любви. Это самые красивые кадры картины: крупные планы Лизы полны такой одухотворенности, ее прекрасные серые глаза глядят на вас так всепрощающе! В момент съемки я чувствовал себя Лаврецким. Какое это было счастье! Сколько энергии дала мне Ириша Купченко…
Роман наш оказался достаточно кратким. К концу картины мы были просто друзьями. Никогда не видел ни обиды, ни претензий, ни следов горечи на ее лице, хотя натура она интровертная: что переживает, что чувствует, не отгадаешь.
А картина не получалась. Я чувствовал, что в ней нет «мяса» – один соус, внешность, декорация. Может быть, свободные импровизации на «Асе» развратили меня? Может быть, я был просто не готов? Во всяком случае, я понял, что распустился, стал вспоминать, как тщательно готовил «Первого учителя». Помню, я стал усердно готовиться к сцене на конной ярмарке. Даже делал раскадровки, каждый кадр был четко продуман. Первый раз пришло ощущение, что наконец-то вместо общих мест появляется «мясо» взаимоотношений героев. Зацепившись за это, я стал наращивать вокруг другие сцены – картина постепенно обрастала мускулами. Но все равно не покидало ощущение неминуемого провала.
Пришло время последней сцены в трактире, которая должна была стать кульминацией всего замысла. Я решил возродить «Асю Клячину», на этот раз в XIX веке. Мужика играл привезенный из Суздаля Егорычев – Чиркунов из «Аси». На роль одного из певцов мне привели чудного мальчика-студента, с лицом Христа, – он замечательно спел «Не одна во поле дороженька пролегала». Это был Александр Кайдановский, впервые снимавшийся в кино. На роль «русской мадонны» привели красивую девочку, студентку второго курса ВГИКа (я искал особо выразительные лица, которые помогли бы передать одновременно красоту и дикость моей страны): она сидела в кадре с грудным ребенком – ее звали Елена Соловей. Замечательные актеры согласились играть буквально крохотные роли, поняли, как важна для меня эта сцена, – Ия Саввина, Евгений Лебедев, Коля Бурляев. Очень хороша была Алла Демидова в гриме мальчика– инока. Такие вот таланты были собраны в финальной новелле…
Беата
В роли Варвары Петровны, жены Лаврецкого, снималась Беата Тышкевич. Она очень была здесь на месте – светская львица, сливочные плечи, парижский лоск – Беата… Мы познакомились году, наверное, в 1961-м. Она приехала на фестиваль, я втюрился в нее до смерти. Сохранились фотографии того времени, где мы вместе. Она была для меня польской звездой – далекой, заманчивой, соблазнительной, недосягаемо красивой. Мы гуляли по летнему лесу. Взяли с собой плед, вышли на опушку. Отчетливо, до мелочей помню эти мгновенья. Вокруг березы, высокий-высокий хлеб. Мы легли на плед и вдруг почувствовали, что все серьезно. Целовались…
Она уехала и стала писать мне письма. Обычно это были письма со съемок, на обратной стороне контрольных фотографий из тех картин. У нас началась прекрасная дружба. Замуж она вышла не за меня, а за Вайду. Я чувствовал, что Вайда меня к ней ревнует, хотя наш роман был исключительно платоническим – для меня она была слишком красива и слишком звезда. Но отношения сохранились замечательные, каждый фестиваль она останавливалась у нас – дома или на даче. Очень подружилась с моей мамой. Звала ее, как это ни странно, «мама». Сергея Владимировича – «папа». Как бы играла в родственницу. Она женщина исключительной красоты, высокого класса. Но как с актрисой до «Дворянского гнезда» я ни разу с ней не работал.
Она приехала на съемки. Я был так рад: у меня звезда снимается! Мы сделали ей роскошный костюм. Первая съемка. Сцена объяснения с Лаврецким. Стали репетировать. Чувствую, не то.
– Ты видишь, здесь написано, что ты должна заплакать.
– Плакать? Я не плачу на сцене.
– Как не плачешь?
– Я никогда не плачу. Не знаю, как это делается.
Я почувствовал приближение катастрофы.
– Хорошо, – сказал я. – Перерыв на обед.
Отпустили всех. Только Рерберга я попросил остаться.
Гога остался с камерой, ассистент на фокусе ушел. Снимать надо крупный план. Я подошел к Беате.
– Понимаешь, нужно плакать.
– Не понимаю.
Я взял ее за плечи и тряханул.
– Нужно плакать. Репетиция!
Она делает все, как прежде. Понимаю, что нужно срочно что-то делать. Охватывает ужас. Дал ей по физиономии.
– Ты будешь плакать?! Мать твою…
Она побелела.
– Где мои вещи? Я уезжаю в Варшаву.
– Нет, сейчас ты будешь это играть. И будешь плакать…
Она вся надулась, губы распухли, носик покраснел… Я кричу:
– Текст!
Пошел текст.
– Снимай, Гога!
Он снимает, фокус переводит ногой, двигая камеру на тележке… Сняли дубль, второй, третий. Все три – классные дубли.
– Все хорошо. Можно обедать. Сняли!
Она повернулась и ушла.
«Катастрофа! – думаю я. – Уедет и все. Что дальше?»
Приходит ассистент, говорит, что Беата просит билет на самолет.
– Ладно, берите билет. Что я могу сделать?
Прошел час, полтора. Все вернулись на площадку. Я, как ни в чем не бывало, говорю:
– Давайте репетировать сцену.
Беаты нет. Что делать? Посылаю за ней. Она приходит.
Со мной не разговаривает. Сыграли. Сцена та же, только сейчас не для крупного плана, а для общего. Она была прекрасна. Сняли сцену, сняли проходы, так и не сказав друг другу ни слова.
Она уехала в Варшаву. Со мной не простилась. Катастрофа! Я поругался с ней на всю жизнь!
Проходит два месяца. Мы уже закончили экспедицию, работаем на «Мосфильме». Должны снимать другую ее сцену – опять со слезами. Она приезжает. Я не еду ее встречать. Боюсь. Не знаю, что она скажет. Ее одевают, гримируют, она все время спрашивает:
– Где Кончаловский?
– Снимает.
– Он придет или не придет?
Мне передают. Я не иду. Боюсь до смерти. Она приходит на площадку. Я от нее прячусь. Ассистенту сказал:
– Отрепетируй без меня.
Я боюсь с ней встретиться. А это сцена объяснения с Лаврецким. Тут же после ее возвращения. Надо плакать, и притом сразу.
Отрепетировали. Все готовы. Дали свет. Она стоит.
– Кончаловский будет вообще снимать?
Тут прихожу я. Говорю:
– Здрасьте! Здрасьте, милая!
Она потная от волнения. Ее все время пудрят. Возможно, она боялась, что я опять примусь за рукоприкладство. Командую:
– Мотор!
Идеальный дубль. Никаких проблем. Актриса раскрылась. Я целовал ей руки, обнимал. Она была счастлива. Пошли съемки, взаимоотношения стали прежними. И, смею сказать, Варвара стала ее лучшей ролью.
На картине появился талантливый фотограф – Валера Плотников. Он был молодой, очень, как и до сих пор, красивый, ходил в гусарском ментике (1968 год!), сделал замечательные фотографии…
Мне хотелось, чтобы в картине был макромир: отсюда, скажем, шмель, жужжащий на стекле окна. Окно закрыто – мы не слышим, о чем говорят люди, стоящие за ним. Потом кто-то толкнул створку окна – и мы уже слышим диалог. А шмель улетел.
Вслед за игрой с пространством пришло ограничение поля зрения естественным препятствием, чему я учился уже у Бергмана. Камера у него нередко ставится за пределами комнаты, и мы через открытую дверь видим только часть происходящего. Человек проходит сквозь дверь, останавливается в ее проеме – мы видим только часть сцены, остальное дорисовывает воображение. В «Дворянском гнезде» я впервые употребил этот прием в кадре с террасой.
На картине произошло печальное событие.
Я был настолько увлечен созданием реальности, скрупулезным воспроизведением быта, с великим множеством крупных планов – ювелирностей, миниатюр, гравюр, чашек, серебра, что потом это дало повод Параджанову сказать о картине: «Комиссионное гнездо». Я так увлекся всем этим, что хотел снимать Беату Тышкевич не в имитациях из бижутерии, а в настоящих украшениях. Попросил для этого у мамы ее фамильные драгоценности, подарок бабушки, вещи, переходившие в семье из поколения в поколение: серьги бриллиантовые, заколку с большим изумрудом и миниатюрную книжечку басен Лафонтена, в золоте с перламутром (ее на шестнадцатилетие подарил ей дедушка). Все было положено в красивую яшмовую коробочку, отделанную золотом, – мама отдала мне все, ни секунды не колеблясь, ничего не спросив.
– Хочу снять это красиво, крупным планом, – сказал я.
Какая глупость! Никто бы не заметил, даже если б это были фальшивые камни. Коробочка стояла у меня в гостинице, на трюмо. Когда наступил день съемок, я послал человека к себе в номер привезти ее. Вдвойне идиот! Вот что значит не ценить то, что дорого маме! Сейчас бы я и подумать не посмел сделать подобное.
Человек вернулся, сказал, что ничего не нашел. Я поехал сам. Драгоценности пропали. У меня был шок. Все это происходило летом. Прежде всего я не знал, что сказать маме. Это была одна из причин, по которой я с утра стал прикладываться к коньяку. Просыпался и думал: что делать?
Подозреваю даже, кто мог украсть. Тот, кто знал. Очень дорого стоили эти вещи. Давил ужас необходимости сказать обо всем маме. Все в группе знали о случившемся. Поползли слухи – самые невероятные. Говорили, что ничего не украдено, а это я сам подарил драгоценности Беате Тышкевич, что я переправил их за границу, чтоб там продать. Слухи дошли до Кати, моей сестры. Она позвонила мне в Ленинград:
– Правда ли, что пропали мамины драгоценности?
Все внутри у меня опустилось…
В конце концов я позвонил маме. Выпил для храбрости.
– Мама, у меня для тебя плохая новость. Не знаю даже, как сказать. Пропали драгоценности.
Мамин ответ меня потряс:
– Я уже слышала об этом. Знаешь, ничего страшного. Надо же как-то платить за счастье в жизни. Я здорова (ей тогда было 65), у меня здоровые дети, все хорошо. Чем-то за это можно пожертвовать. Я так это и расценила.
У меня отлегло от сердца. Господи! Она восприняла это с такой замечательной философской красотой, мудрым спокойствием, что я потом всю жизнь чувствовал себя ей обязанным. И постарался отплатить. Когда стал зарабатывать деньги, приехал из Америки, мама уже недомогала, я положил ей на счет большую сумму и сказал:
– Эти деньги тебе на нянек, на домработниц, на шофера, на медсестру – на все, что понадобится.
Она отдала все сестре Кате. Я был расстроен.
Пропавшие драгоценности давили меня огромным грузом, еще более усугубляя кризисное состояние, в котором я находился все время съемок «Дворянского гнезда». От несчастья порой наглеют. Очень хорошо помню это чувство.
Ходил модный, элегантный, в черном бархатном пиджаке, в белой кепке, белых брюках, с утра подшофе, с обреченной улыбкой на губах.
Где-то далеко на Елисейских полях в Париже была Маша Мериль. Я уже сказал Наташе, что ее не люблю. Помню, она уезжала на съезд молодежи, смотрела на меня из окна автобуса и ее черные глаза были полны слез – моя душа просто разрывалась на части!
Наташа меня очень любила. Хотела от меня избавиться. Я не давал ей развода. Боялся, что назло мне выйдет замуж за первого встречного дурака.
– Пока не кончишь ВГИК, развода не получишь, – сказал я.
Состояние по Троцкому – ни мира, ни войны. Наташе я дал развод, когда встретил Вивиан и понял, что женюсь. Это было уже в конце «Дворянского гнезда».
Когда я монтировал «Дворянское гнездо», от страха, что что-то не получится, не сложится, появились странные монтажные прорезки – пейзажами, кадрами девочки с цветами, намеренно нерезко снятыми: девочка вдруг стала лейтмотивом картины. Я в монтаже стал искать то, чего в замысле не было, – ощущение рифмы. Эта девочка проходит через картину как символ, мечта, греза…
К «Дворянскому гнезду» отношусь неравнодушно, трогательно о нем вспоминаю, хотя и вижу, насколько картина не получилась – по отношению к задуманному. Снимай я ее десять лет спустя, она бы соответствовала задуманному не в пример больше. В «Романсе» я уже сумел столкнуть два мира, один разрушить другим – прозаическим черно– белым финалом убить приподнято романтический стиль первой части. Наверное, без «Дворянского гнезда» не было бы «Романса».
Да, в картине не удалось главное – выстроить драматургическое напряжение, но какие-то удачи в ней все же были. Удалось выстроить атмосферу имения, дворянского быта. Но все дело в том, что строил я ее для того, чтобы потом показать грубость русской жизни, ее изнанку. Красота и изящество получились, а грубость я, дурак, отрезал. Смонтировав картину, подумал, что эта новелла не нужна, что неверно ее снял. Мало того, что я ее отрезал, – отдал на смыв. Идиот!
Мне казалось, что картина с этим финалом разваливается. А, может быть, именно благодаря тому, что с черно-белым финалом другого стиля картина разваливалась, она могла бы стать явлением в кино того времени. Там был художественный ход, серьезный режиссерский замысел. Это не формальный прием, не игра со стилем, а разрушение одним содержанием другого. В этом суть, а не просто в поиске языка. Кишка оказалась тонка. Показалось, что картина слишком длинна, не хотелось осложнений с прокатом. Возобладал страх. Может быть, этот страх помешал мне сделать мои шедевры – страх переступить черту дозволенного. Все время я писал в своих дневниках: «Перешагнуть черту» – и никогда ее не переступал. Следовал здравому смыслу. Слишком много во мне его оказалось. А шедевры создаются тогда, когда о здравом смысле забываешь.






























