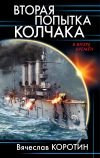Текст книги "Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память"

Автор книги: Андрей Кручинин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В твердой вере, что Господь Бог, творящий ныне Свой суд над народами, не оставит нас Своей помощью, пусть каждый почерпнет силы для бесповоротной решимости продолжать свою военную работу до конца, время которого мы не знаем, но который должен быть победой».
Даже если сам Колчак не всегда соответствовал предъявляемым здесь требованиям (он все-таки был слишком нетерпелив, порою до неуравновешенности), приказ этот демонстрирует глубокое понимание его автором особенностей службы, при которой военно-морские силы значительную часть времени находятся как бы в состоянии сжатой пружины, вне прямого соприкосновения с противником. Задача, поставленная Александром Васильевичем себе и своим подчиненным, в сущности сводится к тому, чтобы «пружина» не «деформировалась» в условиях мнимого бездействия, не утеряла «упругости» – боевого духа, профессионализма и строгой дисциплины, столь необходимых для успешного ведения боевых действий. Добавим к этому выраженное Колчаком в те же месяцы убеждение, что «основные черты воинского созерцания находят себе полное подтверждение в основаниях христианской религии», а «военный человек не может не быть человеком религиозным и верующим» (здесь нет тавтологии: Александру Васильевичу мало абстрактной веры деиста, фаталиста, агностика – речь идет именно о воплощении веры в конкретных формах религии; может быть, примерно о том же говорил во время войны и генерал Алексеев: «а я вот счастлив, что верю, и глубоко верю, в Бога и именно в Бога, а не в какую-то слепую и безличную судьбу»); добавим заботы адмирала о духовном окормлении и религиозном просвещении матросов и его требование, чтобы корабельный священник был «ближайшим помощником командира в деле воспитания всех чинов корабля», – и, думается, это обрисует нам в основных чертах взгляды Колчака на психологию военно-морской службы и ее духовное содержание.
А в связи с этим уместно задуматься и над следующим вопросом. Общим местом в рассуждениях о причинах и ходе Февральского мятежа 1917 года и кровавых событиях в Балтийском флоте стало указание на то, что матросы в условиях вынужденного зимнего бездействия оказывались подвержены антиправительственной агитации и в мятежные дни сыграли роль горючего и даже взрывчатого материала огромной силы. С другой стороны, Черноморский флот, как известно, сохранил душевное здоровье намного дольше; так уместно ли объяснять последнее обстоятельство только «климатическими» различиями (на Юге навигация, естественно, намного более продолжительна, а бездействие, соответственно, – короче), или здесь в какой-то мере сказались и понимание Командующим флотом Черного моря психологии своих подчиненных и забота о сохранении их духовного здоровья?
Но вернемся к летним месяцам 1916 года. В приведенных нами приказах Колчак не говорил вслух о планах, связанных с Босфором и подготовкой десанта, но офицеры Черноморского флота, конечно, понимали, к чему клонились предпринимаемые Командующим меры. А сущность этих мер, как и сомнения в их целесообразности, с которыми приходилось встречаться и для которых предстояло разрабатывать контраргументы, были позже подробно изложены адмиралом Смирновым:
«Существовало распространенное мнение, что минные заграждения, не обороненные постоянным присутствием вооруженной силы (кораблей, находящихся в море), могут быть без особого труда вытралены неприятелем, а так как вследствие удаленности нашей главной базы флота [ – ] Севастополя [ – ] на 260 миль от Босфора мы не можем постоянно держать достаточной силы в море у Босфора, то наше минное заграждение не может быть действительным. Кроме того, поставленные нами мины стеснят в будущем вход нашего флота в Босфор в тот момент, когда мы будем вести операцию по завладению Босфором, далее [ – ] наши мины стеснят действия наших же подводных лодок у Босфора, наконец, операции по постановке мин крайне рискованны и вызовут у нас большие потери, так как берега у Босфора укреплены сильными артиллерийскими батареями. Все эти соображения, конечно, имели значение, но рассуждения адмирала Колчака были таковы:
1) Ставить мины в таком большом количестве, чтобы неприятель не успевал их вытраливать. Для этого приспособить мелкосидящие суда, чтобы ставить мины на тех же местах, где они уже были поставлены раньше.
2) Весь флот разделить на две или три группы, чтобы одна группа судов постоянно держалась в море и наблюдала за Босфором.
3) Мины ставить возможно ближе к неприятельским берегам и ни в коем случае не дальше пяти миль от берега, чтобы не лишить себя возможности бомбардировать Босфорские укрепления с моря.
4) Опыт Дарданелльской операции англичан показал на невозможность прорыва флота через узкие проливы без содействия армии. Поэтому план овладения в будущем Босфором намечался следующий: высадить армию на побережьи Черного моря и завладеть укреплениями пролива с сухого пути, а затем уже вводить флот в пролив, после занятия укреплений с берега, когда очистка проходов в минном поле не представит для нас больших затруднений.
5) Никакой успех на войне не может быть достигнут без риска потерь».
Разумеется, и минные постановки у Босфора не остались в наши дни без внимания строгих критиков адмирала, которые, указывая на преувеличенность отзывов об их эффективности (случаи, когда противнику удавалось протралить проходы, все-таки имели место), кажется, склонны вообще подвергнуть сомнению целесообразность действий Колчака. Стоит, однако, прислушаться и к голосу противоположной стороны – тех, кто оценивал эту эффективность на собственном опыте, часто – весьма печальном.
«… Постановка минных заграждений у Босфора и Варны русскими морскими силами летом и осенью 1916 года явилась операцией во всех отношениях замечательной, – считает германский моряк. – … Их линии заграждений тянулись до самого очертания побережья вплотную к берегу, и новые ставились так близко от прежде поставленных, что ловкость, отчетливость и уверенность, с которой русские избегали своих же на малую глубину ранее поставленных мин, поистине достойна удивления». Постановкой на небольших глубинах восхищался впоследствии и другой офицер германо-турецкого флота: «Имея особый опыт в минном деле, русские ставили мины на глубинах в 180 метров (590 футов), что до тех пор считалось невозможным». Не будем приписывать отличную выучку черноморских минеров одному адмиралу Колчаку – как мы уже знаем, успешные минные операции производились и до него, – но, вне всякого сомнения, он с честью продолжил традиции своих предшественников и имеет полное право на лестную характеристику результатов этой работы, также принадлежащую противнику: «Вследствие неприятельской оградительной деятельности большие корабли были вынуждены к бездействию».
С не меньшим энтузиазмом – хочется сказать даже «азартом» – подошел Колчак и к подготовке десанта на Босфоре, для чего в Севастополе предстояло сформировать особую дивизию (подобные формирования предполагалось осуществить и на Балтике, дабы затем перебросить их на Юг). Свои трудности, и немалые, были и здесь: для перевозки необходимого количества войск, артиллерии, обозов явно не хватало тоннажа. В начале августа, когда планы десанта были еще более крупномасштабными (6 дивизий, 6 артиллерийских бригад и 3 артиллерийских парка), Колчак, сделав соответствующие расчеты, показал Ставке, что перевезти такие силы в два приема можно было только отказавшись от транспортных рейсов, которыми снабжалась Кавказская армия. Пойти на это, разумеется, никто не мог, и адмирал обуславливал возможность десанта рядом требований, в том числе мобилизацией частных барж и парусников для каботажных перевозок у кавказского побережья, постройкой большого числа десантных плавучих средств (барж, ботов, судов типа «Эльпидифор»), наконец, завершением строительства железной дороги и шоссе Батум – Трапезунд и переносом центра тяжести грузовых перевозок на сухопутные линии. Очевидно, что все это откладывало вопрос о Босфорской операции по меньшей мере до весны 1917 года, да и Черноморская дивизия, которой предстояло играть в нем решающую роль, начала свое формирование лишь в октябре.
Идеологи десанта рисовали себе эту дивизию исключительно в радужных тонах. Командир одного из ее полков вспоминал: «Штаты были самые современные – на основании богатого опыта войны, командиры полков намечены исключительно георгиевские кавалеры, командиры баталионов – штаб-офицеры, имеющие не менее шести орденских боевых наград, ротные командиры – кадровые офицеры с фронта, унтер-офицеры – кавалеры нескольких Георгиевских крестов и, наконец, состав солдат – исключительно из гвардии и отборных матросов». Для укомплектования дивизии требовалось около трехсот офицеров и около восемнадцати тысяч нижних чинов.
Колчак, которому на Балтике так и не разрешили произвести ни одного крупномасштабного десанта, явно жаждал испробовать этот вид боевых действий на новом месте, тем более что решаемая задача – захват Проливов и Константинополя – теперь представлялась ему такой заманчивой! «Мы создадим настоящую морскую пехоту, лихую и знающую дессантное дело», – вспоминает современник слова адмирала. – «… По согласию Ставки скоро прибудут в дивизию пятнадцать тысяч гвардейцев, также японские ружья, пулеметы, бомбометы и траншейные орудия. Боевое крещение я думаю дать сначала на фланге кавказской армии, где огнем судов мы приготовим плацдарм, а затем… – наша дивизия соединится с Балтийской, образуется морской дессантный корпус, и он откроет ворота Константинополя…»
Все, однако, складывалось далеко не так легко и красиво: «Как всегда, на требование лучшего командиры частей и кораблей (которые должны были выделять пополнения для дивизии. – А.К.) присылали таких людей, от которых хотели отделаться. Офицеры с фронта прибыли хотя и с боевыми отличиями, но в массе такие отпетые алкоголики, что безудержные скандалы стали хроническим явлением жизни в Севастополе…» Не лучшим оказался и контингент, присланный из запасных батальонов Гвардии (тех самых запасных батальонов, которые вскоре так легко пойдут на мятеж в Петрограде, одержимые одним стремлением – как бы не попасть на фронт!). 20 февраля 1917 года Колчак вновь формулировал свои требования к будущей операции, теперь сосредотачиваясь на составе десантных войск: «В состав десантного отряда назначаются войска лучшего качества с испытанными боевыми начальниками, безусловно целые организационные единицы, но никак не сборные[27]27
Всюду в цитате – курсив А. В. Колчака.
[Закрыть]. Непременным условием должно быть богатое снабжение десантных войск артиллерией, пулеметами, техническими средствами и особенно средствами связи». Сложно сказать, насколько такие требования могли быть удовлетворены, но Колчак, кажется, предпочитал смотреть в будущее с оптимизмом и даже в конце апреля 1917 года еще считал некоторые из имевшихся в его распоряжении частей, несмотря на революционное разложение, пригодными для активных десантных операций (конечно, меньшего масштаба).
… В сентябре 1916 года петроградский журналист А.А.Пиленко, посетивший Севастополь, опубликовал статью о Колчаке, которую А.В.Тимирева сочла «банальной до грусти». Может быть, именно с ее легкой руки сейчас принято иронизировать над «жонглированием потертыми словесными штампами» в том очерке и над сравнением адмирала с Суворовым. Однако, если посмотреть на это сравнение непредвзято, оно вовсе не покажется надуманным или, тем более, «глупее глупого».
«В газетах уже появилось много статей о “стальном адмирале”, – пишет Пиленко, – и – я доподлинно это знаю – А.В.Колчак искренне негодовал на “вздорные россказни” (он при мне стучал по газете и грозил “написать в штаб, чтобы этого больше не разрешали”); поневоле ограничусь самым малым… Как я ни боюсь упреков в трафаретности, но не могу не сказать, что стремительная повадка адмирала и, в особенности, сразу врезывающийся в память профиль невольно и неудержимо напоминают мне Суворова: тот тоже был весь из нервов, захваченных железной рукой хладнокровия и отваги; у того, мне представляется, тоже было такое выражение, что, мол, это все пустяки, а я вот знаю суть дела. Как это соединяется с несомненною скромностью, почти застенчивостью, – я объяснить не умею».
Итак, «стальным» или не «стальным» был адмирал, походил он на Суворова или нет, – но «выражение, что, мол, это все пустяки, а я вот знаю суть дела», как и органическое неприятие Колчаком рекламы и самолюбования, думается, подмечены журналистом очень верно. Александр Васильевич знал себе цену, был уверен в своих силах, к каждому делу, за которое брался, подходил решительно и без колебаний… и, кажется, твердо верил в Бога и в свою звезду.
Обманывала ли его до сих пор эта последняя вера? Вряд ли – судьба пока была благосклонна к Колчаку, хотя никто не может сказать, что благосклонность не была им заслужена. Путь Александра Васильевича не только не был усыпан розами – адмирал знал и минуты сомнений, и разочарования, и неудачи, но они еще не были настолько сильны, чтобы надолго вывести Колчака из равновесия. Быть может, ему помогало его жизнелюбие и неудержимый, азартный интерес к самым различным областям человеческой деятельности. Мир был велик и удивителен, и в нем столь многое привлекало внимание и позволяло при неудаче в одном – обращаться к другому: от стратегического планирования – к кораблестроению, от думских дебатов – к полярным экспедициям… «Он прекрасно рассказывал, и о чем бы ни говорил – даже о прочитанной книге, – оставалось впечатление, что все это им пережито», – вспоминала А.В.Тимирева. Отголосок этого можем услышать и мы в письмах Александра Васильевича, поражавших «разнообразием предметов» – «от очередных операций до цветов… от Савонаролы до последних событий в Добрудже и до поклонения звездам», от холодного оружия до симфонических концертов, от полетов на гидроплане до миграций угря обыкновенного…
Наверное, этим же объясняется и жизнерадостный, по преимуществу оптимистический настрой Колчака в предреволюционные годы. «Никто не умеет веселиться так, как Вы, с такой торжественностью, забывая о времени, о пространстве и вообще обо всем на свете», – писала ему Анна Васильевна на Святках 1916 года, а десятилетия спустя вспоминала: «Он входил – и все кругом делалось как праздник; как он любил это слово!» Счастливая звезда сияла Колчаку – путешественнику, ученому, воину, – и лишь однажды она затмилась, как будто пророча грядущие трагедии.
7 октября 1916 года на Севастопольском рейде вследствие пожара, повлекшего детонацию части боеприпасов, затонул флагманский корабль Черноморского флота – дредноут «Императрица Мария». Предпринятые под личным руководством Колчака, прибывшего на горящий корабль, попытки потушить пламя не увенчались успехом. Жертвами катастрофы стали более трехсот человек из команды «Марии». Вопрос о причинах случившегося обсуждается до сих пор, причем в качестве объяснений предлагаются версии о самовозгорании пороховых зарядов, несчастной случайности, халатности матросов, которая якобы могла привести к короткому замыканию, наконец – о вражеской диверсии (последняя, разумеется, выглядит эффектно и выигрышно на фоне скучных бытовых и технических подробностей и в течение многих лет пользуется едва ли не наибольшей популярностью). Сам же Колчак терялся в догадках как в те дни, так и два года спустя; и в любом случае никакие версии, догадки, расследования не могли смягчить чудовищной силы удара, который обрушился тем осенним утром на Командующего флотом.
«Мое личное горе по поводу гибели лучшего корабля Черноморского флота так велико, что временами я сомневался в возможности с ним справиться, – писал Александр Васильевич морскому министру. – Я всегда думал о возможности потери корабля в военное время в море и готов к этому, но обстановка гибели корабля на рейде и в такой окончательной форме действительно ужасна. Самое тяжелое, чтó теперь осталось, и вероятно, надолго, если не навсегда, – это то, что действительных причин гибели корабля никто не знает и все сводится к одним предположениям. Самое лучшее было бы, если [бы] оказалось возможным установить злой умысел, по крайней мере было бы ясно, чтó следует предпринять, но этой уверенности нет, и никаких указаний на это не существует».
Несмотря на свои переживания, Александр Васильевич мужественно держался и не выпустил из рук командование флотом, но переживания были поистине ужасны. «Он замкнулся в себе, перестал есть, ни с кем не говорил, так что окружающие начали бояться за его рассудок. Об этом начальник его штаба немедленно сообщил по прямому проводу нам в Ставку», – вспоминает Бубнов, в те дни срочно командированный в Севастополь и заставший там адмирала уже в новом состоянии духа, «которое теперь начало выражаться в крайнем раздражении и гневе». Нарисованную Бубновым картину можно было бы посчитать преувеличенной (Смирнов, например, в своей биографии Колчака вообще обходит катастрофу молчанием), но об обратном свидетельствуют письма А.В.Тимиревой.
«Дорогой Александр Васильевич, Вы пишете: “Пожалейте меня, мне тяжело”»; «Вы говорите, что жалеете о том, что пережили гибель “Марии”»; «мне тяжело и больно видеть Ваше душевное состояние, даже почерк у Вас совсем изменился…» – не достаточно ли этих слов, чтобы почувствовать терзания адмирала? Не красноречивое ли свидетельство – просьба о жалости, исходящая от гордого Колчака? И разве не менее красноречиво говорит о состоянии Александра Васильевича тот кризис в его отношениях с Анной Васильевной, который разразился вскоре после гибели дредноута?
«Не знаю, жалость ли у меня в душе, – писала она 14 октября, после получения достоверных известий от самого Колчака, – но видит Бог, что, если бы я могла взять на себя хоть часть Вашего великого горя, облегчить его любой ценой, – я не стала бы долго думать над этим»; «если это что-нибудь значит для Вас, то знайте, дорогой Александр Васильевич, что в эти мрачные и тяжелые для Вас дни я неотступно думаю о Вас с глубокой нежностью и печалью, молюсь о Вас так горячо, как только могу, и все-таки верю, что за этим испытанием Господь опять пошлет Вам счастье, поможет и сохранит Вас для светлого будущего». Менее чем через неделю, после получения нового письма из Севастополя, Анна Васильевна убеждает: «Вы говорите о своем личном горе от потери “Марии”, я понимаю, что корабль можно любить, как человека, больше может быть даже, что потерять его безмерно тяжело, и не буду говорить Вам никаких ненужных утешений по этому поводу. Но этот, пусть самый дорогой и любимый, корабль у Вас не единственный, и если Вы, утратив его, потеряли большую силу, то тем больше силы понадобится Вам лично, чтобы с меньшими средствами господствовать над морем… Я знаю, что все это легко говорить и бесконечно трудно пересилить свое горе и бодро смотреть вперед, но Вы это можете, Александр Васильевич, я верю в это, или совсем не знаю Вас»; «Вы пишете, что Вам хотелось когда-нибудь увидеть меня на палубе “Марии”; сколько раз я сама думала об этом, но если этому не суждено было быть, то я все-таки надеюсь встретиться с Вами когда-нибудь – для встречи у нас остался еще весь Божий мир, и где бы это ни было, я увижу Вас с такой же глубокой радостью, как и всегда». В какой-то момент ей показалось, что самый опасный для Колчака период остался позади: «Дорогой Александр Васильевич, – говорится в письме от 23 октября, – сегодня получила Ваше письмо от 18-го и прочла его с большой радостью. Вы пишете мне об очень печальных вещах, Александр Васильевич, но я вижу, что Вам легче, что Вы думаете о будущем, строите планы, и я бесконечно рада этому». Однако вслед за этим в переписке наступила пауза, а письмо Тимиревой Колчаку от 9 ноября определенно свидетельствует о каком-то новом надломе в душе адмирала.
«… Сегодня получила наконец после долгого ожидания письмо от Вас, глубоко огорчившее меня, – пишет Анна Васильевна. – Оно жестко, холодно и просто враждебно по отношению ко мне, – но это все ничего, у меня нет ни горечи, ни обиды, мне только бесконечно больно видеть Вас в таком состоянии полной безнадежности. Вашей виновности, о которой Вы говорите мне не первый раз, я не признаю. Если Вы ответственны за все, что происходит под Вашим командованием, это еще не значит, что во всех несчастьях лично Вы виноваты, тем более в тех, где помочь Вы фактически не имели возможности… Вы пишете, что сознательно отказываетесь от моего отношения к Вам и моих писем; я на это скажу, что только от моих писем Вы можете отказаться, если Вам тяжело и неприятно их получать и Вы действительно хотите забыть меня совсем[28]28
Выделено А. В. Тимиревой.
[Закрыть] – скажите слово, и я никогда не напомню Вам о себе больше. Но думать о Вас по-прежнему с неизменной нежностью и постоянной тревогой за Вас – этому помешать не в Вашей власти. Вы говорите: “В несчастьи я считаю лучше остаться одним”. Александр Васильевич милый, неужели правда мое внимание и ласка так неприятны Вам, что Вы хотите совсем оттолкнуть меня. Я так далека от Вас, и мне абсолютно ничего от Вас не надо – неужели все-таки я Вам в тягость?
Меня мучит мысль, что я могла чем-нибудь огорчить Вас в последних письмах, что Вы говорите со мной так враждебно; но Вы же знаете, Александр Васильевич, что ни за что на свете я не хотела бы сделать Вам больно, если же Вам было что-нибудь неприятно в них – простите мне невольную вину. Возражать Вам на тему о том, чего Вы достойны и чего нет – я не буду; скажу только, что Вы всегда высоко стояли в моих мыслях, и я не знаю за Вами поступка, который ронял бы Вас в моих глазах. Несчастье есть несчастье, если его невозможно предотвратить, а не вина и не “позорное деяние”, как Вы говорите. И я совсем не судья Вам, а только очень большой и верный друг, и право же, Александр Васильевич милый, совсем не заслужила, чтобы Вы так холодно отстраняли меня от себя. Это совсем не упрек, ведь я знаю, как трудно, как тяжело Вам теперь, Вы могли бы говорить мне все что угодно – я не в состоянии поставить Вам в вину ничего. Желаете ли Вы этого или нет, мое отношение к Вам остается неизменным. До свидания, друг мой, дорогой Александр Васильевич. Пусть Господь сохранит Вас и пошлет Вам мир душевный. Я же помню и молюсь за Вас как всегда…»
Похоже, Тимирева не очень понимала, что происходит с адмиралом. Еще раньше она услышала в его словах нотки какого-то мистического страха («Вы говорите о расплате за счастье – это очень тяжелая расплата, не соответст[вующая] тому, за что приходится платить. Будем думать, Александр Васильевич милый, что это жертва судьбе надолго вперед и что вслед за этим ужасом и горем будут более светлые дни») и прочла нечто, ее глубоко поразившее: «Вы пишете о том, что Ваше несчастье должно возбуждать что-то вроде презрения, почему, я не понимаю. Кроме самого нежного участия, самого глубокого сострадания я ничего не нахожу в своем сердце… Кроме ласки, внимания и радости я никогда ничего не видела от Вас, милый Александр Васильевич; неужели же правда Вы считаете меня настолько бессердечной, чтобы я была в состоянии отвернуться от самого дорогого моего друга только потому, что на его долю выпало большое несчастье?» Буквальное, а возможно, и неверное прочтение каких-то слов Колчака, которых мы не знаем, должно было повергнуть Анну Васильевну в подлинное смятение, и стоит только подивиться ее самообладанию, чуткости и заботливому такту. Очевидно, в первый раз она невольно допустила в сильном и умном Колчаке такой недостаток великодушия, который заставил бы его заподозрить любимую женщину в способности «отвернуться» от флотоводца, подвергшегося удару судьбы.
Той же логикой руководствуются и современные авторы, категорически утверждая: «Профессия настолько захватила адмирала, что в музыке он признавал только героическое, сведения о цветоводстве черпал из истории войн, а свои отношения с женщинами строил, исходя из принципа, что любви достоин только воин-победитель». Опираясь, должно быть, на слова Бубнова («Со свойственным ему возвышенным пониманием своего начальнического долга он считал себя ответственным за все, что происходило на флоте под его командой, и потому приписывал своему недосмотру гибель этого броненосца, хотя на самом деле тут ни малейшей вины его не было»), другой исследователь говорит о «комплексе вины», мешавшем Александру Васильевичу «жить и полноценно исполнять свои обязанности», – как будто не обращая внимания, что в такой степени «комплекс» уже становится близок к помешательству, которое вряд ли можно было «стряхнуть», «придя в себя». И хотя окончательного ответа и полностью достоверной реконструкции здесь дать, конечно, нельзя, – стоит задуматься, какие предположения о душевном состоянии и даже мировоззрении Колчака было бы все-таки допустимо сделать?
Не будем пытаться дать однозначное объяснение. Среди факторов, оказывавших влияние на Александра Васильевича, не следует отбрасывать даже сознания объективной, а не надуманной вины или хотя бы провинности, коль скоро среди вероятных причин пожара на «Императрице Марии» было и бытовое разгильдяйство матросов, а сам Колчак в поданной 4 ноября записке писал об обилии на флоте молодых неопытных мичманов и связанном с этим «полном отсутствии авторитета и влияния офицеров на команду, создающем крайне серьезное положение на многих судах в отношении воспитания и духа команды» (сравним также мнение адмирала Григоровича, высказанное в письме Колчаку от 18 ноября: «… установившийся на этом корабле порядок службы и те грубые отступления от требований Морского устава, которые и Ваше превосходительство усмотрели по этому делу, могли не только обусловить собой возможность катастрофы… но и приблизить ее наступление, если таковая была неизбежной»). Сложно сказать, насколько такое положение вообще могло быть исправлено за неполных три месяца пребывания Александра Васильевича на посту Командующего (а Григорович писал ему 7 ноября: «Должен искренне и прямо Вам сказать, что никогда и ни у кого не было и мысли считать Вас ответственным за эту катастрофу. Не дело командующего флотом входить в детали службы отдельного корабля, у командующего флотом гораздо более ответственное дело, служба на корабле, его порядок – это дело командира…»); но обостренное чувство своей ответственности за ненормальный разрыв между офицерами и нижними чинами вполне похоже на щепетильного Колчака.
Не будем полностью отвергать и правомочность буквального прочтения Тимиревой того самого неизвестного нам письма Александра Васильевича. Более чем через год в одном из его черновиков вновь встречается упоминание о «каком-то чувстве, похожем на стыд, чувстве боязни вызвать у Вас презрительное сожаление или что-то похожее на это»; такая боязнь, конечно, была несправедливой, а может быть, и оскорбительной по отношению к Анне Васильевне, – но подобные эмоции редко анализируются человеком с рациональной точки зрения, да и сами они, как видно, далеко не были столь несправедливо простыми. Не случайно в процитированной фразе стыд стоит раньше боязни, ощущение собственного несоответствия самим же заданному высокому уровню – впереди опасений, что «сожаление» любимой женщины будет носить оттенок «презрения».
Но не забудем и еще об одном. Два с лишним года войны, на которой он почти всегда выступал в роли руководителя, до некоторой степени – хозяина человеческих судеб и жизней, скорее всего, просто не могли не усилить «милитаристской» составляющей в мировоззрении Колчака. В нем уже появляется «какое-то чувство, похожее на веру в индивидуальность военного начала», «индивидуальность войны». Это «индивидуальное начало» жестоко и несправедливо, но адмирал принимает и соглашается с его жестокостью, быть может, так же, как он принял бы жестокость бушующей стихии – как данность окружающего мира, посланную для испытания сил человека. «… Виноват тот, – напишет он впоследствии, подчеркивая слово „виноват“, – с кем случается несчастье, если даже он юридически и морально ни в чем не виноват. Война не присяжный поверенный, война не руководствуется уложением о наказаниях, она выше человеческой справедливости, ее правосудие не всегда понятно, она признает только победу, счастье, успех, удачу, – она презирает и издевается над несчастьем, страданием, горем, – “горе побежденным” – вот ее первый символ веры».
И в октябрьские дни 1916 года адмирал Колчак, должно быть, впервые ощутил на себе несправедливость этого правосудия. Сразу заметим, что оно действительно ближе к буйству слепой стихии или неотвратимой бессмыслице античного рока, чем к Христианской идее Промысла, – хотя и пути Промысла сокрыты от человеческих взоров. Колчак как будто попал под огонь противника, под удары Зевсовых молний, – или посчитал, что находится в таком положении. И более года спустя он напишет в черновике письма Анне Васильевне (и мы никогда не узнаем, попадет ли это в беловой вариант) еще об одной боязни – «боязни, чтобы даже тень или что-либо, имеющее отношение к моему несчастью, не могло бы коснуться того, что мне было самым дорогим, самым лучшим, – Вашего отношения ко мне».
И тогда уже кажется правдоподобным, что «жесткое и холодное» письмо Александра Васильевича, как и его декларированное стремление «остаться одному», действительно было сознательным – если и не разрывом, то отдалением от Тимиревой, но отдалением, вызванным вовсе не раскаяниями в собственной «слабости» (современные авторы высказывают догадку, будто Анна Васильевна «больше всего… боялась, что, выйдя из кризиса, он не простит себе проявленной слабости, о которой знает близкий ему человек, и это приведет к разрыву»). Адмирал Колчак был достаточно сильным человеком, чтобы позволить себе такую слабость; и, как сильный человек, он предпочел страдать («Были дни, когда я был близок к отчаянию и когда я желал забыть Вас, но результат получался совершенно обратный – это было очень больно, а боль и страдания совсем не способствуют забвению…»), чтобы не подвергнуть и ее тем ударам мистической силы, которые он принимал на себя, будучи воином, и «правоту несправедливости» которых был готов признать – но опять-таки только для себя лично.
А после этого вряд ли стоит придавать повышенное значение каким бы то ни было внешним влияниям. Без сомнения, нельзя недооценить поддержку, которую Колчак получил от Государя – как сразу после катастрофы (Император телеграфировал в Севастополь: «Скорблю о тяжелой потере, но твердо уверен, что Вы и доблестный Черноморский флот мужественно перенесете это испытание»), так и несколько позже, когда прибывший в штаб флота Бубнов передал адмиралу «милостивые слова Государя» («Государь приказал… передать А.В.Колчаку, что он никакой вины за ним в гибели “Императрицы Марии” не видит, относится к нему с неизменным благоволением и повелевает ему спокойно продолжать свое командование»). Не забудем и письмо адмиралу от Архиепископа Таврического и Симферопольского Димитрия и Епископа Севастопольского Сильвестра: «Вместе с Вами безмерно скорбим и мы, наш дорогой отважный вождь, и, братски обнимая Вас, вслед за святым Христовым Апостолом громко говорим Вам: “Мужайтесь и да крепится сердце Ваше”… Проявите же и ныне присущие Вам славное мужество и непоколебимую твердость. Посмотрите на совершившееся прямо как на гнев Божий, поражающий не Вас одного, а всех нас – Его, Творца и Промыслителя, русских чад, и, оградив себя крестным знамением, скажите: “Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно Имя Его во веки”»; «храните же себя, наш любимый вождь, и да пошлет свыше Отец наш небесный каплю благодатной росы Своей для попаления возгоревшегося в неповинном сердце Вашем жестокого огня печали»; «не печальтесь же, наш родной вождь, Господа ради не забывайте, что весь народ Вас любит и верит в Вас, Вы принадлежите не себе, а всему русскому народу, посему Вы обязаны хранить свою жизнь, свое здоровье. Все это говорим мы Вам как епископы Божьей Церкви, выразители совести Богом и Царем вверенной[29]29
В публикации – «вверенного».
[Закрыть] нашему духовному руководительству части русского народа» (7 октября). Справедлива и сегодняшняя оценка писем Тимиревой: «… Проявив чуткость и такт, не задевая его самолюбия и при этом сохраняя выдержку и хладнокровие, Анна Васильевна сумела найти такие слова утешения, которые смогли восстановить в адмирале утраченную веру в себя». И все-таки размышления, «чьи слова подействовали сильнее, Николая II или Анны Васильевны», кажутся нам праздными. В той мучительной борьбе, которую вынес адмирал Колчак в октябре – ноябре 1916 года, он сознательно остался один на один со своим невидимым противником, и никто никогда не скажет, чего стоила ему эта борьба; единственная же поддержка, которая могла оказаться в те дни действенной, исходила не из писем и телеграмм: помочь адмиралу могли только те, кто молился за воина Александра. И воин выстоял.