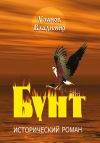Текст книги "Пугачевщина. За волю и справедливость!"

Автор книги: Андрей Куренышев
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Пугачевщина. За волю и справедливость!
сост. Колпакдиди А. И.
© Колпакиди А. И., сост., 2023
© ООО «Издательство Родина», 2023
* * *
Виктор Яковлевич Мауль
Тюменский индустриальный университет, Нижневартовск, Россия
Емельян Иванович Пугачев: путь от донского казака до «царя-батюшки»[1]1
Статья представляет собой актуализированную и переработанную версию ранних публикаций автора. См.: Мауль В.Я. Емельян Пугачев: восхождение личности в социокультурном контексте переходной эпохи // Казачество России: прошлое и настоящее. Ростов-на-Дону, 2006. Вып. 1. С. 237–251; Мауль В.Я. Архетипы русского бунта XVIII столетия // Русский бунт. М., 2007. С. 280–296, 317–330.
[Закрыть]
В сентябре 2023 года исполнится 250 лет с начала крупнейшего в дореволюционной России народного бунта под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева. Осенью 1773 г. под именем императора Петра III он приобрел первых сторонников среди яицких казаков, а вскоре возглавил борьбу десятков тысяч подневольных людей разной социальной и национальной принадлежности против самодержавно-крепостнического гнета. И хотя бунт обернулся поражением и жестокой расправой над его вождями и рядовыми участниками, Пугачев навсегда вписал себя и свои дела в героические анналы истории.
Колоссальный размах движения и его потенциальная опасность для правящего режима сразу обратили на себя взоры не только потрясенных соотечественников, но и многих иностранных современников [10, с. 181–189]. Стремление власть предержащих понять причины и смысл грозных событий, чтобы, по возможности, исключить их повторения впредь, обусловило необходимость проведения тщательного официального следствия по делу Пугачева и пугачевцев, оставившего нам много бесценных документов [14]. Неудивительно и то, что незаурядностью сюжетных коллизий пугачевский бунт с тех пор и поныне привлекает пристальное внимание отечественных и зарубежных ученых и мастеров изящной словесности, чьими стараниями история пугачевщины в разных форматах и с разной степенью подробности была донесена до заинтересованных читателей.

Пугачев. С гравюры неизвестного мастера. Гос. музей изобразительных искусств
Среди лучших примеров недавних изданий приведу книгу Е. Н. Трефилова «Пугачев», вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей» и отразившую новейшие тенденции в изучении пугачевской темы [26]. Появление такой качественной работы было тем более своевременным, что в постсоветский период в адрес великого бунтовщика обрушился буквально шквал умопомрачительной критики, демонстрирующий своеобразный психоз определенной части пишущей братии. В едином порыве безудержной демонизации Пугачева реанимировались и существенно приумножились, казалось бы, давно отброшенные в «сорную корзину истории» и без того крайне негативные суждения дореволюционных предшественников.
Вспоминается десятилетней давности посещение широко разрекламированной СМИ выставки в Манеже, посвященной 400-летию царской династии Романовых. Технологически безупречно обставленная, она, тем не менее, произвела удручающее впечатление предвзятостью трактовок тех страниц прошлого, что не совпадают с догматами православно-монархического историцизма. Среди исторических персонажей, которым особенно не повезло на похвалы организаторов, числился и донской казак Емельян Пугачев. Для полноты впечатления без купюр процитирую взятый со слайдов экспозиции одиозный текст о нем: «Самозванец, предводитель бунта и широкомасштабных грабежей в Поволжье и Южном Урале. В 1771 году дезертировал из армии, стал бродяжничать и заниматься разбоем. Несколько раз попадал под арест, но совершал побеги. В 1772 году был приговорен к каторге. Но бежал, создал шайку, приняв имя императора Петра III. В манифесте «император Петр Федорович» призывал казнить Екатерину II как «неверную жену». В 1773 году многочисленные отряды пугачевцев занимались разбоем на огромной территории от Урала до Волги. Одно имя Пугачева вызывало неподдельный страх среди населения. Политика «императора» была проста: «Семейства крестьянские, престарелых, малолетних и женский пол гнать за своей толпой, а заводские и крестьянские строения выжечь». Большинство соратников Пугачева не интересовало, настоящий он царь или нет. Главное, что он разрешил им безнаказанно грабить и убивать. Главным финансовым обеспечением «армии» самозванца были не только многочисленные грабежи, но и продажа русских людей на невольничьих рынках Востока. Турция, которая в это время воевала с Россией, охотно приобретала русских рабов. После безуспешной осады Оренбурга Пугачев двинулся на Волгу и взял Казань. Пугачевцы насиловали женщин и убивали мужчин, включая стариков и детей. В Казани они находились всего один день, но успели в пьяной вакханалии полностью разграбить и сжечь город. В знак солидарности с пострадавшим населением Казанской губернии императрица Екатерина II объявила себя казанской помещицей, что вызвало глумление в европейских газетах. В связи с размахом пугачевского восстания правительство вынуждено спешно заключить мир с турками и перебросить в Поволжье армию. Преследуемый правительственными войсками Пугачев двинулся вниз по Волге. Он бежал – «но бегство его казалось нашествием» (Пушкин). Повстанцы потерпели крупное поражение под Царицыном. В сентябре 1774 года Пугачев был выдан своими соратниками властям и доставлен в Москву в клетке. Суд приговорил его к четвертованию».
Что ж, отбросив извинительную после такой характеристики брезгливость к пасквилянтам от истории, противопоставить натиску огульного очернительства можно лишь взвешенное, опирающееся на исторические источники научное исследование жизненного пути народного героя. При этом надо помнить о недопустимости подходить к реконструкции минувших событий с аксиологическими и морально-этическими мерками нашей новейшей эпохи. Адекватный взгляд в прошлое возможен только с учетом культурного контекста изучаемого периода. Цель статьи заключается не в пересказе хорошо изученного событийного ряда пугачевского бунта от его возникновения до подавления правительственными войсками, но в намерении выявить и проанализировать узловые вехи «карьерного роста» Пугачева, прошедшего удивительный путь от донского казака до народного «царя-батюшки».
Жизнь Пугачева разворачивалась на фоне болезненно переживавшегося страной кризиса традиционной идентичности. Еще с петровских времен намеченный властями вектор перемен обусловил переходное состояние русского общества от «преданья старины глубокой» к тотальному заимствованию западноевропейских технологий и незнакомых прежде инноваций. Затеянную верхами «революцию сверху» приходилось осуществлять насильно, через навязывание чужих для страны культурных ценностей, поскольку почва для них не была подготовлена органичным развитием российской истории. Остро ощущаемые симптомы кризиса обнаруживали себя в усилении экономической кабалы общественных низов, их полной политико-правовой недееспособности и невозможности легально выразить недовольство – «выпустить пар». Иными словами, в тогдашних условиях не сформировались компенсаторские механизмы мирного снятия социального напряжения, а потому отстоять право на достойное существование можно было только взявшись за оружие. В ситуации антагонистического конфликта, когда привычный мир человека рушился буквально на глазах, идеализация святой старины становилась единственным психологическим прибежищем от давления бездушной государственной машины. Игнорируя любые резоны простонародья, она под прикрытием законов, как в жерновах, методично перемалывала людские судьбы, играя ими, словно марионетками. Неизбежное в такой ситуации эмоциональное брожение грозило в любую минуту выплеснуться на поверхность жизни мутной пеной грозного русского бунта.
Избрав бунт главным средством защиты родных устоев, традиционная культура искала индивидуальные формы спасения от угрозы распада привычных структур повседневности. Нужен был человек, который не просто бы встал во главе общественного протеста, но, идейно слившись с массами, мог выразить их интересы и повести за собой. Таким человеком оказался донской казак Пугачев, и этот выбор истории едва ли можно считать случайным стечением обстоятельств. Переходная по своей культурной сути эпоха неизбежно должна была породить соответствующую времени личность, способную выразить назревшую историческую потребность, но сделать это по-своему, наложить на нее личностный отпечаток. «Бунтарская идеология Пугачева складывалась постепенно, – подчеркивал С. М. Троицкий. – К мысли назваться Петром III и от его имени поднять народное восстание он пришел не сразу» [27, с. 143]. Необходимо понять, как мог простой казак решиться на заведомую опасную авантюру, и почему из всех многочисленных претендентов именно ему удалось наиболее достоверно сыграть роль «царя-батюшки», суметь «докричаться до народа».
Для этого имелись весомые предпосылки, заключавшиеся в наличии у Пугачева харизматического дара, менее выраженного или вовсе отсутствовавшего у прочих самозваных Петров III. В нем прочно укоренились базисные черты православного человека («греческого исповедания кафолической веры»), чуткая боль к народным страданиям («жаль де мне очень бедного простого народа») и интуитивное стремление затормозить перемены, вернуть страну в традиционное русло, например, «оставить казаков на таком основании, как деды и отцы войска Донского служили» [16, с. 100; 6, с. 56, 59]. К этому добавлялась готовность использовать новые средства достижения цели, завуалировав их под традиционной оболочкой. Не последнюю роль играло наличие высокой самооценки, как правило, не соответствовавшей его реальному статусу.
Надо заметить, что психологический склад донских казаков отражал специфику их повседневного существования. Важной особенностью их менталитета было стремление сравняться с дворянами, стать с ними на один уровень. Казаки гордились не только тем, что над ними нет господ, но и тем, что сами стоят выше тяглых людей. Судя по всему, они искренне отождествляли свою жизнь с «волей», обладали незаурядной воинской выучкой и достаточно широким кругозором. Поскольку детство и юность Пугачева прошли на Дону, он сызмальства усвоил типичные качества донских казаков: патриотизм, монархизм, православную религиозность при склонности к дохристианским суевериям, ненависть к врагу, но в тоже время – полную терпимость в своей среде к людям нерусской этнической и нехристианской религиозной принадлежности. Как и всем казакам, Пугачеву с детства прививалась преданность войсковому братству, любовь к свободе, беззаветная храбрость и стойкость в бою, умение стойко переносить тяготы и лишения, высокая социальная мобильность, легкость на подъем, привычка и способность к активным действиям. Эту выносливость и несгибаемость воли он пронес через всю жизнь [11, с. 432–448; 29, с. 45].
Вероятно, Пугачев, подобно своим землякам, рос в убеждении, что историческая роль казачества состоит в защите православной христианской веры, Российского государства, государя и народа от «бусурман» и «изменников». Но выработанные вековым опытом каноны казачьего мышления и поведения не совпадали с императивами переходной эпохи, подвергавшей их эрозии. Родное и знакомое к середине XVIII в. по существу переставали быть тем же самым или похожим на прежнее. Наступление государства на права вольного казачества разрушало старинный идеал гармонии на Дону. Пугачеву неоднократно доводилось выслушивать жалобы о том, как казаков «хотят обучать ныне по-гусарски, и всяким регулярным военным подвигам ‹…› У нас де много уже и переменено, старшин де у нас уже нет, а названы вместо оных ротмистры» [6, с. 59]. Он узнавал от собеседников о великих обидах казакам: «Наши командиры нас де бьют и гоняют, жалованье наше затаивают, – и, тому уже шесть лет, государыня де наше жалованье жалует, а они, незнамо куда, употребляют. И сколько тепереча уже перебито и померло наших козаков! А кто де только о жалованье станет говорить, то сажают под караул без государева указу и в ссылки разсылают, и государыня де о том не знает. И своих командиров выбирают: у нас де прежде сего не было пятидесятников, а теперь де и оные завелись; так мы де теперь и опасны, – прежде де в сотне-та был один сотник, а ныне де все новое» [18, с. 129]. Надо понимать, что не только фольклорные утопии, но и суровая проза жизни становились его учителями. Неслучайно, биография Пугачева изобиловала многими метаморфозами, не характерными для традиционного общества. В то время как старый порядок предполагал прикрепление человека к определенному социальному статусу, Пугачеву неоднократно приходилось его менять. В течение своей «карьеры» он успел сыграть немало ролей: начав с рядового казака и побыв казачьим сотником, беглецом, «старообрядцем», «купцом», в конце концов, примерил «наряд» императора. Частая перемена социальной «одежды» отражала системный кризис общества, проявлявшийся на индивидуальном уровне как поиск личной идентичности.
Родился Емельян Пугачев около 1742 г. в казачьей семье в Зимовейской станице на Дону, и «до семнадцатилетнего возраста жил я все при отце своем так, как и другия казачьи малолетки в праздности» [4, с. 132]. Но настолько уж прихотливы «капризы» госпожи Клио, что Пугачев и вождь мощного народного движения XVII в. С. Т. Разин оказались земляками[2]2
В историографии есть разные мнения о месте рождения Степана Разина, но «зимовейская версия» все же «является преобладающей, хотя, как и все прочие, она не подкреплена источниками» (Сень Д.В. Народное движение под предводительством С.Т. Разина в историографии середины 1990-х – 2000-х гг. (новый этап изучения или «тема закрыта»?) // Историческая экспертиза. 2021. № 3. С. 71).
[Закрыть]. «И трудно представить, – справедливо отмечал А. С. Мыльников, – чтобы Е. И. Пугачев сызмальства не слыхал о своем знаменитом предшественнике, чье имя прочно вошло в фольклор, часто сливаясь с именем Ермака» [12, с. 282]. А, услышав, возможно, не раз завидовал его громкой славе, в мечтах возносился еще выше: уже не Разин, а он сам мысленно бросал своим «работничкам» знаменитый клич: «Сарынь на кичку». И хотя неизвестно, играли на Дону в «Стеньку Разина», или нет, такое предположение вполне допустимо. Как сообщают биографы Пугачева, с детства «он отличался смелым и решительным характером, выступал заводилой среди сверстников, верховодил ими», нередко «проявлял крутой нрав, строптивость, любил командовать» [2, с. 7]. Точь-в-точь как его выдающийся земляк, «малейшему знаку» которого «повиновались ‹…› и были ему верны, как если бы он был самым великим монархом в мире» [24, с. 366]. Однако в течение длительного времени у Пугачева, от рождения имевшего деятельную натуру и взрывной темперамент, не было иных, кроме детских игр, выходов для кипучей энергии. Тем не менее, уже в раннем возрасте он проявлял несомненное честолюбие, стремился обратить на себя внимание окружающих и стать лидером не в фантастических грезах, а в реальных отношениях с другими людьми. Вероятно, фольклорный образ Стеньки Разина на годы вперед стал для него тем идеалом, по которому Пугачев «измерял» каждый свой шаг.
После смерти отца, непоседливый, шаловливый мальчишка сразу повзрослел, превратился в самостоятельного домохозяина со своим участком земли. В семнадцать лет женился на казачьей дочери Софье Недюжевой, став главой семьи. Вскоре после свадьбы его призвали на службу «в пруской поход», а позже в 1769–1770 гг. он воевал с турками и за храбрость был произведен в хорунжие, командовал казачьей сотней. Начиналась типичная для казака карьера, и дальнейший путь Пугачева, казалось, был предопределен традицией. Участие в заграничных походах существенно расцвечивало «картину мира», несмотря на молодость, обогащало солидным жизненным опытом. Вернувшись домой со славой, он, наверняка, заслужил бы почет, став уважаемым на Дону казаком, к мнению которого станичники внимательно прислушиваются. Этим могли быть удовлетворены его лидерские амбиции, а личное счастье обретено в семейном благополучии (он уже имел трех детей). Со временем обзавелся бы имуществом и достатком.
Так могло быть прежде, но этого не произошло сейчас. Смятение эпохи сказалось на свойствах характера будущего народного героя: «В Пугачеве сильно представлен беспокойный, бродяжий, пылкий дух и, сверх того, артистический дар, склонность к игре, авантюре. Пугачев играл великую отчаянную трагическую игру, где ставка была простая: жизнь», – заметил Н. Я. Эйдельман. Поэтому царская служба ему быстро надоела, «захотелось воли», – домысливал историк тогдашние намерения Пугачева, – да тут еще ««весьма заболел» – «гнили руки и ноги», чуть не помер[3]3
Н.Я. Эйдельман, как и большинство историков, изрядно преувеличил опасность, значение и последствия пугачевского недомогания. См.: Мауль В.Я. Загадка болезни Е.И. Пугачева (об одном казусе из предыстории русского бунта XVIII столетия) // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 382. C. 113–118.
[Закрыть]. Шел 1771 год. До начала великой крестьянской войны остается два года с небольшим; но будущие участники и завтрашний вождь, конечно, и во сне не могли ничего подобного вообразить ‹…› Если б одолела болезнь Пугачева – как знать, нашелся бы в ту же пору равный ему «зажигальщик»? А если б сразу не объявился, хотя бы несколькими годами позже, – неизвестно, что произошло бы за этот срок; возможно, многие пласты истории легли бы не так, в ином виде, и восстание тогда задержалось бы или совсем не началось. Вот сколь важной была для судеб империи хворость малозаметного казака» [31, с. 99].
Для понимания особенностей реализации пугачевской самооценки симптоматичен известный казус под Бендерами во время одного из военных походов. У Пугачева была, очевидно, хорошая сабля. Зная, что оружие даруется «от государей в награждение за заслуги», он попытался уверить сослуживцев, будто «сабля ему пожалована потому, что он – крестник государя Петра Первого», умершего в 1725 г., за семнадцать лет до появления на свет Пугачева. «Слух сей пронеся между казаков и дошел до полковника Ефима Кутейникова, но, однакож, не поставили ему сие слово в преступление, а только смеялись». Данный пример показывает, что и на войне, Пугачев стремился не быть в числе последних, «произвесть в себе отличность от других». Он, как и в детстве, пытался демонстрировать «особость», выделиться из общей массы, но пока был готов терпеть насмешливый хохот боевых товарищей [6, с. 120].
Событие, которое могло усугубить кризис личной идентичности, произошло во время Семилетней войны. По распоряжению командира Пугачева подвергли телесному наказанию. Позднее он объяснял, что «состоят-де на спине у него знаки ‹…› от того, что он, Пугачев, жестоко бит был казацкими плетьми во время бывшей Пруской войны, под местечком Кривиллы, по приказанию казачьего полковника Ильи Денисова, за потеряние им, Пугачевым, его, Денисова, собственной лошади» [6, с. 241]. Несомненно, эта жестокость, воспринятая как несправедливость, запали в душу горячего и вольнолюбивого казака. Произошло столкновение двух установок – представлений Пугачева о самом себе, его ожиданий, честолюбивых помыслов с суровой реальностью, мало совпадавшей с высокой самооценкой. Не будь ее, побои (кстати, не последние в жизни) едва ли произвели бы на него большое впечатление, как случилось, например, с яицким казаком Иваном Пономаревым. На допросе он признавался, что «однажды на Яике сечен же плетьми, но за какую вину – не упомню» [18, с. 120]. «Амнезия» Пономарева вполне вписывается в отечественную традицию, в соответствии с которой «наказанье, как бы жестоко оно ни было», принято называть «царской милостью, и, отбыв его, они благодарят за него царя, судью и господина, кланяясь до земли» [22, с. 326]. Потому-то простой казак не помнит, за что его секли, иное дело будущий «всероссийский император».
Наказание Пугачева на языке традиционной культуры означало символическое понижение «незаслуженно высокого», тем более что на спине остались следы, заметные еще накануне его объявления на Яике. Произошла семиотизация тела жертвы, оно само превратилось в знак, став носителем определенной информации. В семантическом контексте эпохи физическое насилие «можно рассматривать в терминах коммуникации – как разновидность использования телесного кода ‹…› это сигнал, причем безусловный и непререкаемый: его невозможно игнорировать. Следовательно, воздействие на тело может использоваться как средство навязанной коммуникации: способ передать сообщение даже тогда, когда другая сторона не готова или не желает его принять» [30, с. 118]. Такой сигнал интериоризировался на бессознательном уровне, детерминируя последующую эмоциональную реакцию индивидов. Не столько физическая боль, сколько психологическая травма, не исключено, породила в Пугачеве страх перед властью, может быть даже панический, но вместе с тем и острую, болезненную жажду власти.
В 1771 г. самовольно оставив службу под предлогом болезни, Пугачев ввязался в авантюру своего родственника Симона Павлова. Перевез его с казаками на другой берег Дона, хотя знал, что «по установлению положена казнь таковым, кто дерзнет переправлять кого за Дон» [3, с. 109]. Все же намерения беглецов пока еще вызывали у него неприкрытый испуг: «Что вы ето вздумали, беду и со мною делаете, ни равно будет погоня, так по поимке и меня свяжут, в тех мыслях якобы вас подговорил, а я в том безвинно отвечать принужден буду» [4, с. 133]. «Для того он, Пугачов, и убежал», что страшился держать ответ перед властью, – сообщал он позднее на допросе [6, с. 106]. Верноподданный ее императорского величества в одночасье стал вне закона. Помогая зятю бежать за Дон, совершал сакральный разрыв с традицией, нарушал ее культурные запреты. С этого началась захватывающая история пугачевских приключений: многочисленных побегов, арестов, новых побегов, а в промежутках – интригующих странствий.
В конце того же года Пугачев добрался до Северного Кавказа, где записался в Терское казачье войско, ибо «тамошния-де жители странноприимчивы». Здесь он снова пытается занять лидирующее положение, на сходе казаков-новоселов был избран ходоком в Петербург, чтобы добиться от Военной коллегии выдачи денежного жалования и провианта. Однако в феврале 1772 г. последовал арест в Моздоке и вскоре – очередной побег. Весну и лето Пугачев скитался по старообрядческим селениям под Черниговом и Гомелем, после чего решил вернуться в Россию. Получение нового паспорта на Добрянском пограничном форпосте фактически открывало ему возможность начать жизнь с нуля «в Казанской губернии, на реке Иргизе» [6, с. 60, 62]. Но честолюбивой душе Пугачева спокойствие было противопоказано.
Тюремные застенки, побои, побеги, поиски пристанища закаляли тело с духом, но объективно работали на снижение самооценки, которая не дополнялась ожидаемым пиететом со стороны гипотетических почитателей. Пугачев по-прежнему оставался маргиналом, находящимся в бегах, скрывающимся от правосудия и рассказывающим про себя разного рода байки и небылицы. Маршруты его будто заранее писаны незримым роком, всякий раз направлявшим беглеца туда, где были сильны протестные настроения. На Дону, на Тереке, в Таганроге или раскольничьих скитах – везде бурлило море народного недовольства. Путь его «проходил через места, еще недавно бывшие свидетелями выступлений первых самозванцев» под именем Петра III. «Трудно предположить, чтобы все это не отозвалось в душе Пугачева и не отложилось в его памяти», роль «третьего императора» была подсказана ему самой жизнью [12, с. 320].
Пугачев услышал о самозванцах, и в механизме личной идентификации как будто что-то сработало, высокая самооценка нашла для себя новый подходящий ориентир. Уже не образ «еретика и разбойника» Разина, а имя императора Петра III манило честолюбивые помыслы Пугачева. Узнав, что какой-то беглый солдат увидел в нем «подобие покойного государя Петра Третьего», Пугачев, «обрадуясь сему случаю, утвердился принять на себя высокое название» [3, с. 111]. Попав осенью 1772 г. на Яик, где только что отгремели раскаты казачьего восстания, Пугачев смог понять: судьба дарит ему эксклюзивный шанс: «В сие то время я разсудил наимяновать себя бывшим государем Петром Третиим в чаянии том, что яицкие казаки по обольщению моему скорей чем в другом месте меня признают и помогут мне в моем намерении действительно» [4, с. 138].
Побывав среди заволжских староверов, на Иргизе и в Яицком городке, Пугачев узнал подробности недавно подавленного мятежа, и стал подговаривать яицких казаков к побегу на земли Закубанья: «Не лутче ль вам вытти с Яику в турецкую область, на Лобу реку, а на выход я вам дам денег ‹…› А, по приходе за-границу, встретит всех вас с радостию турецкой паша, и, естьли де придет еще нужда в деньгах войску на проход, то паша даст еще, хотя и до пяти миллионов рублей» [18, с. 116]. Между тем, за Кубанью лежали крымско-турецкие земли, иноверные и, значит, неблагочестивые, на них не распространялась божественная благодать. Поэтому пугачевский призыв – не просто государственная измена, но и святотатственное «дьявольское искушение» на запредельный выход из сакрального локуса святой Руси. Но там, где обычный простолюдин прошлого должен был остановиться в благоговейном трепете, Пугачев, нарушая культурное табу, шел дальше, «маскируясь» в традиционные «одежки». То, что казалось кощунством для старины, становилось возможным сегодня, когда под натиском обмирщенных инноваций мистическое вето традиционной культуры ощущалось уже не так строго. Он неслучайно напомнил собеседникам, что подобным же образом в свое время поступили донские бунтовщики – казаки-некрасовцы, затем ставшие объектом народной идеализации [23, с. 19–112; 28, с. 5–32].
В словах Пугачева о некрасовцах, по сути, акцентировалось сложное народное представление о том, что по мере освоения «чужого» пространства, оно способно стать «своим», сакрально насыщенным. В традиционной системе ментальных координат география, таким образом, оказывалась разновидностью этических принципов, а путешествие рассматривалось «как перемещение по «карте» религиозно-моральных систем: те или иные страны мыслились как еретические, поганые или святые». Как отмечалось в литературе, мифологема пути выступала в таких случаях «не только в форме зримой реальной дороги, но и метафорически – как обозначение линии поведения», целью которого «является не завершение пути, а сам путь, вступление на него, приведение своего Я, своей жизни в соответствие с путем, с его внутренней структурой, логикой и ритмом» [9, с. 240–242; 25, с. 268]. Данный мотив четко прослеживается в самозванческой интриге Пугачева, определяя его реальные и легендарные маршруты. Известно, что во время попытки заявить казакам о своем подлинно «высоком происхождении», он рассказывал, что «ходил в Польше, в Цареграде, во Египте, а оттоль пришол к вам на Яик» [6, с. 147]. Сакральная география объявленных путешествий должна была символизировать идею избранничества, органически вытекавшую из деления земель на праведные и грешные. Однако с первого раза наметившееся было «воплощение» в императорской ипостаси не получило развития. По поступившему извету Пугачева арестовали, 4 января 1773 г. доставили в Казань и после допроса заключили в тюрьму. Вопрос о его судьбе рассматривался в Петербурге, где он был осужден на пожизненные каторжные работы в заполярном Пелыме. Но приговор прибыл с трехдневным опозданием. Находясь в тюремном остроге, Пугачев внушил к себе такое доверие окружающих («колодники, также и солдаты почитали меня добрым человеком»), что сумел подстроить успешный побег [6, с. 66]. Уйдя от преследователей, он уже целенаправленно двинулся к яицким казакам, укрывался на Таловом умете и в других глухих степных хуторах, встречался с участниками недавнего восстания 1772 г. на Яике. В разговорах с ними принимал самое заинтересованное участие, задавая сочувственные вопросы: «Какие вам, казакам, есть обиды и какие налоги?» Горько упрекал собеседников: «Как де вам, яицким казакам, не стыдно, что вы терпите такое притеснение в ваших привилегиях!» [18, с. 128, 116]. И, наконец, объявил себя «третьим императором». В ответ на неожиданное признание «Караваев говорил ему, Емельке: «Ты-де называешь себя государем, а у государей-де бывают на теле царские знаки», то Емелька встав з земли и разодрав у рубашки ворот, сказал: «На вот, кали вы не верите, щто я – государь, так смотрите – вот вам царской знак». И показал сперва под грудями, как выше сего он говорил, от бывших после болезней ран знаки, а потом такое ж пятно и на левом виске. Оные казаки, Шигаев, Караваев, Зарубин, Мясников, посмотря на те знаки, сказали: «Ну, мы теперь верим и за государя тебя признаем» [6, с. 161–162].
«Императорскую» роль Пугачева стоит считать закономерным итогом его предшествовавшей биографии и благоприятного стечения сложившихся обстоятельств. Причем на Таловом умете договаривающиеся стороны быстро нашли общий язык, словно давно искали именно друг друга. Впоследствии один из участников встречи, вспоминая о ней, будто бы даже сформулировал причины поддержки казаков: «Тогда де мы по многим советованиях и разговорах приметили в нем проворство и способность, вздумали взять ево под свое защищенье, и ево зделать над собою атаманом и возстановителем своих притесненных и почти упадших обрядов и обычаев» [21, л. 1об-2]. «Выбрав» себе «государя», казаки, по свидетельству Пугачева, стали оказывать ему «яко царю, приличное учтивство» [6, с. 71]. В ответ на появление «истинного» царя в сентябре 1773 г. на Яике вспыхнул пугачевский бунт.
Заметим, что самозванческая интрига зародилась в среде яицких казаков, от которых Пугачев получил высокий кредит доверия. Для остального же люда достаточно было уверений казаков, издавна служивших объектом народной идеализации. Так, пугачевец Иван Творогов на допросе показал: «Злодея почитал я прямо за истинного государя Петра третьего, потому, во-первых, что яицкие казаки приняли и почитали его таким; во-вторых, старые салдаты, так, как и разночинцы, попадающие разными случаями в нашу толпу, уверяли о злодее, что он подлинной государь; а, в третьих, вся чернь, как-то: заводские и помещичьи крестьяне, приклонялись к нему с радостию и были усердны, снабжая толпу нашу людьми и всем тем, что бы от них ни потребовано было, безоговорочно». О том же слова другого Ивана – видного бунтовщика Белобородова, что хотя «он в лицо ево и не признал, однако, по уверению Голева и Тюмина, как они служили при бывшем императоре в гвардии, считал и в мыслях за истинного государя, да и другим во уверение объявлял» [18, с. 162, 330–331]. И подобным сообщениям несть числа.
В условиях признания венценосных запросов харизма Пугачева удвоилась сакральной ценностью царской власти, а высокая самооценка стала завышенной, что, несомненно, придало уверенности всем его поступкам. Об этом однозначно говорят красноречивые свидетельства источников: «Потом, вошед в церковь, приказал попам служить молебен и на ектениях упоминать себя государем, а всемилостивейшей государыни высочайшее имя исключить» [18, с. 141–142]. Или, как это было в Алатыре, когда после взятия города, Пугачев первым делом «велел отрубить голову городничему, а на утро следующего дня согнать народ в собор приносить присягу. Собрался народ, собор переполнен, только посредине дорожка оставлена, царские двери в алтарь отворены. Вошел Пугачев и, не снимая шапки, прошел прямо в алтарь и сел на престол; весь народ как увидел это, так и пал на колени – ясное дело, что истинный царь, тут же все и присягу приняли» [8, с. 9].