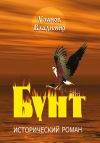Текст книги "Пугачевщина. За волю и справедливость!"

Автор книги: Андрей Куренышев
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Прочному вживанию Пугачева в образ Петра III также способствовал его внешний вид. Нарядная одежда становилась важным элементом обоснования его претензий на царское имя. По словам очевидцев, он отличался от других «богатым казачьим, донским манером, платьем и убором лошадиным». Позже Пугачев привез из Яицкого городка «красную ленту, такую, какие ‹…› на генералах видал, и ту ленту надевал он на себя под кафтан». Чтобы нарядить «царя-батюшку» казаки привезли ему «бешмет коноватной, зипун зеленой суконной, шапку красную, кушак, а сапоги были куплены Мясниковым» [18, с. 106, 131]. Неслучайно, в казачьем фольклоре повстанческий вождь и «по обличью» был царем: «Парчевый кафтан, кармазинный зипун, полосатые канаватные шаровары запущены за сапоги, – а сапоги были козловые с желтой оторочкой ‹…› шапка на нем была кунья с бархатным малиновым верхом и с золотой кистью, – а кафтан с зипуном обшиты широким в ладонь, прозументом» [7, с. 181–182].
Но однажды признанному государем, Пугачеву, как и любому другому успешному самозванцу, необходимо было постоянно поддерживать высокое реноме в глазах «подданных». О таких попытках свидетельствуют, например, его именные манифесты и указы. Вчитаемся и вдумаемся в них: «Точно верьте: в начале бог, а потом на земли я сам, властительный ваш государь», – убеждал он башкир Оренбургской губернии в указе от 1 октября 1773 г. Иногда в заявлениях самозванца доходило едва ли не до самообожествления: «Глава армии, светлый государь дву светов, я, великий и величайший повелитель всех Российских земель, сторон и жилищ, надо всеми тварьми и самодержец и сильнейшей своей руке, я есмь», – безапелляционно утверждалось в преамбуле именного указа атаману В. И. Торнову в декабре 1773 г. [5, с. 26, 41]. В увещании пугачевского полковника Ивана Грязнова жителям Челябинска можно найти любопытный параллелизм повстанческого Петра III и Мессии: «Господь наш Иисус Христос желает и произвести соизволяет своим святым промыслом Россию от ига работы, какой же, говорю я вам – всему свету известно» [17, с. 74].
Поскольку аутентичность «императора казаков» не вызывала сомнений повстанцев, он считал себя вправе быть верховным распорядителем жизней и судеб. Потому полагал возможным распоряжаться душами людей – печься об их спасении («И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни» [5, с. 48]), либо лишать их такой возможности. Обратим внимание на текст казачьей исторической песни «Поп Емеля», главный персонаж которой, обращаясь к казакам, просит: «Головы рубите, а душ не губите» [13, с. 154]. Вероятно, сознанием права вершить «высший суд» следует объяснить неоднократные публичные угрозы «изменникам»: «А когда повелению господина скорым времянем отвратите и придете на мой гнев, то мои подданные от меня, не ожидав хорошее упование, милосердия б уже не просили, чтоб на мой гнев в противность не пришол; для чего точно я присягаю именем божиим, после чего прощать не буду, ей, ей»; «Кто не повинуется и противится: бояр, генерал, майор, капитан и иные – голову рубить, имение взять» [5, с. 26, 37]. Причем слова Пугачева не расходились с делами и становились весомым подспорьем народной веры в своего лидера. Тимофей Мясников вспоминал, как в первые же дни бунта «самозванец повесил двенатцать человек. Тогда все бывшие в его шайке пришли в великой страх и сочли его за подлинного государя, заключая так, что простой человек людей казнить так смело не отважился бы» [16, с. 99]. Поэтому рядовые повстанцы часто не решались на самовольное пролитие крови пленников, дожидаясь появления «третьего императора». Казак Иван Ефремов в подробностях повествовал о таких типичных расправах в Яицком городке, которые начались лишь после того, как «приехал из Берды и злодей Пугачов» [18, с. 180].
Во всех соответствующих примерах решительность, твердость и безжалостность предводителя символизировали так называемую «царскую грозу», считавшуюся прямой обязанностью надежи-государя. Об этом, например, говорилось в указе от 17 октября 1773 г., адресованном администрации Авзяно-Петровского завода: «А ежели моему указу противиться будите, то вскорости восчувствуити на себя праведный мой гнев, и власти всевышняго создателя нашего избегнуть не можете. Никто вас истинным нашия руки защитить не может». «Праведный гнев» – это ведь и есть «царская гроза», подкрепленная претензией на сакральный статус. Отсюда и патетика пугачевских указов: «А ныне ж я для вас всех един ис потеренных объявился и всю землю своими ногами исходил и для дарования вам милосердия от создателя создан. То, естли кто ныне понять и уразуметь сие может о моем воздаваемом вам милосердии, и всякой бы, яко сущей раб мой, меня видеть желает» [5, с. 31, 36].
Выдавая себя за Петра III, Пугачев полностью входил в исполняемую роль, что отразилось на характере взаимоотношений с окружением. Дистанция от простонародья – он все же государь, вызывала психологическую тягу пугачевцев к вождю, стремление быть к нему поближе, заслужить его благосклонность либо ненавязчивым советом незаметно воздействовать на принимаемые решения. Но одновременно с этим – нарочитая доступность, которая часто шла ему во вред. Оказывается, хоть он и «помазанник Божий», ничто человеческое ему не было чуждо. Примером последнего рода можно считать женитьбу на казачке Устинье Кузнецовой, которая буквально ошеломила многих восставших: «Народ тут весь так как бы руки опустил, и роптали, для чего он не окончав своего дела, то есть не получа престола, женился». А потому, утверждал Творогов, «с того времени стали в нем сумневатся». В унисон звучат и слова его тезки Ивана Почиталина о том, как «в народе зделалось сумнение, что Пугачев не государь, и многие между собою говорили, как же етому статца, чтоб государь мог женитца на казачке, а потому многие начали из толпы его расходится, и усердие в толпе к ево особе истреблялось» [20, л. 344об, 199-199об]. Сомнения оказались столь сильными, что и десятилетия спустя казачий фольклор помнил, что именно «женитьбой своей он всю кашу испортил. Как только узнали, что он женится на Устинье Петровне, так все и запияли: «Какой он царь», все заговорили, «коли от живой жены женился!» Женитьбой, ничем другим, он и подгадил сам себе» [7, с. 175].
Несмотря на отдельные промахи, у названного «императора» продолжали появляться тысячи почитателей и верных соратников. Ради своей святой веры они готовы были идти до конца, как например, крепостной крестьянин Василий Чернов, который «под жестоким мучением во все продолжительное время упорствовал назвать Пугачева злодеем, почитая ево именем государя Петра третияго» [18, с. 363]. Безусловными факторами народного доверия были неустрашимость, неуязвимость и успешность вождя. Его, словно бы, мистические способности подтверждались неоднократными побегами из тюрем в период «злополучных» странствий: «Несколько раз арестованный, он умел так говорить с часовыми, что они бежали вместе с ним. Как здесь не вспомнить о заветном слове, против которого не могли устоять замки и запоры?!» [1, с. 48]. В 1773–1774 гг. убежденность пугачевцев в том, что движение возглавляет император Петр III, крепла по мере успехов в борьбе с правительственными силами. Повстанцы рассуждали, что «если б это был Пугач, то он не мог бы так долго противится войскам царским» [15, с. 328]. «Притом же все были поощряемы ево смелостию и проворством, ибо когда случалось на приступах к городу Оренбургу или на сражениях каких против воинских команд, то всегда был сам напереди, нимало не опасаясь стрельбы ни из пушек, ни из ружей. А как некоторыя из ево доброжелателей уговаривали ево иногда, чтоб он поберег свой живот, то он на то говаривал: «Пушка де царя не убьет! Где де ето видано, чтоб пушка царя убила?»» [16, с. 100]. Приписной заводской крестьянин Семен Котельников на допросе «вразумлял» следователя: «Да и потому каждому разуметь можно, что, естли бы де подлинно не государь был, то бы давно полки были присланы; а хотя де две роты с майором присланы, и те безъизвестно пропали ‹…› его высокопревосходительство, господин генерал-аншеф и разных ординов кавалер, Александр Ильич Бибиков съехался з государем и, увидя точную ево персону, устрашился и принял ис пуговицы крепкого зелья, и умер» [18, с. 347]. Так и казачьи предания еще в середине XIX века хранили будто бы неопровержимые доказательства «истинности» Пугачева/Петра III: «его многие из наших казаков признавали, и он многих признавал. К примеру, спросит, бывало, он: «а жив ли у вас сотник, иль-бо старшина такой-то?» Скажут: «жив!» «А где он?» спросит. «Позовите-ка его ко мне!» И приведут, бывало, к нему, кого спросит. «Здравствуй, говорит, Иван иль-бо Сидор!» Тот скажет: «Здравствуйте, батюшка!» «А что, спросит, цел ли у тебя жалованный ковш (иль-бо сабля жалованная), что я тебе пожаловал, когда ты, тогда-то вот, приезжал в Питер с царским кусом?» «Цел, батюшка!» скажет тот, и тут-же вынет из-за пазухи, иль-бо домой сбегает и принесет жалованный ковш, иль-бо другое что, чем жалован был в Питере ‹…› Как же он не царь-то был, есть когда знал, кто, когда и чем жалован был?» [7, с. 174].
Если военные победы работали на повышение «рейтинга» повстанческого вождя и способствовали росту всего повстанческого движения, то поражения незамедлительно приводили, выражаясь по-современному, к снижению «котировок» пугачевских «акций». Из множества типовых примеров сошлюсь на рассуждения заводского крестьянина Харитона Евсевьева: «а как Волгу переехали, то он стал помышлять, что то есть не государь, да и что везде он войсками разбиваем» [18, с. 336]. Получается, что пока «Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием» [19, с. 69], все было в порядке. Бунтовщики убеждались, что предводитель сохраняет сакральную силу. Когда же магическое могущество, как казалось, покинуло «царя», когда его армия и отряды многочисленных «пугачей» стали терпеть одну неудачу за другой, настроения полярно переменились.
Немалую роль в разоблачении самозванства Пугачева/Петра III играла официальная пропаганда, цель которой заключалась в том, чтобы «в каждом селении высочайшими ее и. в. печатными манифестами о том воре и злодее Пугачеве з доволным истолкованием простому народу сверх прежнего еще публиковать». Активная PR-компания в целом имела успех, отваживая часть простолюдинов от поддержки «сатанинского изверга». В руках дворянской России развенчивание с использованием символического языка традиционной культуры оказалось действенной мерой. Из показаний яицкого казака Козьмы Кочурова известно: «Во все время его бытия в злодейской толпе, самозванца щитал он, по словам других, за истинного царя, но то только некоторое сумнение ему наводило, что он ходил в бороде и в казачьем платье, ибо он слыхал, что государи бороду бреют и носят платье немецкое ‹…› Теперь же, видя, что войско против его вооружается и не признает за царя, щитает его так, как в указах об нем публиковано, – за вора и обманщика, донского казака Пугачева» [18, с. 99, 124].
Трагедия Пугачева заключалась в том, что явленный претендент должен был ежедневно, ежеминутно доказывать «царское» величие. Эмоциональное напряжение и невозможность постоянной убедительной аргументации порождали сомнения в том, во имя кого еще вчера народные низы готовы были идти на смерть. Помимо военно-технического превосходства царских войск, психологическое опустошение пугачевцев, пожалуй, стало главным фактором поражения. Самозванческая интрига исчерпала мобилизующий потенциал и больше не могла питать боевой дух бунтовщиков. На попытки Пугачева по-прежнему играть роль «третьего императора» казаки теперь ответили решительным отказом: «Нет, нет! полно! Уже не хотим больше проливать крови! ‹…› Полно уж тебе разорять Россию и проливать безвинную кровь!». Однако прежде чем стать жертвой предательства «царю-батюшке» представилась удобная возможность бежать, доказать, что удача все еще на его стороне, как не раз бывало в его беспокойной биографии. Он «огленулся, между тем, и видя, што казаки немного поотстали ‹…› чухнув лошадь и съворотя с дороги, поскакал в степь мелким камышом». Дальнейшая судьба недавнего кумира оказалась в зависимости только от его собственной ловкости. «Я, вскричав ехавшим позади меня казакам: «Ушол! Ушол! – вспоминал участник поимки Творогов, – чухнув и свою лошадь за ним». Но прежде неизменно благосклонная фортуна, ныне, как видно, решила отвернуться от Пугачева, догнав его, «связали злодею руки назад». И все-таки это был еще не конец развязки. Незаметно сумев вооружиться, он попытался прорваться на свободу и решительно кинулся на одного из заговорщиков – Василия Федулева, «уставя в грудь пистолет, у которого и курок спустил, но кремень осекся». После такого недвусмысленного «знака свыше» заговорщикам, да и самому «императору казаков», вряд ли требовались еще более весомые доказательства тому, что сакральные силы самозваного Петра III раз и навсегда иссякли. В донельзя наэлектризованной атмосфере ему оставалось лишь безропотно принять неизбежность последствий [18, с. 158–160].
8 сентября 1774 г. арестованный группой бывших соратников, он вскоре был передан в руки властей. После изнурительных допросов в Яицком городке и Симбирске, в ноябре месяце его доставили в Москву и поместили в тюремной камере в здании Монетного двора. 10 января 1775 г. Емельян Иванович Пугачев, проделавший непростой путь от донского казака до народного «царя-батюшки», на Болотной площади древней столицы был казнен по приговору суда. И только в благодарной памяти устных преданий уральского казачества сохранилась неизбывная вера в очередное чудесное спасение «истинного государя» Петра Федоровича [7, с. 178–179].
Список источников и литературы
1. Андреев И. Л. Самозванство и самозванцы на Руси // Знание-сила. 1995. № 8. С. 46–56.
2. Буганов В. И. Пугачев. М., 1984.
3. Документы о следствии над Е.И. Пугачевым в Симбирске // Вопросы истории. 1966. № 5. С. 107–121.
4. Документы о следствии над Е.И. Пугачевым в Яицком городке // Вопросы истории. 1966. № 3. С. 124–138.
5. Документы Ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773–1774 гг. М., 1975.
6. Емельян Пугачев на следствии. Сб. док-тов и материалов. М., 1997.
7. Железнов И. И. Уральцы: очерки быта уральских казаков. СПб., 1910. Ч. 3.
8. Крылов А. Н. Мои воспоминания. М.; Л., 1942.
9. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996.
10. Мауль В. Я. Пугачевский бунт в донесениях иностранных дипломатов: историографический аспект // Актуальные вопросы всеобщей истории и международных отношений. М., 2023. С. 181–189.
11. Мининков Н. А. Донское казачество в эпоху позднего средневековья (до 1671 г.). Ростов-на-Дону, 1998.
12. Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. М., 2002.
13. Народные исторические песни. М.; Л., 1962.
14. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и его сподвижниками: источниковедческое исследование. М., 1995.
15. Пронштейн А.П., Мининков Н.А. Крестьянские войны в России XVII–XVIII веков и донское казачество. Ростов-на-Дону, 1983.
16. Протокол показаний сотника яицких казаков-повстанцев Т.Г. Мясникова на допросе в Оренбургской секретной комиссии 9 мая 1774 года // Вопросы истории. 1980. № 4. С. 97–103.
17. Пугачевщина. Т. 1: Из архива Пугачева (манифесты, указы и переписка). М.; Л., 1926.
18. Пугачевщина. Т. 2: Из следственных материалов и официальной переписки. М.; Л., 1929.
19. Пушкин А.С. История Пугачева // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 17 кн. М., 1999. Т. 9. Кн. 1.
20. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 6. Оп. 1. Д. 506.
21. РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 421.
22. Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. Падуя, 1680 г. // Утверждение династии. М., 1997. С. 231–406.
23. Сень Д.В. «Войско Кубанское Игнатово Кавказское»: исторические пути казаков-некрасовцев (1708 г. – конец 1920-х гг.). Краснодар, 2002.
24. Стрейс Я. Третье путешествие по Лифляндии, Московии, Татарии, Персии и другим странам // Московия и Европа. М., 2000. С. 313–468.
25. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 227–284.
26. Трефилов Е.Н. Пугачев. М., 2015.
27. Троицкий С.М. Самозванцы в России XVII–XVIII вв. // Вопросы истории. 1969. № 3. С. 134–146.
28. Тумилевич Ф.В. Сказки и предания казаков-некрасовцев. Ростов-на-Дону, 1961.
29. Усенко О.Г. Психология социального протеста в России XVII–XVIII веков. Тверь, 1995. Ч. 2.
30. Щепанская Т.Б. Зоны насилия (по материалам русской сельской и современных субкультурных традиций) // Антропология насилия. СПб., 2001. С. 115–177.
31. Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. Прекрасен наш союз. М., 1991.
Андрей Александрович Куренышев,
историк
Пугачевщина
В отечественной историографии «пугачевщина», то есть восстание или даже крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева получило достаточно громкое звучание даже во времена господства феодально-крепостнической системы, строя, как считали некоторые исследователи. В этом году исполняется 250 лет с момента начала этого грандиозного события в истории нашей страны, многих ее народов, не только этнических русских, но и украинцев, народов Поволжья, Урала и Западной Сибири. Пятьдесят лет назад в СССР отмечалось двухсотлетие Крестьянской войны. Тогда «пугачевщина» однозначно рассматривалась как проявление «классовой борьбы крестьянства с феодально-крепостническим гнетом» [5, с. 5].
«Под понятие «крестьянские войны» в России обычно подводили три крупных крестьянских движения: 1606–1607 гг. под предводительством И.И. Болотникова, 1667–1671 под предводительством С.Т. Разина, 1773–1775 под предводительством Е.И. Пугачева», – писал Л.В. Черепнин [5, с. 5–6], и отмечал, что ряд исследователей причислял к крестьянским войнам и движение, возглавлявшееся донским казаком К.А. Булавиным в начале XVIII в. Продолжая анализировать историографию крестьянских движений, Черепнин отмечал, что: «Под крестьянскими войнами обычно подразумевают наиболее крупные массовые вооруженные выступления крестьян» [5, с. 6]. Он же перечислил несколько крупнейших выступлений такого рода в ряде европейских стран: Жакерию во Франции, восстание Уота Тайлера в Англии, гуситские войны в Чехии. Ну и конечно, знаменитую тем, что о ней написал один из основоположников марксизма Ф. Энгельс, крестьянскую войну в Германии. О методологии исследования истории крестьянских войн в СССР и за рубежом мы будем писать и в дальнейшем, касаясь общих и отдельных сторон событий истории и их оценок в историографии «Пугачевщины», как наиболее выдающегося проявления самодеятельности масс народа, далеко не самого развитого в экономическом и культурном отношении региона страны (Поволжье, Урал и часть Западной Сибири). Пока же отметим, что Л.В. Черепнин, бесспорный лидер в изучении истории России периода феодализма, не был специалистом в истории крестьянства и крестьянских восстаний и писал вступительную статью к упомянутому сборнику, так сказать, по должности, а не в соответствии со своей научной специализацией. К тому же, нельзя не отметить того факта, что он принадлежал к плеяде ученых так называемой «старой», дореволюционной школы, которых, если можно так выразиться, насильственно «обратили» в марксизм в ходе репрессий и гонений не только со стороны государства, но и ученых-историков, так называемой» школы Покровского… По этой причине статья Черепнина изобилует упоминаниями о классовой борьбе крестьян против крепостничества и прочего феодально-помещичьего гнета. Как мы писали в одной из статей: «В большинстве случаев использование «марксистской методологии» с 50-х годов советскими историками представляло собой механический подбор соответствующих цитат классиков и простейших логических схем, упоминаний о классовой борьбе и прочие формальные вещи» [1, с. 225]. В скором времени легально и полулегально стало возможным протаскивать в советскую историографию наработки западных историков и социологов, например концепцию Пайпса о тотальном рабстве всех жителей России и ее окрестностей по отношению к государственной, самодержавно-крепостнической власти. Кроме Пайпса нелишне будет вспомнить и о так называемой школе «Анналов», сводившей исторические сюжеты к бытовым коллизиям, выкидывая из истории политические аспекты развития или сводя их к деяниям отдельных выдающихся личностей или отдельных систем, например, университетов, папства, а также основополагающих для Запада документов вроде «Великой хартии вольностей».

Казнь вора. С народного лубка.
Гос. исторический музей
В том же году, когда вышел в свет упомянутый сборник, в Уфе прошла конференция под названием: «Участие народов в крестьянской войне 1773–1775 гг.». Тезисы докладов ее участников были опубликованы в Уфе в 1974 году. Автором доклада «Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева – крупнейшее событие классовой борьбы в России XVIII в.» был В.И. Буганов. Сугубо классовый подход к большинству исторических событий, свойственный, кстати говоря, историкам школы Покровского, звучит в тезисах Буганова с удивительной отчётливостью. Птенцы гнезда Покровского отличались конечно от благовоспитанных историков постсталинского периода. Вульгаризацией и примитивной социологизацией они не увлекались. Покровцы, одержимые пафосом революции, видели их во многих классовых столкновениях. Особенно повезло, естественно, крестьянским войнам. Г.Е. Меерсон полагал, что в восстаниях Разина и Пугачева мы имеем дело с ранними буржуазными революциями. Нелишне напомнить, что версию о крестьянстве как социальном заменителе в поздних буржуазно-демократических революциях озвучивал никто иной, как Г.Е. Зиновьев. Зиновьев считал признание Лениным и большевиками особой роли крестьянства, его союза с рабочими одной из характерных черт ленинизма! Сталин заставил Зиновьева отказаться от этой концепции, признав, что главным в ленинизме является учение о диктатуре пролетариата. Судьба Меерсона в связи с подобного рода коллизиями внушает большую тревогу. В 1937 г. Г.Е. Меерсон был расстрелян как троцкистско-зиновьевский заговорщик, а не как проводник вульгарно-социологических теорий исторического развития. К теоретическим перлам периода господства М.Н. Покровского и его школы можно отнести и тезис о зажиточно-казацко-крестьянской верхушке в руководстве восстанием, будто бы изменившей крестьянскому делу и предавшей народного вождя Емельяна Пугачева.
Вопрос о роли казачества не мог не привлекать внимания исследователей. Если в 1920-е годы, когда было памятна роль казачества в Белом движении, о них как об активнейшей части крестьянских войн забыли, равно, как и о зажиточных крестьянах-кулаках в годы коллективизации, то во времена расцвета совхозно-колхозного строя вспомнили вновь.
Участники упомянутой конференции коснулись и такого животрепещущего вопроса, как отношение к проблемам крестьянской войны 1773–1775 гг. буржуазной, преимущественно американской историографии. Отметим сразу, что для советских, русских историков было бы интереснее узнать отношение к данной проблеме историков немецких, причем обеих германских государств и ФРГ и ГДР, поскольку Ф. Энгельс писал свою знаменитую работу на основании фактологии немецкого историка Циммермана. Понятно, что историей России и СССР в США занимались в основном так называемые советологи, то есть представители далеко не беспристрастного, а скорее, сильно ангажированного направления историографии. К особенностям данного направления можно отнести то, что все изыскания их преследовали разоблачительно-обличительные цели. В истории России любого периоды искались и находились особенности, резко отличавшие историю нашей страны от всех прочих и особенно США – образцовой страны Западного мира. Поскольку советским властям были хорошо ведомы намерения советологов по разоблачению советского строя, выставлению истории России в самом неблагоприятном виде, их не допускали в советские архивы. Отсюда и главная особенность советологов – работа исключительно с теми источниками, которые использовались историками советскими или близкими им, например, участниками Аграрного симпозиума Восточной Европы и т. п. Интересно отметить также факт использования работ историков дворянско-буржуазной школы, отвергнутых и замалчиваемых советскими историками, например, работы Н.Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники» в 3-х тт. (СПб.,1884). Использование трудов Дубровина при всей их основательности, несомненно подтверждает наш вывод об особенностях советологии американского производства: источниковую и историографическую вторичность и стремление очернить народное движение. Завершая этот сюжет, хотелось бы задать американским историкам вопрос: много ли они знают и пишут об освободительном движении афроамериканцев, ибо сравнение русских крепостных с рабами в США при всей его абстрактности и умозрительности вполне приемлемо и возможно. И это сравнение с любым российским казацким, крестьянским движением будет явно не пользу американцев. Сравнений российской и американской истории советологи в принципе делать не желают.
Тот факт, что пугачевщина была движением, сложным с точки зрения классово-сословного и национального состава участников, был отмечен в историографии, но на наш взгляд, недостаточно полно и основательно. Так, например, отмечалось, что на втором этапе крестьянской войны в движении принимали не только рядовые, простые башкиры, но и старшины, то есть верхушка башкирского войска. Салават Юлаев один из башкирских героев пугачевщины и по сей день является одним из национальных героев и символов башкир. Религиозной составляющей почти никто из историков не касался и не касается. Так известно, что Е.И. Пугачев был старообрядцем и общался с представителями Белокриницкого согласия, бывая в польско-литовских землях. По некоторым данным Пугачев имел контакты и с католическим духовенством, иезуитами. Вообще, влияние европейских событий: война с Османской империей, имели определенное влияние на движение Пугачева, о чем, видимо знал или догадывался А.С. Пушкин, но предпочитал умалчивать. Вообще, схемы дворянской историографии странным образом и это несмотря на пафосное отношение к народным движениям, восстаниям, бунтам и проч., оказались удивительно живучими в советской историографии, несмотря на идеологические и историографические чистки, проводившиеся Покровским и его учениками.
В буржуазно-помещичьей историографии и мысли не допускалось о том, что восстание может каким-либо образом инспирировано и поддерживаемо извне, враждебными России государствами: Турцией, Францией Польшей и т. п. Это при том, что состоявший в переписке с Екатериной II Вольтер допускал такую возможность.
Тем не менее, в статье, посвященной освещению «Пугачевщины» во французской прессе, отмечалось, что с польской границы (один из важнейших центров формирования информационной волны. – А.К.) сообщалось о присутствии турецких эмиссаров при руководителях восстания. «Не эта ли заметка, – задается вопросом автор статьи, – помогла созданию версии о Пугачеве как орудии против екатерининской фронды и диверсии со стороны Турции. Эти слухи присутствуют в одном донесении Дюрана (посла Франции в России) [6, с. 388, сноска 40].
Нельзя не отметить, что тот же автор вскользь упоминает о том, что информация о восстании, вообще поступала с польской границы, то есть из центра старообрядчества, населенного пункта Ветка.
Любопытно отметить, что статья о зарубежных (синхронных. – А.К.) восстанию откликах помещена отдельно от статьи об откликах во французской печати [2]. Статьи об отношении европейских стран к проблеме крестьянских войн и восстаний в России в целом нет. Причина ясна: для написания подобного рода статей нужно владеть рядом европейских языков и состоять сотрудником института Всеобщей истории РАН, одновременно разбираясь на достаточно высоком уровне в проблемах истории России в целом и проблемами истории народных, крестьянских движений, в частности… В дореволюционной и ранней советской историографии подобного рода специалисты все же существовали. Кроме брата будущего академика М.Н. Тихомирова Бориса об этом писал не долго занимавший пост заведующего кафедрой в Саратовском университете В.И. Веретенников. Б.Н. Тихомиров, как известно, пал жертвой репрессий, Любопытно, что Веретенников, выпускник Санкт-Петербургского университета, считается учеником Лаппо-Данилевского, соперника и конкурента Платонова! Занимался Веретенников почти всегда запретными для нашей историографии темами: органами сыска, Тайной канцелярией, генерал-губернаторствами екатерининской эпохи… Василий Иванович работал в конце жизни в Русском музее и как-то незаметно ушел из жизни в блокадном Ленинграде. Веретенников занимался историей всяких тайных дел и таким образом, видимо, вышел и на отклики иностранцев о борьбе сословий и социальных групп в истории России.
Весь сыр-бор, то есть возмущение яицких казаков, невыполнение ими требований властей, усиливавших тяготы их службы и повседневной жизни, был связан конкретно с войной, которую царское правительство вело с Турцией. Упрощенно и утилитарно, как это делали и делают многие историки, эти трения власти с казаками интерпретировать нельзя. Но и не следует, как это происходило в советской историографии сводить все к обострению классовой борьбы, усилению крепостничества, феодального гнета и т. п., и т. д. Яицкие казаки, как и многие обитатели восточных и западных окраин Российского государства, были старообрядцами, спасавшими себя и свою веру от гонений РПЦ, отнюдь не всегда поддерживаемых государственной властью, центральной и местной. Этот парадокс социальных отношений очень слабо отражался в марксистско-ленинской историографии, что давало немалую пищу разного рода противникам советской власти и коммунистической идеологии, тем же пайпсам и прочим советологам. Несомненно, что для ведения войны требовались все большие материальные, финансовые и людские ресурсы. Взять их можно было только на окраинах, но именно там скапливался наиболее неблагонадежный, оппозиционный власти, народ: раскольники, казаки, представители малых, некогда и даже совсем недавно, враждебных московской власти народов. Поводом для возмущения и затем восстания Яицких казаков стал ряд мероприятий хозяйственно-экономического, фискального и военно-организационного характера. Рыбные ловли, за счет которых в основном жили казаки, были предметом вожделения властей как центральных, так и местных. Суть притязаний властей как почти всегда и во всем заключалась в том, чтобы казаки работали, а доход шел бы в казну и местным воротилам из военного руководства и гражданской администрации. Дабы лишить казаков их вольностей, базировавшихся на свободе личной и хозяйственной власти, стремились превратить казаков в обычное феодально-податное сословие. Один из ретивых начальников, граф Чернышев, придумал для этого хитрый метод превращение казаков в легионеров, то есть фактически в обычных солдат. При этом их как солдат собирались брить, что для староверов было совершенно неприемлемо.