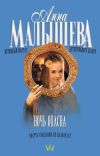Текст книги "Напряжение"

Автор книги: Андрей Островский
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Шумский замолчал, углубившись в чтение протокола, потом, словно вспомнив о присутствии Потапенко, сказал:
– Так вот, для убийства вам нужна была ночь. По вашему мнению, ночь должна была скрыть все, все ваши грязные делишки. Чтобы заманить Красильникова к себе, вы стали звонить ему в общежитие. Собственно, звонили не вы, звонила Калныня, а вы стояли рядом. Это была маленькая хитрость: зная наверняка, что Красильников не может оказаться у телефона, вызывала его женщина. Уже тогда вы заботились о будущем. Уже тогда вы начали заметать следы, задумав пустить следствие по ложному пути, и женщина в вашем плане играла далеко не последнюю роль… Красильникова трудно застать, и Калныня звонила много раз. Наконец он подошел, и разговаривали с ним вы. Вы сказали, что вам необходимо встретиться, и договорились, что встреча состоится у вас двенадцатого мая в семь тридцать. Но из дома вы ушли раньше, оставив записку: «Гоша! Сложилось так, что я должен был уехать к семи часам. Дома буду в двенадцать часов. Извини, пожалуйста». Дату вы не поставили, писали неразборчиво, левой рукой.
Разумеется, Красильников не стал бы вас ждать. Но у вас все предусмотрено. На лестнице его поджидают Далматов и Калныня. Они тоже шли к вам, но – какая неудача! – не застали дома. Красильников читает адресованную ему записку, приколотую к двери. Оказывается, вы будете только в полночь. Далматов раздосадован. Красильников недоумевает: вы же сами пригласили его и назначили время! Но делать нечего, всем приходится идти на улицу. Далматов неплохой актер. Он играет этакого рубаху-парня, доверчивого и общительного. Секретов у него ни от кого нет: приехал с женой в отпуск с Крайнего Севера и хочет провести его в Ленинграде. Денег много: заработки большие, премии, надбавки… Красильников неразговорчив, но Далматов ему понравился и жена его, то есть Калныня, тоже симпатична. И когда Далматов предлагает ему поужинать в ресторане, соглашается. Тем более что Красильникову это ничего не стоит – все расходы берет на себя Далматов.
Итак, они сидят в ресторане, а вы в это время – у вашего приятеля Сухарева. В двенадцать вы возвращаетесь домой, а в начале первого Красильников, Далматов и Калныня заявляются к вам. Надо сказать, что свой преступный план вся ваша шайка осуществляет безупречно. Вы разыгрываете радостную встречу со своими друзьями, которых якобы не видели несколько лет, еще раз извиняетесь перед Красильниковым за неожиданную отлучку и, как гостеприимный хозяин, начинаете угощать гостей. Но Далматов уже достаточно пьян, Красильников вообще не пил, да и поздно. Красильников чувствует себя довольно неловко, не знает, как себя вести. Он нес вам в портфеле оставшиеся непроданными рубашки – ведь ваш экстренный вызов мог быть связан с ними! – и заодно брюки, которые хотел отдать вам в переделку. Но ситуация изменилась, вы ничего не говорите о делах, рядом незнакомые люди, и Красильников тоже молчит. И здесь вы совершаете ошибку: вы упустили из виду, что он мог принести рубашки; если бы вы это предположили, то наверняка что-то предприняли, чтобы забрать их у него. Зачем вам лишние улики? Но ведь всего не предусмотришь!
Наконец, видя, что никакого разговора не состоится, Красильников собирается домой. Вы решаете его проводить. Далматов и Калныня тоже отправляются с вами. Они, оказывается, давно мечтали посмотреть ночной город! Трамваи, последние, еще ходили, вы садитесь и едете до Нарвских ворот. Потом идете пешком, идете мимо сада. Калныня просит пройтись по аллеям. И хотя погода не слишком располагала к прогулке, вы не можете отказать капризной женщине. В глубине сада ваша компания присаживается на скамейку, а Далматов, все время притворявшийся чрезмерно пьяным, вынужден отойти в кусты, – ему, видите ли, стало плохо. И оттуда, почти в упор, Далматов стреляет в безоружного, ничего не подозревающего человека. Вы же, Потапенко, мажете щеку убитого специально прихваченной губной помадой, и все трое – бежите.
Шумский протер глаза кончиками пальцев, разогнулся, опустил свободно руки. Потапенко держался за виски, бессмысленно глядя в пространство.
– Все, – сказал Шумский. – У вас есть что возразить?
Потапенко вздрогнул, вскочил и, тыча скрюченным пальцем в папку с бумагами, закричал истерично:
– Я не хотел этого… Честное слово, поверьте, не хотел. Это все Далматов, он, он, подлец, он!.. У вас записано, что я отказывался?! Он заставил меня, он угрожал мне…
– Записано, – прервал его Шумский. – Вы действительно трусили и отказывались. Но… Собственно, почитайте сами, для этого я и пригласил вас:
Потапенко читал отпечатанные на машинке листы, низко пригнув голову и шевеля толстыми губами.
– Что будет?.. Что будет?.. – бормотал он. – Господи, что будет?..
Шумский терпеливо ждал, потом обмакнул в чернильницу перо и молча протянул Потапенко.
1955
Звонкий месяц апрель
Глава первая
1
Он лежал на низкой деревянной кровати; солнечные лучи проходили в щель неплотно сомкнутых штор, косо пересекали кровать, едва не задев его лица, и упирались в стенку, оклеенную темными обоями. Он спал крепко и тихо, как спят под утро чрезмерно усталые, постоянно недосыпающие люди, и лицо его – узкое, с ямочкой на подбородке – было спокойно. Он не чувствовал ни подступающего солнца, ни долгого, пристального мальчишеского взгляда.
Мальчуган был худ, позвонки выступали под майкой. Он стоял на коленях возле самой кровати, раскинув тонкие безыкрые ноги, и время от времени подавал голос:
– Олежка… Олег! Ну?.. Ты живой? Ну, скажи хоть что-нибудь понятное. Слышишь?
– М-м?
– Тьфу ты черт! М-м, м-м… Не мыкай, а скажи: «встаю». Последний раз упрашиваю. Ну? Считаю до трех: раз, два… Я тебя брошу. – От долгого стояния на паркете коленки болели и, должно быть, на коже отпечатались узоры старинного дерева.
Олег вздохнул, вытянулся, раскинул руки, сжав кулаки, и долго, протяжно зевал. Потом повертел головой, разгоняя сон. И скинул ворсистое, похожее на шкуру теленка, одеяло:
– Ох, как хочется спать! Знал бы ты, как хочется спать!
– У тебя глаза красные, как у кролика, – сказал мальчик. – Так нельзя, загнешься. Небось ваш Буяновский, наверно, как вечер – так дома.
Олег хмыкнул:
– Ладно, ворчун, много ты знаешь… Тащи-ка лучше сюда дневник.
Петька проворно достал с подоконника мятый, потрескавшийся портфель, щелкнул замком.
– Пожалуйста. Все законненько, можешь не сомневаться.
– А это что?
– Тройка, вестимо… Зато вон она, четверочка! Блестит, миленькая. Вера Борисовна хотела еще плюс накинуть, да Лялька Иванова начала что-то спрашивать, она и позабыла. Мне всегда не везет.
– Постой, ты мне зубы не заговаривай. Тройка-то за что?
– А, исправлю. Подумаешь, озеро Баскунчак не мог найти. Карта-то во! Во всю стену. А озеро с горошину. Да и то, говорят, пересохло. Я ей все показал, кроме озера. И сразу трояк врезала. Она у нас знаешь какая, с ней…
– Обожди. Кто это «она»? Что за разговоры: «она», «ей»… Это же твой учитель.
– Но здесь-то ее все равно нет… – шепотом проговорил Петька и оглянулся. – Олег, а правда Наполеон не сам умер, а его отравили? – И подсунул «вечную» ручку: – Распишемся?
– Не слышал. Откуда ты взял?
– В журнале прочел. Совсем недавно раскопали могилу и увидели, что на волосах у Наполеона… м-мышьяк, что ли. Значит, его отравили. Может так быть?
– Наверно, может… Дома-то есть что-нибудь на завтрак?
– А как же. Холодная курица, вино и сандвичи. Кстати, что такое сандвич? Это бутерброд, да? С ветчиной?
– Не крутись. Я тебя толком спрашиваю.
Петька развел руками:
– Полбуханки хлеба, и та засохла. Бедняцкое хозяйство.
– Тогда давай в магазин. Живо! А я чайник поставлю.
Он порылся в кармане серого, из грубой ткани пиджака и протянул брату пять рублей:
– Все не трать… Да, я тебе вчера рубль оставлял. Видел?
– Фью, рубль. Что такое в наше время рупь? Раз – и нету. Обед в школе – двадцать копеек, тетрадки и резинка – пятак, газировка – пятак, в пирожковой…
– Все ясно, проваливай скорей. Никто не звонил?
– Не-а. Письмо тебе есть. На столе, – уже в дверях бросил через плечо Петька.
Олег подошел к резному, довольно ветхому письменному столу, тронул бумаги, наваленные посредине крутой слежавшейся горой. Гора скрывала какие-то пузырьки, обломки карандашей, засохшие кисточки, старый галстук, бритвенные лезвия, хлебные корки и еще бог знает что. Он попробовал перевернуть ее, но бумаги заскользили, зашуршали, угрожая скинуть на пол чернильницу и рассыпаться. Тогда, вытащив руки, он похлопал ими одна о другую, откинул портьеры и растворил окно.
Воздух холодного апреля, смешавшись с солнцем и дворовым шумом, потек в комнату. Толстые, неуклюжие капли срывались откуда-то из поднебесья и нехотя падали на чистый уже от снега, тусклый наличник. Падали, кололись на радужные брызги и щипали, щекотали грудь, живот…
2
Сверху видно, как бежит Петька. Остановился. К нему вразвалочку подошел мальчишка. Приятель. Разговаривают. Конечно, очень важные дела. Петька даже ногой шаркает в задумчивости. Крикнуть, как кричала ему, Олегу, мать? Не надо. Пусть сам познает ценность времени.
Ну да, жди, когда познает! Все на свете уже забыто.
Олег подвертывает язык, и короткий, но сотрясающий стекла свист мчится вниз…
Овальный двор всегда напоминал Олегу трубу саксофона. Где-то у ее основания рождалась песня улицы: рычали и фыркали свирепо грузовики-фургоны (в доме была булочная); звонко, точно пощечины, шлепались на асфальт плоские ящики из-под батонов; из раскрытых окон выплескивалась мешанина звуков – говор динамиков, музыка радиол, звонки будильников; мальчишечьи дисканты перепутывались с жужжанием шарикоподшипниковых колес на самокатах… Точно так же, как искры из костра, бесконечная, бестолковая эта мелодия устремлялась вверх. И чем выше, тем громче, пронзительнее она казалась.
Все детство провел Олег в этом гулком дворе, не знавшем, что такое зеленый росток. В тысяча девятьсот сорок первом, 29 июня, мальчику исполнился год. Второй год его жизни встретили сирены, тревожный голос диктора, стук метронома. И Нина Филаретовна, прижимая к груди сына, завернутого в серое байковое одеяльце, по нескольку раз в сутки перебегала наискось асфальтированную площадку и блуждала по глубоким лабиринтам подземелья. Зато через пять лет, возвратившись из Казахстана, Олег уже сам носился с ватагой однолеток по двору, открывая для себя ненужные больше убежища, пустынные лестницы и пыльные чердаки.
Дом, в котором жили Кунгуровы, чем-то напоминал творения Лидваля, Иогансена и Бенуа, – быть может, тем, что он был построен в первые годы двадцатого века, взявшего своим девизом мощь. Он стоял на тихой, спокойной улице, громадный и роскошный, с неуклюжими, тяжелыми эркерами, полуколоннами, тонкими, как церковные свечи, и с балкончиками, напоминающими карманы кухонного фартука; он стоял, запахнутый в толстую гранитную шубу среди безликих, безродных, безвозрастных домов с облупленной штукатуркой или заново оштукатуренных, но не ставших от этого привлекательнее. Он был богат и добротен, но на богатство само по себе скучно смотреть, поэтому неудивительно, что к его стенам не крепили мраморные доски, а к парадным не подкатывали начищенные до глянца «Чайки» с экскурсантами, ни зарубежными, ни тем более своими. С фасада дом выглядел опрятно, но чопорно и мрачно, даже после того, как тяжелый, душный гранит нещадно наждачили из пескоструйки.
Окна Кунгуровых – во дворе под крышей, на шестом этаже, третье и четвертое влево от помятой водосточной трубы. Если смотреть с земли, они совсем маленькие, точно прищуренные, и люди в них – лилипутики. Когда выставлялась рама и мать высовывалась на полкорпуса, чтобы позвать Олега обедать, она тоже была какой-то ненастоящей. Она напоминала Максимовнину кукушку из часов.
Напротив, перед окнами, высилось правое крыло дома. За изломами его горбатой крыши голубело, блекло и темнело небо; оттуда же спозаранок выходило солнце, заряжавшее на весь день Олежку хорошим настроением.
На уровне четвертого этажа в светлый, под слоновую кость, кирпич были вкраплены веселые аккуратные квадратики зеленых и синих изразцов, а под самым карнизом тянулась лепнина. Орнамент прерывался выточенными, по-видимому из мрамора, медальонами-горельефами с изображением сатиров, шутов, мимов и паяцев разных эпох – от Эпихарма и Плавта до Гюго и Леонкавалло. Рожи были мерзкие, издевательские и ничего, кроме страха и отвращения, не вызывали. Познавая мир, Олег разглядывал уродов в отцовский восьмикратный бинокль и удивлялся их беспринципной долговечности: шуты кривлялись, хохотали и в день 300-летия дома Романовых, и в Гражданскую войну, и в студеные, голодные, кровоточащие блокадные дни. Мать гладила его по голове и называла «философом».
В последнюю войну, осенью, среди бела дня, в полированный цоколь у самой парадной ударил снаряд и брызнул осколками. Долго валялись, перемешавшись в пыли, а потом и в снегу, обломки металла, стекла и гранита. Мусор затем погрузили в кривобокую тележку, снег растаял и унес с собой пыль, а лилия войны застыла на стене навечно, как укор Жестокости.
Точный ребячий глаз безошибочно засек, а буйное воображение по-своему истолковывало странные украшения, трещины, вмятины и вообще всякого рода непорядки на шкуре старого дома. Всеведущая Тоська уверяла, что там, у парадной, на щербатой стене, застыла кровь, «с войны еще!». Гурьбой мчались к жуткому месту. Дрожа и толкаясь, вставали на цыпочки, тыкались носами в острый, холодный камень и… Вон она, кровь. Где? Да вон, вон… А-а! И правда! Вдруг сейчас покойники встанут? Бежим отсюда… Ужас током бьет каждого и оседает на годы, хотя в тот же день знали все, что никакой крови там нет и быть не могло. Просто заново красили крышу, и ветер прилепил к стене несколько капель тягучей густой краски.
Давно и недавно все это было…
Теперь во дворе такие же пронзительные голоса, но народец другой. Его не удивляют и не занимают домовые украшения; он знает, что покойники не встают; война с ее бомбоубежищами, карточками и тревогами – для него что-то очень далекое и малопонятное.
У каждого поколения детей свои заботы, интересы и даже любопытство.
3
Все-таки воздух не был еще столь прогретым, чтобы давать ему волю. Олег толкнул раму. Сверкнув ослепительно стеклом, она вернулась на место.
Размяв мускулы, Олег бросил на плечо красно-желтое махровое полотенце и пошел принять душ.
Коридор встретил теплой сухой темнотой. Олег не стал зажигать свет: за двадцать лет жизни в этой квартире он настолько свыкся с ней, что мог свободно двигаться с закрытыми глазами, не задевая углов, корзин и висящих на крючках старых пыльных пальто.
Подойдя к ванной комнате, он привычно потянул на себя медную ручку-улитку. Что-то ломко щелкнуло, звякнуло и…
– Закрой сейчас же!.. Слышишь?
Тося стояла в ванне, отжимая волосы, и Олег увидел ее груди, большие, гладкие, с розовыми сосками-пуговками…
Он замешкался на какой-то миг, а Тося вдруг тихо, как-то умоляюще проговорила:
– Ну закрой… – И была еще ласка в ее голосе.
Дверь захлопнулась. А из ванной уже несся смех, разудалый и бесшабашный:
– А я-то милицию хотела звать! Ха-ха-ха!! На помощь. Ха-ха!
И шумела, шлепаясь о твердое, вода.
Разбрызгивая кудряшками душистые капельки, Тося вышла на кухню, румяная, с лоснящимся носом. На ней был пестрый шелковый халат, в вырезе его проглядывали сиреневые кружева рубашки.
– Медведь косолапый. Ну и медведь! Надо же, силища!.. Крючок сорвал.
– Что, испугалась?
– Это ты сам испугался.
Олегу вдруг захотелось чем-нибудь смутить ее. Почему она не застыдилась? Но он сказал:
– Разве ты не работаешь сегодня?
– Я сегодня в вечер. Да, Олег, пока не забыла. Тебе уже несколько дней звонит Людмила Филаретовна, То ты ушел, то ты еще не пришел. И Максимовна ничего сказать не может, когда ты явишься.
– Вот как? Чего же это Петька мне не сказал?
– Петька? – Тося засмеялась, громко и заразительно, она и в детстве так смеялась. – Ох умора! Ты что же, думаешь, что он сидит без тебя дома и вяжет носочки?!
Олег представил Петьку, сидящего со спицами в кресле, и ему стало смешно.
– Он такой же занятой, как и ты…
Пройдя в прихожую, к столику с телефоном, Олег набрал номер.
– Вас слушают…
Тот, кто никогда не разговаривал с тетушкой, наверняка принял бы ее за вполне полноценного мужчину: она много курила, и низкий от природы голос превратился с годами в бас.
– Это я, твой блудный племянник. Ты не спишь?
– Ты же знаешь, дорогой, я рано встаю и поздно ложусь. Таков уж печальный удел стариков. Когда-нибудь ты меня поймешь… Очень хорошо, что позвонил. Я стала сомневаться, существуете ли вы. Разве можно так истязать себя? Неужели нельзя ничего предпринять, чтобы уйти с этой противной работы? Ну ладно, ладно. Я знаю: ты не любишь подобных разговоров. Но все-таки подумай, я тебя умоляю.
Мембрана дрожала и сотрясалась от зычного голоса. Олег отнес трубку от уха и слушал на расстоянии.
– У тебя, надеюсь, все в порядке? – спросил он.
– Да, конечно, но я хотела бы тебя видеть. И по возможности скорей. Ты не мог бы выбраться ко мне, скажем, сегодня или завтра?
– Постараюсь. Но ты мне можешь сказать, в чем дело?
– Нет-нет. Это не телефонный разговор. Как там Петруня? Уж он-то мог бы позвонить своей старой больной тетке.
– Конечно. Я ему объявлю выговор. А выписку из приказа привезу к тебе. Хорошо?
– Ладно, ладно… Можно и без бюрократизма. Берегите себя, дети мои.
4
Вернувшись в комнату, Олег собрал со стола грязную посуду и, не найдя, куда бы поставить, опустил тарелки на пол возле черного старомодного буфета с зеркальными стеклами. Потом вытер носовым платком полинявшую синюю клеенку.
От удара ноги дверь отскочила и стукнулась о стену. Петька прижимал к себе свертки, которые сползли на живот, и тяжело дышал.
– Чего запыхался?
– Лифт не работает. Запыхаешься. – Петька выложил на стол покупки. – Отдельной, как водится, нет. Взял ветчинной, не возражаешь? Сыр латвийский, масло…
– Черт-те что творится. – Олег вынимал и ставил обратно в буфет чашки. – Все грязное. Хоть бы ты, что ли, иногда прибирал в комнате. Посмотри, что делается на письменном столе. А пол? На улице чище. Видела бы мама, какой мы тут с тобой свинарник развели, она бы нам всыпала по первое число.
– Это все потому, что ты свою очередь не соблюдаешь.
– Ах, так? Значит, будем считаться? Получу отпуск – я тебе все дни отдам.
– Отпуск? Ха-ха! Сказки бабушки Арины. В смысле Родионовны… Дай твою пушку почищу, а? Думаешь, не сумею?
Петька наклонился над стулом и поводил тыльной стороной указательного пальца по холодной загаристой коже пистолетной кобуры.
– Не смей близко подходить к оружию. Ведь сказано – раз и навсегда! – Олег поспешно выхватил пояс с револьвером, закрепил на животе толстую медную пряжку.
Брат уныло поморщился, – настроение было испорчено. Оно у него колебалось часто и резко, как у всякого холерика. Пока Олег приготавливал завтрак, Петька разгуливал по комнате и что-то ворчал себе под нос.
– Бур-бур-бур, бур-бур-бур, – поддразнил его Олег. – Я думал, что ты пионер – всем пример. А ты всего-навсего… Знаешь кто? Баба-яга. Выше голову!
– Да-а, тебе хорошо… У всех скоро Первое мая, а у тебя что? Дежурство. Потом экзамены будешь сдавать? Будешь. Потом начнутся отпуска. Меня в лагерь. Так или не так? Думаешь, я не знаю?
Олегу было неприятно сознаваться в Петькиной правоте, и он сделал вид, что не слышал его болтовни. Он сходил в кухню, принес чайник и, разливая кипяток по стаканам, вдруг вспомнил.
– Совсем из головы вон. Я тебе тут штуковину одну принес. Не знаю, пригодится или нет.
Петька вытянул шею и насторожился. А Олег открыл узкую дверцу шкафа, вытащил картонную коробку. Петьку не пришлось звать: он уже был тут, рядом. Он побултыхал коробку над красным, чуть оттопыренным ухом, прислушался и нетерпеливо разорвал бумажную бечевку.
– А-а!.. Катушка! Для спиннинга. Олежка! Да это же мечта моей жизни! – Не выпуская из правой руки катушки, Петька подпрыгнул, повис на шее брата и прижался к его щеке. – Я же всегда говорил, что ты самый мировой парень на свете.
– Ладно, ладно, без преувеличений, – сказал Олег, ставя Петьку на пол.
– Смотри, с тормозом, все как надо. Ну теперь держись, щуки и сомы! Всех переловим… Я возьму ее в школу?
– А что, у вас там рыба плавает?
– Не ехидничай с утра. Разве не понимаешь, человеку похвастаться нужно. Но я у тебя послушный. Правда? На, спрячь и не показывай больше пока. А то я за себя не ручаюсь.
Олег вспорол кривым ножом банку со шпротами, намазал толстые куски хлеба маслом:
– Ешь да поторапливайся.
– А на море можно ловить спиннингом? Как забросишь, ж-ж-ж! Начнешь накручивать, а там какой-нибудь иглобрюх сидит или морской черт. Потеха! Я читал про морского черта. Ох и страшило! От одной морды в обморок можно свалиться… Ну-ка, сколько времени? У-у! Опаздываю. У меня сегодня нехорошее предчувствие: наверняка по алгебре спросят.
– Вчера, конечно, его не было? Бедняга… Ты про письмо говорил. Где оно?
– Да на столе же. – Петька ловко проник рукой в чрево горы. – Вот. Ну, пока! Не забудь побрить щетину. Да приходи поскорее. Слышишь?
Олег ощипал бок серо-голубого конверта и вытянул белую упругую открытку. Это была повестка в милицию. Такие Олег рассылал, приглашая к себе на допрос. На этой же типографский шрифт был довольно тщательно подделан тушью, а вместо точек фиолетовыми чернилами были вписаны слова. Он прочитал:
«Просим явиться к 20 часам 26 апреля с. г. в Дом кратковременного отдыха по адресу: Крюков канал, 19, третья подворотня налево, IV этаж, комната 38 к сотруднику Финтикультяпову или позвонить по тел. нет. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, хорошее настроение и пустой желудок».
Подобными штучками мог заниматься только Геннадий, мастер на розыгрыши и мистификации. Олег повертел открытку, разглядывая и перечитывая Генкин труд, потом сложил ее вдвое и сунул в карман.
5
У стен домов, в тени, асфальт был черным, пупырчатым и скользким. Камень источал холод и сырость. Олег перешел на людную солнечную сторону, где худели, брызгаясь, сосульки и с устрашающим грохотом вываливались из водосточных труб под ноги прохожим ледяные болванки.
На тротуаре женщины плавно и бережно покачивали коляски с народившимися за зиму младенцами, а мальчишки, не обращая внимания на мокрядь, шумно бегали по лужам.
Олег жил в центральном, старом Ленинграде, а работал в новом. Для того чтобы добраться до него, нужно было два квартала пройти пешком, а потом сесть в душный, всегда переполненный автобус и ехать двадцать семь минут.
На Театральной площади, у газетного киоска, пестревшего, как рекламный столб, журналами, марками, значками, лотерейными билетами, Олег поднял воротник, погнул козырек светлой кепки и взлохматил, выпустив на лоб чуть вьющиеся волосы. Дождавшись, когда у киоска никого не было, он круто вышел из-за угла и лег локтями на доску, заменявшую прилавок.
– «Футбол» есть? – спросил он свирепо, сведя к переносице брови.
Старуха-киоскерша, носатая, худая, но бесформенная и неповоротливая в своих теплых одеждах, засмеялась мелким дрожащим смешком, откинув голову:
– Ах ты проказник! Придумаешь такое… Откуда же у меня «Футбол»? Он ведь по понедельникам…
– А «За рубежом»?
– И «За рубежом» нет.
– А жалобная книга?
Шутка совсем развеселила Максимовну. Олег расправил воротник и спросил:
– Что новенького?
– У меня все новенькое, старье не держим… А «Футбол» дома тебя дожидается, взяла я. – Голос у старухи был каркающий, простуженный.
Подходили торопливо люди, произносили, не глядя на киоскершу, газетные названия, рылись в карманах, доставая мелочь. Небыстрыми, захолодевшими пальцами, торчащими из заштопанных митенок, Максимовна растаскивала вложенные друг в друга листы, бренчала медяками в черном пластмассовом блюдечке.
Олег тоже взял «Смену» и «Известия».
– Как Петька-то мой? Не буянит?
– Ничего. Он у тебя нешумный, да и самостоятельный. Придет из школы – первым долгом за чайник… А вчера говорит: «Давайте, Максимовна, чаи гонять». Мы, мол, с вами одиночки. На полном серьезе. Ох, время-то, времечко бежит. Давно ли за мамкин подол цеплялся? А теперь… Вот только бы твой пострел без меня квартиру не поджег. Позавчера, в среду, весь вечер на кухне уголья толкли: приятель к нему пришел. Перемазались, что трубочисты, да и пол черным-чернехонек. Зачем, спрашиваю, мараетесь? Строго так спрашиваю. А мы, говорят, порох делаем…
– Порох?
– Вот-вот, я тоже так и обомлела. Для чего же это вам порох понадобился? Да разве скажут. А Петька божится, что, мол, жечь его не будут. Так ведь кто знает: вчера – одно, сегодня – иное. Вот и сижу сама не своя. Газеты продаю, а то и дело в нашу сторону гляну: не валит ли дым. Боюсь огня – страсть.
– Что за приятель? – спросил Олег, хмурясь.
– Да как же… Вовка. Иль нет… Борька… Ах ты господи, память-то старая. Не упомнила. Чернявенький такой, невысокий, родимое пятнышко на щеке, будто кто пальцем прижал… Бойкий такой мальчонка.
– Балахонов это. Знаю. Толька Балахонов.
– И верно, Балахонов. Он и есть. Петька его еще при мне Балахончиком звал.
– Вот я им покажу порох… Выдумают же, черти. Пиротехники!
– Ладно уж, ты не больно-то… Петька ребенок еще. Я ведь так просто, поболтать люблю. Может, им в школе такое задание дано?
– Если предположить, что школа – пороховой завод, тогда возможно. Всего хорошего, Максимовна. Здорово вы здесь мерзнете, в будке? Печка-то есть?
– Есть, есть. А отогреваюсь все одно дома.
Максимовна осталась в своей избушке, а Олег пересек сквер и побежал к подходившему автобусу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?