Текст книги "Неделимое. Pro-любовь…"
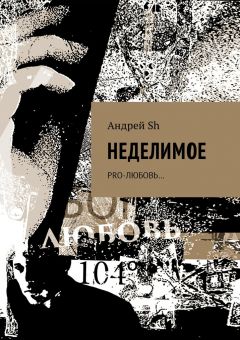
Автор книги: Андрей Sh
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
9
Круглолицая, с проникновенным взглядом лани – глаза, живущие сами по себе, восхищающие поэтов и не дающие разыграться похоти, с пухлыми детскими губками и почти прямыми бровями, делающими лик взрослее и строже; всегда в тугом однотонном платочке, в простеньком платье до пят: светло-серый, пепельный – главные цвета Умиды; и никаких восточных изысков, побрякушек – такое ощущение, что девушка дала обет безбрачия собственной красоте. Худенькая, с плечами, как у семиклассницы, она могла бы сгодиться мне в дочери, если бы по внутреннему мироощущению не превосходила сотни таких, как я, и мудрецов заодно с мыслителями. И не об уме речь – земная шкала IQ неуместна: напротив, юная цыганка мало чем отличалась от Машеньки, познающей среду обитания собирательством плюсов и минусов. Дело в простоте, с которой она определяла место в клане, в жизни, в конкретном случае, в отрезке времени и которой следовала повсеместно, какие бы трудности и комбинации ни вставали на её пути. Самая молодая, удачливая, отчаянная и бескорыстная переносчица, прославившая Сибирь на весь мир. Вот кем была узбечка. Она не принимала участия во взвешивании детей, назначении платы: этим занимались Лила и свадебный генерал Баро – тщедушный разодетый в шелка барон лет пятидесяти с жидкими свисающими усиками, с желтоватым бельмом на правом глазу (отчего левый, казалось, набухает гноем), единственный персонаж, неприятно выделявшийся на фоне сородичей. К Умиде стекались люди со всего меридиана, запись велась на месяцы вперёд: не более человека в неделю. А девушка переносила чаще. И кто знает, какой ценой.
Я любил Умиду, собственно, как Машу, Соню и даже истеричную Лизу. И Умида любила меня: так найдёныш-котёнок процарапывается в душу, совершенно не различая её оттенков, ища созвучий. Странная это любовь. Если Машенькой я восполнял ущербность отцовства, в Софии искал отголоски растраченной дружбы, Елизавету воспринимал ностальгией по семейной жизни, то цыганка покорила любовью как таковой. Ни «за что», ни «потому что», а просто так. Она любила малышку – я любил её за эту любовь, любила цветок, и я любил её за любовь к цветку, любила Баро непонятно за какие заслуги – я вздрагивал от омерзения и восхищался ненормальной любовью. Изумительное чувство возникало приступами, самопроизвольно, независимо от того, где находилась узбечка. Достаточно было вспомнить взгляд, имя, чтобы утратить реальность и превратиться в сантиментального нытика: накормить вонючего попрошайку на ступенях кафе, обнаружить в облачке медвежонка Умку из детства (а не приметы плохой погоды), стерпеть закидоны Егора, а то и всю семейку осчастливить участием – немыслимая щедрость. Вот что творила со мной эта девушка. Я будто любил любовь Умиды, а не Умиду-человека.
И будь я безнадёжным платоником, давно бы утратил вкус жизни, таскался бы за своей Эсмеральдой, как Гренгуар, Фролло и Квазимодо14 вместе взятые. Но, увы, с некоторых пор обленился душой, дабы изобретать чудеса и превращать волшебные ленты в какую-то романтическую историю. Мне доставало созерцания предмета искусства, если хотите, или уникальной научной загадки, зашифрованной в цыганском таборе. И любить любовь безопаснее, чем любить – ни к чему не обязывает. Как восхищаться музыкой на одной волне с кем-то, кто восхищается музыкой: всегда есть кнопка самоконтроля, всегда может закончиться трек. А любовь отключает разум, как страсть отключает мозг… Нет, нет, похоть жила отдельно. И если уж на то пошло, чаще волновала Сонечка кукольными нарядами и, главное, рассеянным взглядом «мимо меня». И давно бы симпатия переросла во что-то сладострастное, а то и развратное (у бездетной Софьи так никто и не завёлся), не будь хозяйка кафе столь внимательна к прошлому и столь нетерпима к будущему. Но если честно, и здесь не усердствовал: доступных нимфоманок водилось в достатке…
10
– А, Матве-е-ейка! Садись, пей, грейся! Прекрасный день! Прекрасные люди!
– Привет, Лила. А Умида?
– Двух мальцов за раз! Сильная Умида! На той стороне Умида! Отдыхает Умида!
– За раз?
– Сама решила. Узбечка. Что ты хочешь? О! Наша красавица!
Изрядно хмельная Лила расплылась в кривой улыбке и протянула к малышке костлявые руки с когтистыми пальцами, что в свете костра походило на фатальную сцену из фильма ужасов. Никогда не понимал, как могут уживаться в человеке противоречия, несовместимые с бытием, с любыми его оттенками. Но Машенька с искренней радостью впорхнула в объятия «монстра» и тут же запустила проворные ладошки в подол. Поистине, «чем страшнее чудовище, тем больше к нему почитания»: вспомнился вдруг один персонаж из Сониной забегаловки – пьяница-актёр, обожающий комментировать новости.
– Ах, чертовка! – цыганка чмокнула белокурую макушку сальными губами и первой выудила из тряпья батончик «Баунти». – Лопай, лопай, моя золотая! – прозвучало по-сатанински, ей-богу.
– Жирок подкачиваешь, Лила? Егору бы не понравилось, – живо представилась ярость отца.
– Да брось, Матвей! – загоготала старуха. – Ребячью радость в калориях мерить! Фу! Девчата от мыслей толстеют, а не от конфет.
Разговаривать о делах при таком коварном благодушии – бессмысленно. Как бы Лила ни пестовала малышку, что бы там ни молола спьяну, бизнес оставался бизнесом. Разумеется, папа не морил дочку голодом, и развивалась она, как и положено ребёнку: росла и крепла. Год назад весила около девяти килограммов, и с учётом дикого цыганского курса о перемещении не могло быть и речи. Сегодня Мася дотянула до двенадцати с хвостиком, что в зафиксированных унциях означало зловещую цифру – 192,17. Четверть миллиона долларов, чтоб вы были здоровы! Егор взвешивал малышку почти каждый день (ритуальная бессмыслица с дотошными записями), мрачнел от неучтённых граммов, гонял в туалет, снова взвешивал. Слава богу, Машеньке это казалось игрой, не более: глобальные проблемы девочку не заботили. Отец пахал на трёх работах, традиционно доступных гуманитарию в кризисе, – грузчиком, сторожем и курьером; мама – третья скрипачка во втором ряду симфонического оркестра – давала частные уроки музыки и следила за тестем: выносить инвалида теперь было некому. Разделённая квартира практически ничего не стоила, максимум двадцать тысяч; богатых дядюшек при смерти не имелось: вообще родные как-то сразу растворились, узнав о проблемах Егора, Лиза же была сиротой при живых родителях. Мои «прибыли» исчислялись стабильной, но не такой уж весомой рентой от сдачи недвижимости в Таиланде, причём, не своей; банки, понятно, социальные драмы не интересовали; а отчаянные посты тонули в фальшивом сочувствии «лайков». Итого доходы семьи, включая пенсию и квартплату жильца, и не беря во внимание случайный калым, составляли около восьмидесяти тысяч рублей – примерно поровну на каждую сторону. А Мася тянулась, исправно набирала вес, то ли на счастье, то ли на горе родителям, и надежда таяла пропорционально взрослению.
– А то бы оставила дочь отцу, чего упираться-то? – пьяная старуха вечно заводила одну и ту же пластинку. – Лизка – она истеричка, рохля, спортит Машку-то! А наплодит ещё! Хлопот-то… Молода, красива, живуча! А Егорка толковый, даром пропойца… Ну, ничего, поостынет, коли решат… И мне бы в радость.
– Тебе-то какая радость, Лила?! – в такие моменты хотелось её придушить. – Или готова упустить выгоду? А что скажет барон?
– Барон – долдон! Я тут – барон!
– О да, уважаемая! – я рассмеялся, как можно ядовитее. – Останется Машенька здесь – по нулям и горе матери, переправишь даром – опять же по нулям, но счастье. Терять-то вроде и нечего. Тебе и решать.
– Даром? – цыганка будто протрезвела, но не уловила иронии. – Это никаких… Не поймут…
– Ты ж – начальница!
– Ай, Матвейка! Ай, заболтал старуху! Нехорошо, Матвейка! Садись, лучше. Пей лучше! Хороший день! Хорошие люди…
– Да, да, Лила, кого-то вы осчастливили сегодня, – махнул рукой и направился к Умиде.
Пьяные ромы несносны. Эти, во всяком случае. Чужим не хамят, в драку с ножами не лезут – скорее, трусливы до храбрости, не норовят обслюнявить в чувствах, не пускают слезу, не читают морали. Но под градусом их легендарная плутоватость становится какой-то непрошибаемой, школьной, из разряда «дурак – сам дурак». Стоит подловить на мелкой безобидной лжи, она тут же обрастает несусветным враньём, вольно-невольно задаёшься вопросом: точно не идиот? И главное, не вычислить цель бессовестного лукавства. Я же знаю, что они постоянно внушают Егору: Машенька-де без матери пропадёт, и уже бы перенесли, но без денег никак – умрёт ребёнок, люлей накажут; таковы условия хозяина, бога, космоса… – здесь вариации бесконечны. И Егор не то чтобы вёлся – он ненавидел кочевников, материл их и даже врезал барону однажды (за что извинялся после перед старухой): нет, скорее смирялся и опускал руки. С одной стороны терзаемый Елизаветой, то умоляющей, то требующей вернуть дочь, то пристально следящей за её рационом, с другой – цыганами, он перестал верить во всё, что нельзя потрогать руками: в любовь, в справедливость, в вечное сияние чистого разума. В золото, полагаю, тоже. Не ищущие головой не знают отчаяния – стимула нет, пусть и душа в поиске. Угасал Егор.
11
Умида отдыхала на той стороне в небольшой палатке в полуметре от черты, разделяющей мир на небольшом отрезке в дальней части Юности: восточники попадали сюда с другого примыкающего острова, через мостик над узкой протокой. Собственно, и табор поделился на два лагеря: из соображений безопасности и для удобства клиентов. В центре условной границы – одинаковые полупрозрачные шатры, собранные половинками друг против друга, будто эстрады с минимальным зазором меж ними. Здесь перемещали детей. Что в принципе можно было сделать в любой точке 104-й, но антураж оправдывал себя: и цыганам спокойнее (нападения в случае неудач – не редкость) и эстетика не страдала – рубеж пропускал исключительно в первозданном виде. Поэтому люли имели минимум по два комплекта повседневной одежды, и не особо стремились соответствовать привычному облику: ряженые – не в счёт. Тут же располагались просторные гостевые юрты, увитые на азиатский манер пёстрыми лентами, убранные изнутри коврами, парчой и шкурами, с дежурным запасом вина, водки, сока, фруктов и изысканных сладостей. Разумная щедрость при такой-то марже. Чего не скажешь об обычно захламлённых кельях самих цыган.
Быт же Умиды, нехитрый гардероб являлись исключением во всём: ни восточной показной роскоши, ни цыганской сорочьей безвкусицы – этакий спартанско-монашеский конформизм. Одноместные палатки, как и шатры, и юрты, разбитые зеркально, наверняка приобретались в одном магазине и отличались только нашивками на козырьках: на западной – жёлтая, на противоположной – оранжевая (единственные яркие тона узбечки). Кажется, и заплаты на серой ткани возникали парно. Находились убежища поодаль от лагеря в поросли березняка, так, что легко можно было перебираться из «квартиры» в «квартиру», не боясь обнаружиться для посторонних. И никто никогда не видел Умиду обнажённой – это признавали и городские сплетники, и самые болтливые соплеменники. Поэтому в таинстве перемещений силуэт нагой девушки, остававшейся один на один с ребёнком за матовой тканью, будоражил воображение. Лила, Баро, две юные ассистентки из табора да мы с Масяней – те немногие, кого узбечка допускала на свою территорию. А чужаков гнала, упреждая отрывистым визгом сыча. Я слышал. Мягко говоря – морозные ощущения.
Изнутри кельи выглядели столь же синхронизированно, аккуратно и рационально: одинаковые чёрные карематы по всей площади, однотонные коричневые спальники, тёмно-зелёные тряпичные рюкзачки среднего объёма – они же служили подушками, плетёные корзины с нехитрой утварью и личными вещями (подозреваю, идентичными) и винтажные фонарики под крышами – такие используют на летних верандах. Некоторую дисгармонию в угнетающий минимализм, видимо, в унисон нашивкам на козырьках, вносили улыбчивые и слегка шальные образы Христа и Будды, выписанные позолотой и охрой на дальних стенках палаток – с запада и с востока, соответственно. Со временем я привык к необычным собеседникам Умиды, если они, конечно, беседовали, но поначалу их фривольные аватары обескураживали: создавалось впечатление, что боги дурачатся, глядя на поделённый мир, как на шахматную доску. А узбечка лишь пожимала плечами: «Вижу так. Вы не замечали? Ведь люди они!» «Конечно, конечно, люди!» – приходилось соглашаться. В конце концов, правда. Но чудачка и здесь разрушала стереотипы: «Сразу родились людьми. А мы людьми становимся трудно и через время. Раньше, позже… Все становимся». Обнадёживало, безусловно.
– Можно? – осторожно позвал девушку.
– Матвейка? – тихо отозвалась Умида. – Пришли! Как замечательно пришли… Чай у входа, в термосе. Идите, пожалуйста. Идите, Машенька.
Ещё одна удивительная особенность: ко всем без исключения обращаться на «вы». И к малышам, пускающим пузыри, и к ребятне посмышлённее – те недоумённо озирались по сторонам и подозрительно рассматривали странную тётю, и к взрослым, кои тут же переставали тыкать. И к животным, ей-богу! Сам слышал, как она учтиво разговаривала с лошадью.
12
Пока я пробирался к палатке напротив, Умида расположилась у входа со своей стороны, подобрав ноги. Выглядела измотанной, вялой: глаза потускнели, ввалились, и без того чернущие, стали совсем угольными, как у образцового инопланетянина; губы потрескались, побелели; резко обозначились скулы. Но девушка старалась бодриться и улыбаться: искренне и виновато, словно каясь на всякий случай.
– Я не вовремя. Может, после…
– Нет, нет, садитесь, Матвейка. Немножко испортилась Умида. Только немножко, снаружи, – шутит ещё.
– Простите?
– А Машенька? Маша!
– С Лилой она. Пока шоколадки не вытаскает – не успокоится.
– Бедненькая малышка, бедненькая. Детки такие слабые, у них нет защиты против конфет.
– Вы устали всё же. Давайте я завтра…
– Матвейка, возьмите руку, – Умида внезапно подалась вперёд, закатала рукав и протянула игрушечную ладонь. – Чувствуете?
– Лёд! – подушечки пальцев обжигало холодом. – Господи! Замёрзла совсем!
– Остыла, Матвейка. Деткам нужно тепла гораздо больше, чем взрослым. Иначе гибнут при переходе… А теперь? Чувствуете?
– Да… Да. Поразительно! – в какие-то секунды ладонь полыхнула жаром.
– Это – вы, Матвейка. А говорите – завтра… Мне трудно, если никого нет близко.
– А почему не помогают ваши?
– Они – семья.
– Тем более.
– Матвейка, у семьи не забирают то, что прибыло от тебя. Можно только давать.
– То есть, – никак не мог привыкнуть к её простоте, – какая-то часть меня прямо сейчас перетекает к вашей семье?
– Конечно. Лучшая часть! – Умида оживала: я едва не отдёрнул руку. – Нет, нет, не бойтесь. Пока вас любят – вы не иссякнете! – она слегка пожала мне пальцы и убрала ладонь. – Спасибо, Матвейка! Я вас люблю!
И это невинное признание могло быть двести восемьдесят четвёртым с момента нашего знакомства, веди я учёт. При первой же встрече позвучало нечто подобное: «Вас надо любить, Матвейка». Тогда мы с Егором заявились в табор изрядно подшофе и устроили барону судилище со всеми вытекающими: оскорбления, крики, угрозы, едва до мордобоя не дошло. У приятеля вовремя отобрали биту. Он ушёл, а я остался у костра допивать прихваченную на всякий случай миротворческую водку и ещё долго пытался самоидентифицироваться в области человеколюбия. Добродушные люли, как мне показалось, слушали с интересом, сочувствием, с аккомпанементом – кто-то приглушённо перебирал струны, а потом появилась узбечка, которую до того не видел, и сказала то, что сказала. Кому «надо» и «почему» – не уточнил. Как и сейчас не нашёлся, чем ей ответить.
– А иссякнуть всё-таки можно, Матвейка. – Строгое лицо Умиды стало непроницаемым, брови – в линию, как всегда, когда она сообщала сакральные вещи. – Одинокие отдают намного больше, чем получают. Плохо это, неправильно.
– Мне казалось, наоборот. Кто ничем не делится, тот прирастает, – попытался я отшутиться.
– В том-то и дело, Матвейка. Одинокие не умеют делить: рассчитывая на большее, отдают всё. Они так несчастны. Всё время теряют. Всё время теряют…
– Вы говорите о жертве или о жадности?
– Ни о том и ни о другом, Матвейка. Одинокий человек иссякает для мира, потому что миру нечем его восполнить. Иисус, Будда… ушли одинокими.
– Польщён, конечно, сравнением, Умида, – начал я осторожно, понимая, что дело вовсе не в принципах или оценках, а по обыкновению имеется в виду что-то параллельное моим ощущениям, – но разве жертва Христа не принесла ему любовь человечества?
– Любовь… – девушка широко раскрыла глаза, и в них мотыльками заплясали ночные фонарики (зажёг между делом). – Как-то не так её знаю, Матвейка. Иисус говорил о покаянии и всепрощении, о любви Отца небесного, о добре, о вере, как о птицах любви. Но люди распяли его, сколь ни велик был дар человеку. Распяли, одинокого в любви и в знании… – на щеках появились первые слёзы. – Не потому, что не верили. Нет! О нет! Люди… Они испугались. Боялись полюбить просто так! Понимаете? Добиваться любви, радоваться горению, страдать без любви, ненавидеть, когда её много, – привыкли. А тут им сказали: любят. Всякими. И хорошими, и гадкими. Просто так. Не они, понимаете? Их любят! Как в такое поверить, Матвейка? И ведь с этим пришёл Христос. Только с этим! Любовь – превыше веры, Матвейка. Веришь – не любишь – так не бывает. Наоборот. Любить – значит верить. Любить – не быть одиноким. Понимаете?
Нет, ничего не понял. Слишком просто и близко. Вроде как отгони дурную мысль, и она покажется истиной на расстоянии. Туго. Но вид плачущей девушки, что случалось нередко при таких разговорах (а философские темы возникали спонтанно из ничего и также быстро уходили под стать настроению), требовал хотя бы кивка. Говорю же, узбечка обладала уникальным даром взрослого ребёнка: там, где мы, обычные люди, спотыкались и шли дальше, прикрываясь собственным равнодушием либо трендами общества, она падала, расшибала нос, огорчалась и вставала, лишь находя нужные ответы в опыте, а не в знании. Библию Умида не читала, историю и учение Христа постигала в мусульманской Азии, общаясь с вездесущими европейскими миссионерами. Но здесь я частенько видел её у Харлампиевской церкви, от которой западникам достались ворота, вход и северный придел. Внутрь вроде бы не заходила. Хотя, кто знает: с восточной стороны храм тоже открыли.
– Понимаете? – настаивала девушка.
– Не уверен, – пришлось-таки признаться. – Дети ждут от родителей ласки, хитрые дети, вроде Масяни, от старых цыганок ждут конфет, влюблённые ждут взаимности. Так и верующие любят Христа и постоянно что-то ждут от бога.
– Вот… Любят Христа, а просят у бога!
– Но ведь никто не любит просто так, Умида? – пожал я плечами всё-таки. – И разве любовь к богу заменяет любовь земную?
– Я люблю просто так! Бог любит! – засмеялась узбечка. – Ничего сложного!
– Действительно. Трижды три.
13
Потом болтали обо всём на свете: о вкусе чая, погоде, о запахе осени и о черте, которая почему-то не отделяет осадки, грязь и не препятствует холодному ветру. Умида восполнялась, крепла, а я эгоистично радовался, что философский камень остался на её стороне. Между делом она рассказала о чудесных китайских близняшках – мальчике и девочке, разлучённых с матерью прямо в роддоме, буквально через минуты после появления на свет. Год семья мыкалась по инстанциям, взывала, собирала средства, что в провинциальном Китае не просто: и сами разорились, и родню выдоили, а не наскребли и на килограмм. Помог интернет, как ни странно: душераздирающая история впечатлила владельца крупной энергетической корпорации. Иркутск выбрали сразу, наслышанные об узбечке: малышей привезли с запада, родители приехали с востока. Именно они, боясь разлучать близнецов, вопреки риску и логике настояли на их совместном перемещении. Раньше переносчики такого не делали. Умиде было страшно, переживала за ребятишек, но решилась-таки. И барона осекла, попытавшегося извлечь дополнительную выгоду из «обстоятельств».
– Проявила характер. Так говорят? – развеселилась девушка и потрясла кулачками совсем как ребёнок. – Обошлось, спасибо боженьке. Девочка только залипла… Сегодня я боком шла, не как обычно: мальчика сначала, после её. Прямо почувствовала, как остаётся, отрывается. Такой жар был… И раз! Лёд раскалённый! В голове – взрыв! Чудные детские мысли, а паника взрослая. Ух! Подумала, какая же малышка странная! Погибнем вот, а ей корова мерещится! Пятнистая, со спиленными рогами, тощая и глаза шальные. – Умида звонко расхохоталась. – Ну?! Корова! Встречалась, оказывается, по пути в Иркутск… В общем, вовремя забрали у меня Гуанга15, а вот с Линг16 пришлось договариваться, корову посимпатичнее делать. Оттого и устала немного.
«Немного», как выяснилось, – то ли глубокий обморок, то ли транс, из которого узбечку выводили всем табором: перепугала и цыган, и родителей малышей. Тем более удивительно, с какой лёгкостью она рассказывала о событиях, едва не стоивших жизни ей и ребёнку. Детей осмотрел нанятый врач – никаких отклонений. Более того, близняшки, оказавшись на руках у матери, будто вновь приросли пуповиной… И теперь Умида светилась. Счастье наконец вырвалось наружу. Счастье, похожее на крик младенца.
– Такие забавные! Не представляете, Матвейка! Перемещённые впрямь рождаются дважды… Хорошо это!
Именно так представлял, поэтому старательно избегал одной лишь темы: боялся и намекнуть о перемещении Машеньки, хорошо понимая, что деловые вопросы от девушки не зависят. А уговаривать пойти против табора было бы крайне жестоко: у кочевников свои законы, и карают они радикально, невзирая на заслуги и статусы. И Баро, и Лила заведомо пресекали помыслы на сей счёт, запугивая потенциальных клиентов байками о кровожадных сородичах где-то на других точках меридиана: там переносчика избили до полусмерти, там ослепили, там вовсе убили. «Мы-то что? Мы добрые, сопереживаем. Не такие мы, – подчёркивал барон. – Подневольные только. Милосердие в нашем бизнесе воровства хуже. Пойди, докажи хозяевам…» Кто такие «хозяева», где их искать, люли, разумеется, умалчивали или изобретали невероятные детективные истории, из коих следовало, что тайная власть цыган – не хухры-мухры, а как минимум – стержень мира. Похоже, и сами верили в ахинею, выражая открытое презрение «конкурентам» – евреям и американцам. Конечно, я принимал игру – знакомые манипуляции, чётко поделённые роли по принципу «плохой-хороший» и вовсе не собирался убеждать кого-то. Зачем? Я терпеливо ждал, когда они проколются – главный принцип PR. Наверное, очень хотелось помочь Машеньке, с которой почти сроднился.
– Лиза на днях приходила, – Умиде неспокойно, сама постоянно возвращается к больному вопросу. – Умоляла, плакала… А что я могу? Барон и слышать не хочет. Даже обмен предложила.
Я похолодел. В сознании людей посторонних возможность обмена витала на уровне сплетен, домыслов, вроде существования зелёных человечков, нередко «сенсации» появлялись в таблоидах (Елизавета скупала газеты пачками, что, естественно, бесило Егора), а шарлатаны устраивали научно-практические конференции, вытягивая последние деньги из несчастных родителей. Поговаривали, что в прериях Мексики появились целые секты, исповедующие обмен, а Гималаи наводнили псевдотибетские мудрецы, готовые стать проводниками. Всего за полгода для самых отчаявшихся, а вскоре и для миллионов мистиков, это стало новой суррогатной религией – утешительной верой в бога, в себя и в тонкую грань между богом и его творением. Никто не призывал отказываться от Аллаха, Кришны или Маниту, равно как и от единобожия, никто не поносил христианские заповеди, не попирал учения Будды или Заратуштры. И человек оставался человеком со всеми его мерзостями и добродетелями. Грань – вот что стало основой религии обмена: этакая субстанция, о которой все знают, но никто не видел, не щупал, за исключением «гуру» и «посвящённых»; сокрытая в меридиане, она очищала, избавляла от страданий и давала страждущим некую квоту взамен обречённого мира. Незамысловатый «ченч», божественное расположение авансом… – не ново для теософии. Разумеется, подходить к черте порочным, унылым, непросветлённым, просто неподготовленным не полагалось, и с этого сектанты и лжеучёные неплохо кормились.
А на практике люди погибали, исчезали: во всяком случае, не встречал внятных свидетельств о благополучном перемещении взрослого человека. Испытуемого удаляли в пустынное место (один на один с богом, разумеется), накачивали наркотиками, вводили в транс – предполагалось, что через меридиан можно перейти лишь в бессознательном состоянии, и больше того никто не видел. А всяческие подозрения, слежки и внедрения шпионов жёстко пресекались, как и положено в сектах. Что творилось в подпольных лабораториях, и думать не хочется. Но. Всегда есть «но», порождающее любую религию. Ходили слухи о супервозможностях отдельных цыган: якобы некоторые из них, наиболее чистокровные, действительно умели перемещать не только детей, но и живой вес, равный собственному. При этом энергетика проводника и внутреннее стремление испытуемого сливались в единое сущее, оба подвергались риску: болезни, сомнения, а главное, необоюдное желание – всё могло привести к летальному исходу. «Непорочная сделка» – так называли это таблоиды: ни купить, ни заставить. Но между кем и кем?
– Умида… Ты… Вы… Ты когда-то…
– Нет… Ни разу, Матвейка.
– Говорят, переносчик всегда погибает.
– Не всегда, Матвейка.
– Так это – правда? Обмен существует?
– Я не знаю обмен, как понимают люди, Матвейка. Моя сестра перевела троих.
– А потом?
– Погибла, – на глаза девушки снова появились слёзы. – Баро любил её. Не такой злой Баро.
– Что сказал тебе… Вам?
– Кричал, угрожал. Но это – свободная сделка. Он не может её запретить.
– Не нужно, Умида! – моё возмущение подхватили вороны. – Мы найдём деньги!
– Не найдёте, Матвейка. Маме плохо. Девочке плохо…
– Умида!
Телефон запиликал вовремя. Разговор стал тягостным, слишком опасным, а я пока не готов был разубедить девушку в назревающем решении. Звонила Елизавета, потеряла Машеньку. Действительно, до полуночи – всего ничего.
– Пойду я, Умида… Волнуются.
– Конечно, Матвейка, конечно. Приходите завтра. Совсем оправлюсь.
– Умида… Не нужно никаких сделок. Решим. И думать забудьте! Иначе места себе не найду.
– Удивительный вы человек, Матвейка, – рассмеялась узбечка. – Уже и мир в два раза меньше стал, а вы всё места себе не найдёте. Не живёте, как будто скачете, себя перегнать хотите. Где-то же вам хорошо?
– Здесь, наверное, – пожал я плечами: где ещё? – До свидания, Умида.
Под сверлящим взглядом Баро я забрал Масяню у совсем опьяневшей Лилы, и до самого дома ребёнок манипулировал вполне по-взрослому: «Ветит обоим. Ичего ни арскажем!» Разумеется, не расскажем, солнышко. Себе – дороже… Проходя кафе, замахнул финальные двести, тут же, на крыльце, пожелал спокойной ночи замороченной хозяйке, хотя шалман только-только начинался, и поползли с Масяней наверх по мерцающим ступеням пожарной лестницы. А в голове, как обычно: «Ты умираешь, и бог говорит: «Не, не, тебе сюда нельзя, давай, уходи, ты должен уйти отсюда, ты должен быть один, ты должен быть один навечно…««17. В молекулы въелось. Гадский фильм. Софочка присоветовала… Ада нет – как бы светлое ощущение. Но есть и вечное понимание, что тебя не пускают домой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































