Текст книги "Исчезающее счастье литературы"
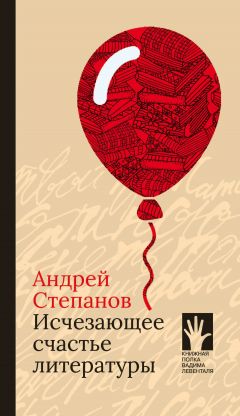
Автор книги: Андрей Степанов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Приложение
Метафизика падения: деколонизация Британской империи в зеркале «Винни-Пуха» (исследование в духе «Нового историзма»)
«Нос» Гоголя – пример того, что Хоми Баба назвал «колониальным раздвоением» и описал как необходимый аспект жизненного мира в имперской колонии. Часть тела можно потерять разными способами: в результате кастрации, или деколонизации, или, к примеру, бритья, или несколькими способами сразу. Изображая безликого колониального администратора, Гоголь представляет его нос как имперский фетиш – «метонимию присутствия», где присутствие недостижимо, а его черты неузнаваемы.
А. М. Эткинд. «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России»
В первой четверти XX века даже самым твердокаменным сторонникам колонизации стало ясно, что крупнейшая в истории империя доживает последние годы. Уже к началу века самоуправление получают Канада, Австралия и Новая Зеландия. И хотя победа в Первой мировой войне на время усилила позиции Британии, далее последовал целый ряд ударов: начавшийся в 1919 году решающий этап борьбы за освобождение Индии, отделение в 1921 году основной части Ирландии (чему предшествовало кровавое восстание) и в 1922 году – Египта. Это начало вызвало лавинообразную реакцию, и уже в 1923 году Имперская конференция признает право английских доминионов осуществлять собственную, независимую от метрополии внешнюю политику. «Винни-Пух» появляется в рождественском номере «Лондон ивнинг ньюз» 1925 года буквально накануне знаменитой «декларации Бальфура», провозгласившей образование Британского Содружества, что означало начало фазы падения империи, окончательно завершившейся только в 1960-е годы.
Антиколониальная тема в «Винни-Пухе» возникает, разумеется, не случайно. Алан Александр Милн, выпускник кембриджского Тринити-колледжа и офицер британской армии – разведчик и профессиональный военный пропагандист, – был прекрасно осведомлен обо всех неудачах имперской колониальной политики, следил за политическими событиями и очень любил давать прогнозы на будущее.
С этой точки зрения неслучаен характер героев его саги: все они представляют собой те или иные аллегории имперской темы. Здесь действуют, например, Кенга и крошка Ру (несомненно, представляющие Австралию и Новую Зеландию; эндемический характер изображенных животных не допускает иной интерпретации в принципе), а также бенгальский тигр Тигра, символизирующий главную британскую колонию – индийский субконтинент. Чрезвычайно важно интратекстуальное указание на то, что «Тигры не любят меда» – то есть на то, что готовая к освобождению Индия не собирается сама становиться колониальной империей, а проповедует духовность, ахимсу и непротивление злу насилием.
Взгляд «другого» – противопоставление жадного насильника-колонизатора и его смирной трудолюбивой жертвы – организует всю структуру милновского текста.
Книгу открывает описание привычного акта колониальной агрессии: Винни Пух лезет на дерево, чтобы отнять у диких пчел плоды их трудов. Поскольку, как мы узнаем впоследствии, в логове Пуха хранится значительный запас меда, очевидно, что он предпринимает подобную экспедицию не в первый раз, и в прошлом его набеги были не просто успешны, но позволяли колонизатору постоянно питаться чужим медом, производить который он сам не способен.
Любопытна песня, которую при этом исполняет агрессор («Если бы мишки были пчелами»): в ней выражается утопическая мечта об окончательном захвате территории колонии («If Bears were Bees, They’d build their nests at the bottom of trees») и последующем полном вытеснении колонизируемых. (С поправкой на внутреннюю колонизацию о том же самом написана сказка Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик»; оба автора саркастически относятся к мечтам своих героев.) Песня коннотирует спокойствие агрессора и его уверенность в своем превосходстве, хотя при этом объект колонизации трактуется в книге в духе описанного Эдвардом Саидом ориентализма – как «загадочный восток» и «иррациональный другой» (ср. слова агрессора: «Кто их поймет, этих пчел»).
Та же наглая уверенность в вечности и отприродности своего колониального статуса звучит в рассуждениях Винни-Пуха: «А мёд делается только для того, чтобы я мог его съесть» («And the only reason for making honey is I can eat it»).
Колониальный подтекст этого высказывания находим в знаменитом стихотворении Киплинга «Большие пароходы», где колонизация описывается именно как доставка продуктов питания:
«Oh, where are you going to, all you Big Steamers,
With England’s own coal, up and down the salt seas?»
«We are going to fetch you your bread and your butter,
Your beef, pork, and mutton, eggs, apples, and cheese.»
«And where will you fetch it from, all you Big Steamers,
And where shall I write you when you are away?»
«We fetch it from Melbourne, Quebec, and Vancouver.
Address us at Hobart, Hong-kong, and Bombay.»
Однако на этот раз привычное ограбление колоний заканчивается позорным и сокрушительным поражением. Пух летит вниз, причем процесс его полета-деколонизации прозорливо описывается Милном как весьма длительный (Пух пролетает несколько десятков футов, успевая по дороге обсудить в парламентских терминах собственное положение) и весьма болезненный (он все время ударяется о ветви), однако заканчивается сравнительно мягко – сохранением тела (основной территории) агрессора при незначительных травмах, которые заставляют его задуматься («вытащил из носа колючки и задумался»). Это «задумался», разумеется, не означает отказа Винни-Пуха от колониальных притязаний, а показывает стремление империи к модернизации при сохранении конечной цели – жизни за чужой счет. Кристофер Робин, играющий в описываемом универсуме роль Бога (показательно устранение этой фигуры в советском переводе), ниспосылает Пуху воздушный шар – сверхмощное орудие, знак наступления новой технической эпохи (ср. участие британской авиации – сильнейшей в мире на тот момент – в подавлении антиколониальных восстаний в Ираке в 1921 г. и в Афганистане в 1928 г.). Однако ослабевшей империи не просто решиться на открытую агрессию, и потому она прибегает к хитростям, пытаясь замаскировать в глазах всего мира свое оружие под цвет мирного голубого неба, а себя – под сравнительно безобидную тучку.
Пацифист, антимилитарист, гуманист, но в то же время британский патриот и офицер Милн заканчивает свою аллегорию компромиссом: выстрелом Кристофера Робина в воздушный шарик – жестом, выражающим надежду автора на то, что божественное Провидение все же спасет империю от полного уничтожения.
«Винни-Пух» – не единственное (анти)колониальное произведение этого автора. С ним может быть сопоставлена менее известная «Баллада о королевском бутерброде», где та же ситуация деколонизации описывается еще более недвусмысленно: корова, которую много лет успешно доили, решительно отказывается поставлять молоко к столу короля (несомненно, британского), однако потом, после уговоров молочницы (возможно, Черчилля), все же соглашается уже на договорных, а не приказных основаниях снабжать метрополию своими товарами. Компромиссный, медиирующий характер сюжетного построения, который мы видели в «Винни-Пухе», подтверждается и этим текстом.
P. S. Автор данного текста должен признаться в трех вещах:
1. Он не читал «Винни-Пуха». Как-то не сложилось ни в детстве, ни позднее. Смотрел только мультфильм.
2. Все подробности биографии Милна и истории крушения Британской империи взяты из Википедии. Автор в этих вопросах не силен.
3. Написание этого текста заняло 36 минут.
2017
Идиллия и прогресс
Чудаков А. П. Ложится мгла на старые ступени. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
Александр Павлович Чудаков был первым российским литературоведом, который поставил под сомнение одну из основных аксиом критической и герменевтической традиции – постулат о когерентности художественного текста. В начале 1970-х годов, как раз в те годы, когда создавались ставшие впоследствии классическими структуралистские труды Лотмана и Успенского, пронизанные идеей взаимосвязи всего со всем, он опубликовал свою «Поэтику Чехова», главной мыслью которой была «случайностность», то есть независимость, несвязанность, некоррелятивность повествовательных, предметных, сюжетных и идейных составляющих текста. Заметим, что почти одновременно была написана и известная работа Ролана Барта «Эффект реальности», выражавшая те же идеи, но гораздо менее радикально. «Поэтика Чехова» не только принесла автору мировую известность, но и стала предметом бесконечного спора: можно с уверенностью сказать, что в последние 35 лет не было ни одного интерпретатора Чехова, который не вступал бы в спор с Чудаковым, и этот спор еще не окончен.
Через тридцать лет А. П. Чудаков опубликовал роман «Ложится мгла на старые ступени», который критика оценила чрезвычайно высоко, как «удивительную книгу о том, как под большевистским игом сохранилась настоящая Россия»[6]6
Немзер А. С. Внук своего деда. Александр Чудаков написал книгу отом, как сохранилась Россия // Время новостей. 2000. № 175. 27 ноября.
[Закрыть]. Но в то же время у многих вызвало сомнение совершенство формы – то есть связность, завершенность, формальное единство книги. По словам А. С. Немзера, «не столь уж малочисленным читателям (в принципе книгу душевно принявшим) роман показался „затянутым“, повторяющимся, фрагментарным – в нем видели серию „картин“, а не смысловое целое»[7]7
Немзер А. С. Мир Чудакова // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 237.
[Закрыть]. Заметим сразу, что все, кто встает на эту точку зрения, молчаливо предполагают, что перед нами все-таки роман: к мемуарам подобные требования предъявлять было бы странно.
Есть искушение отвергнуть это мнение, сославшись на то, что в романе А. П. Чудакова действует тот же принцип неотобранности и самозначимости каждой детали и эпизода, который он находил у Чехова. Но это было бы неверным. Концепция случайностности предполагала равенство в правах существенного и неотобранного, но никак не полное отсутствие у текста всякого организующего «стержня». Поэтому анализ романа неизбежно сведется к поиску этого стержня, доминанты, конструктивного принципа. А поскольку на уровне композиции перед нами достаточно свободное построение – поток ассоциаций, портретная галерея, собрание «случаев», – то конструктивный принцип, если он есть, должен лежать глубже: в области авторской историософии. Именно она, как нам кажется, создает особое идеологическое напряжение романа, порождает неразрешимые парадоксы, заставляет думать об истории и потому делает чтение этой книги интересным читателю любого поколения, а не только тем, кто испытывает «радость узнавания» мира своего детства и юности.
Начнем с обсуждения жанровой доминанты, поскольку жанр всегда есть особая точка зрения и на человека, и на историю. А. П. Чудаков в свое время солидаризировался с известными словами Толстого о том, что «начиная от Мертвых Душ Гоголя и до Мертвого Дома Достоевского в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести»[8]8
Толстой Л. Н. Несколько слов по поводу книги «Война и мир» // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Т. 16. М., 1955. С. 7.
[Закрыть]. Эта мысль представлялась исследователю самоочевидной: «… как известно, ни одно из вершинных достижений русской литературы XIX века не укладывается в традиционные жанровые рамки». Литература движется смешением и смещением жанров и стилей, как показывал уже Тынянов, и роман «Ложится мгла…» – не исключение. В нем можно различить черты самых разных жанров: литературной исповеди, романа воспитания, исторического романа, областнического романа, робинзонады, «литературы свидетельства», семейной хроники и даже «прозы поэта». Ясно, что нужно говорить не о жанре, а о жанровой доминанте, и она задана самим автором: роман-идиллия.
Этот подзаголовок кажется парадоксальным. Место ссылки на границе Казахстана в последнюю декаду сталинского правления должно быть, по идее, предельно далеко от идиллического хронотопа. Это замечали и самые благожелательные читатели: «Идиллического в нем ‹романе. – А. С.› столько, сколько мы найдем в повествовании любого автора о своем детстве»[9]9
Фрумкина Р. М. Читаю Чудакова // Русский журнал. 2002. 7 марта.
http://old.russ.ru/ist_sovr/20020307.html
[Закрыть]. Конечно, слово «идиллия» здесь не отсылает прямо к идиллии-пасторали – традиции, идущей от Феокрита к романтикам (в русской поэзии – к Дельвигу, Гнедичу, равно как и к многочисленным прозаическим сочинениям конца XVIII – первой трети XIX века). Но все-таки идиллическое начало – в точном литературоведческом смысле – в романе есть. По-видимому, А. П. Чудаков помнил бахтинское определение идиллического хронотопа, и, присмотревшись, можно легко найти в книге все его главные приметы. Роман соответствует по крайней мере трем из четырех выделенных Бахтиным разновидностей идиллического хронотопа: земледельчески-трудовому, ремесленно-трудовому и семейному.
Как и полагается в идиллии, место действия – это конкретный уголок родной страны, далекий от центра и слабо связанный с большим миром. Идиллический локус – это всегда земной рай, Эдем, и в романе, как ни странно, слышны отзвуки этой традиции. Место действия здесь исключительное и в природном отношении (озера, реки, целительный для туберкулеза климат, полуметровый чернозем, сосновый лес, кумыс – «казахская Швейцария»), и в интеллектуальном отношении («Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть нигде»), и даже в социальном плане: здесь дают сколько угодно земли под огород, оставляя возможность для прокормления своими силами, то есть для относительной независимости от тоталитарного государства. Характерны обобщающие, эпические названия природных реалий: Речка, Озеро, Сопка, Степь. При этом и географически, и социально Чебачинск выступает как островок в голой степи и лютом государстве. За границей идиллического локуса лежит чужой и злой мир.
Как и принято в областнических и семейных романах, «патриархальный клан» составляют все возрасты. На первый план выдвинута идиллическая ситуация «дитя и старец», рисующая полное взаимопонимание деда и внука, несмотря на шестьдесят лет разницы в возрасте. Люди разных поколений связаны общим трудом, общей культурой и взаимной любовью. Перед этой любовью и необходимостью выживания стираются все идеологические различия. Идейные разногласия деда (православного христианина) и отца (марксиста) кажутся неважными, даже комичными. Ритм жизни согласован с ритмом природы, он следует календарному циклу – просто потому, что герои едят то, что сами выращивают на огороде. Смягчены и временные грани: свободное повествование о детстве курсирует в пределах целого десятилетия, в течение которого жизнь мало меняется, а легенды, традиции, чужие воспоминания и сама ситуация натурального хозяйства уводят непосредственно в XIX век, ставший потом предметом научных исследований и для автора, и для героя.
На трудовой и семейной основе восстанавливаются «древние соседства», которые, по Бахтину, определяют жанровую память романа-идиллии: тело, одежда, еда, питье, половая жизнь, смерть, испражнения. Роман удивляет редкой эпической открытостью, при которой не действуют культурные табу. Запретные темы и слова звучат открытым текстом, но не ради эпатажа, а как бы в первозданной невинности, еще до всяких запретов. Это удивительно – но не само по себе, а только потому, что становится возможным не в деревенской прозе, а в рассказе об интеллигенции. Героями романа, наряду с людьми, становятся животные: конь Мальчик, бык Черномор, собаки и даже дождевые черви, наверное единственный раз в мировой литературе названные «прекрасными животными». Не меньшую роль, чем люди и животные, играют вещи – прежде всего «согретые внутренним телеологическим теплом», как говорил Мандельштам, предметы домашнего обихода. Именно в этом мы видим то равенство большого и малого, существенного и случайного, которое А. П. Чудаков находил в прозе и драматургии Чехова.
Такова одна – идиллическая – сторона хронотопа романа. Но есть и оборотная, прямо противоположная, которая определяется историзацией вневременной по своей природе идиллии, то есть исходной ситуацией «город ссыльных в сталинское время». В отличие от идиллии, представляющей родной край, где предки героев жили с незапамятных времен, здесь поселение семьи на границе Казахстана – вынужденное. Герои бежали сюда от сталинских репрессий 1930-х годов или были высланы и потом остались из-за тех бесчисленных ограничений передвижения, которые накладывала советская власть (прописка, квартирный вопрос, запреты жить в больших городах после ссылки и т. д.). Из этого следует важное качество романа: в отличие от идиллии, где идеал всегда помещается здесь и сейчас, герои «свое» время и пространство отнюдь не идеализируют, а, напротив, воспринимают в качестве идеального иное, прошлое. Идеал – это либо дореволюционная квазиевропейская культура (Вильно до Первой мировой войны для деда и бабки), либо столица, культурный центр (довоенная Москва для отца героя). При этом идеальный хронотоп не просто помещается в прошлое, но и историзуется. Многие герои, живущие ныне в «идиллическом» бессобытийном времени, ранее были причастны к истории. Сосед – бывший заместитель Сталина по национальным вопросам, отец строил московское метро, знакомый доктор лечил Керенского и Крыленко и т. д., – в прошлом все участвовали в исторических событиях, даже конь, оказавшийся не «буденновцем», а «колчаковцем». Если идиллия – это нечто абсолютно вневременное, то в романе, в отличие от нее, перед нами пауза или остановка времени после «конца истории».
С другой стороны, эпоха конца 1940-х – начала 1950-х все время подсвечивается взглядом извне – из гораздо более позднего времени (конца 1970-х и времени написания романа – конца 1990-х), – чего не бывает в идиллии, которая не знает внешней точки зрения на себя ни во времени, ни в пространстве. Исследователь идиллии как жанра Е. И. Ляпушкина замечает: «Идиллический мир не просто предполагает незыблемость собственных границ, этот мир не подозревает о возможности своего соотнесения с другим миром, существующим за этими границами ‹…› и такое незнание оказывается условием его существования»[10]10
Ляпушкина Е. И. Русская идиллия XIX века и роман И. А. Гончарова «Обломов». СПб., 1996. С. 39.
[Закрыть].
Так же, как и место проживания, вынужденным оказывается труд: ситуация «натурального хозяйства эпохи позднего феодализма», разумеется, не является следствием свободного выбора, хотя и не тяготит главных героев – деда и Антона – и даже воспитывает у внука любовь к коллективному труду. Но впоследствии, с исторической дистанции, эта ситуация может быть оценена и резко негативно, как это делает, например, отец героя: «Работали как проклятые день и ночь. Сельскохозяйственный вековой цикл. ‹…› Рабство! И все равно было голодновато. ‹…› Жестокая необходимость, категорический императив.» Только дед и внук остаются полноправными героями земледельчески-трудовой идиллии. При этом уникальность позиции рассказчика заключается в том, что он не ставит физический труд ниже интеллектуального (перед нами снова присущее А. П. Чудакову уравнивание неравного), никак не чувствует его вынужденности и оказывается способен получать удовольствие от любой полезной работы.
Не соответствует законам идиллии и еще один аспект пространственно-временного уровня романа – передвижение героев. Для идиллии характерны рождение и смерть, детство и старость в одном и том же месте, под теми же липами. В романе А. П. Чудакова герои либо вынужденно уезжают и вынужденно приезжают (судьбы «солдата трех войн» дяди Лени, ссыльной тети Тани и ее детей), либо, как сам герой, осуществляют свою мечту и перебираются из провинции в столицу. Идиллический хронотоп постоянно размыкается. Но при этом нельзя сказать, что идейное и сюжетное движение романа – это разрушение идиллии. Идиллия в литературе разрушается обычно двумя способами: либо отъездом героя в столицу и его последующим отпадением от рода, либо вторжением в идиллический хронотоп Чужого, разрушителя – приезжающего, как правило, из той же столицы. Ничего подобного нет в романе. Отъезд героя на учебу в МГУ и последующая научная работа в Москве не меняет его внутренней принадлежности к родным людям и городку. Ав то же время те, кто остается в этом городке, могут оказаться чужими, как Колька и Катька. Подобное никогда не происходит в деревенской прозе – например, в «Последнем сроке» В. Г. Распутина, к которому дает «ложную отсылку» начало романа. У «деревенщиков», как некогда у писателей-народников, действует непреложный закон: город делает человека чужим родному краю, и разрушитель всегда едет из города. В отличие от деревенской прозы, у А. П. Чудакова идиллия оказывается не пространственной и не временной.
Аналогичные закономерности наблюдаются и на сюжетном уровне. Идиллия принципиально бессюжетна – ив романе внешние обстоятельства не нарушают равновесия, сюжет не складывается. В начале, правда, задается возможность такого нарушения. Завязка – болезнь деда – как будто намечает традиционный сюжет. Идиллия может уступить место борьбе за наследство, «как у Бальзака и Диккенса», появляется возможность столкновения интересов. Но эта возможность не реализуется, не превращается в действие. В финале дом забирает Колька, но его поступок не составляет события, этому посвящено всего полтора предложения. Единственное событие в идиллии – смерть деда, которой роман кончается, последняя глава посвящена осмыслению смерти. Другими словами, роман длится до тех пор, пока сохраняются черты идиллии.
Предметный уровень романа, так же как сюжетный и пространственно-временной, одновременно и сохраняет, и разрушает черты идиллии. В идиллии, в отличие от многих других древних жанров, быт и бытовые вещи всегда играют существенную роль. Но они, во-первых, обычно предстают в условно-поэтическом, а не реальном обличии, а во-вторых и в-главных, не связаны с событиями, тем более историческими. У А. П. Чудакова каждая вещь имеет историю – и эта история происхождения или изготовления вещи всегда рассказывается. Таким образом, предмет историзуется так же, как пространство или сюжет.
Итак, мы видим, что данный автором жанровый подзаголовок не случаен – определенные черты идиллического хронотопа в романе есть. Но в то же время идиллия оказывается соотнесена с историей, и потому неизбежно возникают противоречия, которые и реализуют во внешне свободной композиции второй – идеологический – сюжет, который и придает произведению качества романа.
Главной из таких «формообразующих сложностей» оказывается отношение повествователя и героев к двум базовым ценностям любого ученого: традиции и прогрессу, которые в данном случае связаны соответственно с силами, сохраняющими идиллическое начало, и с силами, ее разрушающими.
Отношение к традиции проявляется ярче всего в той черте романа, которая сближает этот текст с научным и которую можно обозначить так: «референция к истоку». Здесь действует закономерность: ссылка на имя основателя, инициатора, изобретателя (любого мастера или ученого, стоявшего у истоков чего-либо) в книге дается везде, где это имя можно проследить. Так, мы узнаем имена изобретателей керосиновой лампы и школьной парты; парикмахер в Чебачинске учился у самого Базиля с Кузнецкого Моста, русский рукопашный бой восходит к фельдмаршалу Салтыкову и генералиссимусу Суворову, и т. д. Автор стремится зафиксировать, задокументировать, сохранить в памяти читателя эти исторические и бытовые факты (притом что историческое и бытовое уравнивается в соответствии с принципом неотобранности). Та же закономерность действует по отношению к личной истории. Герой знает свои истоки: он потомок попов, дворян и крестьян-однодворцев. Но это не формальная «генеалогия», как у большинства людей, члены семьи сохранили соответствующую культуру: веру, нормы этикета, умение работать. Важность «отсылки к истокам» для автора показывает и следующее: характерное в целом для романа приятие мира нарушается только в одном случае – резко негативно герой относится только к тем, кто пытается подменить истоки (Лысенко, Мичурин или Лепешинская, предложившая теорию рождения клетки из неорганического материала). Наконец, магистральная тема романа – отношение к советской власти деда и внука – определяется в первую очередь тем, что большевики отрезали страну от истоков, «отняли Россию».
Необходимость истоков – отдаленных и близких – ощущается автором и героем как абсолютный императив. Отсюда темы учительства и ученичества, пронизывающие весь роман. Так же как в науке, учителя необходимы в копании и бросании земли: Антон гордится тем, что копать его учил человек, прошедший Беломорканал, а бросать – кочегар с броненосца, участвовавшего в Цусимском сражении. При этом специфической именно для романа А. П. Чудакова чертой традиционности оказывается не просто наличие учителей и учеников, а то, что учитель в прошлом был непосредственно причастен к истории, а теперь, как и все жители городка, из нее исключен. Часто учение сопровождается литературной цитатой, подтверждающей еще более дальние связи. История литературы, науки и культуры прошлого окружает героя со всех сторон, ниточки тянутся ко множеству знаковых имен, причем опять как бы «неотобранных», разномасштабных: прапрадед знавал Фаддея Булгарина, прадед был знаком с изобретателем керосиновой лампы Лукасевичем, дед видел сына Пушкина, Мари Склодовская-Кюри – троюродная сестра бабки, история с гранатовым браслетом произошла чуть ли не на глазах предков героя. Дед – агроном-докучаевец, а ученика Докучаева, Вернадского, внук случайно видит в детстве. Параллельно аморфной «бесструктурной» реальности деревенской жизни и независимо от нее в настоящем как бы присутствует прошлое – мир истории и культуры, мир «большой», но в то же время очень узкий, почти деревенский (и потому отчасти подобный Чебачинску), мир, в котором все как-то связаны и знакомы, непосредственно или потенциально. Как мы говорили, идиллия в романе – не временная и не пространственная, она образует вневременную и внепространственную матрицу. Идиллия локализуется только в Культуре.
Разумеется, в данном случае объект – культурные связи через время и пространство – конституируется субъектом: без интереса героя к истории литературы и общества они бы исчезли, как они исчезают для многих героев романа. Именно памятливостью к традиции и благодарностью учителям (а не вежливостью и образованием) отличается интеллигенция от народа: кочегару Никите вряд ли придет в голову говорить о своих учителях в бросании угля. Но автор подмечает и все случаи, когда народ помнит нечто из традиции, сохраняет некую память об истории: «… по дворам поползло – „абреки“, откуда-то не очень образованные чебачинские казаки знали это слово». Традиция мирит и с культурно-табуированными явлениями, о которых уже упоминалось: ею можно оправдать, например, мат – если речь идет о мастерской ругани знаменитого кораблестроителя академика Крылова. Путь к науке с ее культом преемственности (ученичество, научные школы, продолжение начатой другими темы и т. д.) для героя предопределен с детства отношением к окружающему, в основном далекому от науки миру.
Но у ситуации тотальной культурной преемственности есть и другая сторона: роман показывает, что традиции суждено прерваться, и это придает идиллии черты жанра во многом противоположного – элегии. Герои стараются передать лучшее в себе детям и внукам: дед – знания, бабка – правила этикета; впоследствии сам герой пытается выступать в качестве передаточного звена по отношению к своим детям и внукам. Однако получается так, что почти никто из младших не наследует знаний, умений и интересов старших. «Ложится мгла.» – еще и роман о последних могиканах. Антон Стремоухов выглядит уникумом, девиацией в меняющемся мире, причем его уникальность буквальна (фотографическая память, трудолюбие, удивительное сочетание силы и кротости). Только это чудо спасает память о людях, от которых не осталось ничего – ни одной написанной строчки. Постепенно исчезают и «вечные» вещи, все материальное. От людей, всю жизнь создававших вещи, вещей не остается, а большая часть приобретенных умений, как справедливо замечает отец героя, оказывается в новую эпоху невостребованной. Остается только память – образы и слова. Слово оказывается долговечнее людей и вещей, но не всякое слово, а только художественное. Решение А. П. Чудакова писать роман, а не мемуары, по-видимому, объясняется его убеждением в мнемонической силе искусства. Антон Стремоухов задумывает труд под названием «О тщете исторической науки»: история остается в памяти людей только такой, какой ее запечатлели синтезирующие шедевры – «Капитанская дочка» или «Война и мир» (хотя автор прекрасно знает, как и почему эти тексты искажают историю).
Роман посвящен памяти, это памятник. Он не только пронизан горечью о том, что «все умерли», но и неизменно представляет прошлое – истоки – эпохой гигантов. Эмблематичны сцена с черепахой, видевшей Наполеона, или история попугая Екатерины II, задохнувшегося в петроградской ЧК. Связь с прошлым еще ощутима, но рассказать о гигантах прошлого мы можем не больше, чем слепая черепаха о Наполеоне или попугай о Екатерине. Автор чувствует необходимость преодолеть забвение, но преодолеть – из-за «тщеты исторической науки» – можно только в форме романа, который, следуя жанровым законам, неизбежно должен нечто исказить. И дело не только в призме жанра, важнее другой парадокс. Главная задача книги, безусловно, – увековечить память о времени, месте и близких людях, но автор выбрал для этого беллетристическую форму, и, следовательно, никто из «чужих» читателей не узнает ни настоящего названия городка (Щукинск), ни даже настоящих фамилий изображенных людей, в том числе и деда рассказчика. Создавая фигуру положительного героя, которой, по мнению критиков, нет равных в современной литературе, автор решает оставить его неизвестным солдатом. Это противоречие можно снять, только поняв, что для автора идея памяти важнее, чем конкретная память. И значит, сама идея традиции важнее любого конкретного ее воплощения.
Еще более сложным образом совмещается хронотоп романа с идеей прогресса. Идиллия и вера в прогресс несовместимы по определению, и в романе-идиллии читатель вправе ожидать отрицания прогресса и апологии прошлого. На первый взгляд, это и происходит. Дореволюционное прошлое в романе характеризуется тремя чертами, прямо противоположными всему советскому: подлинностью, основательностью и разумностью. Любые вещи, сделанные «тогда», крепки и почти вечны: бритва, купленная в день коронации Николая II, остра, как в первый день; швейцарские часы за полвека отстали всего на одну минуту; современная литература не дала ничего, равного Бунину и Чехову, пиджак английского бостона служит 50 лет, керосиновая лампа не только уютнее электричества, но и – буквально – ярче светит: «… желто-оранжевый язычок пламени был большой, с лист крыжовника – совсем не то что тусклая электическая лампочка под потолком». Все необходимое людям было уже сто лет назад, а прогресс мало что добавил, но многое исказил. Книга А. П. Чудакова говорит о разумных пределах технического прогресса, о той мере, которую не следует переходить в слепой погоне за новым.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































