Текст книги "Исчезающее счастье литературы"
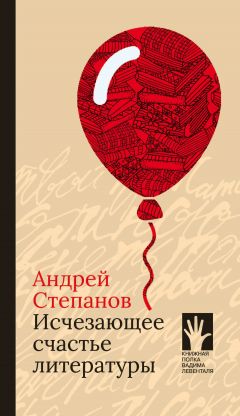
Автор книги: Андрей Степанов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Нечто подобное можно, как ни странно, сказать и о науке. По мнению и деда, и внука, лучшее в современной науке или педагогике – это забытое старое: новейшие американские методы преподавания в начальной школе были уже в дореволюционной школе, и ими пользовался дед, обучая Антона. Добавим, что главное научное открытие А. П. Чудакова – открытие «случайностной» организации чеховского текста – опиралось, как известно, на суждения прижизненной чеховской критики (Н. К. Михайловского, П. П. Перцова, Е. А. Ляцкого, М. Неведомского и др.).
Но, как и в других случаях, здесь есть противоположная сторона.
Старые вещи крепки и надежны: дореволюционные швейцарские часы продолжают отсчитывать время современности. Но нельзя забывать о том, что люди вынуждены пользоваться старыми вещами, потому что нет новых. А если появятся новые и качественные вещи, то они быстро вытеснят старые. Возможность идеализации (идиллизации) прошлого создается советской халтурой и тотальным «дефицитом». Любые предметы изготавливают только потому, что их нельзя купить. При этом герои больше всего гордятся тем, что могут изготовить технически сложные предметы (градусник) и осуществить в условиях всеобщего «одичания» научный подход к сельскому хозяйству. В этом смысле роман оказывается ближе не к идиллии, а к технократической утопии поздних робинзонад, вроде «Таинственного острова» Жюля Верна, в которых разворачивается тезис «инженер может все». И здесь тоже возникают противоречия, требующие снятия. Во-первых, робинзонада в романе становится возможна только потому, что в семье представлены все специальности: агроном, химик, зоотехник и т. д. Но разделение труда – примета прогресса, несовместимая с идиллией. Во-вторых, жанровый закон робинзонады – локализация в чужом, диком, колонизируемом пространстве – представляет собой прямую противоположность идиллии родного края. Именно таково отношение деда к пространству и времени, в которых он вынужден жить:
– А как же пост, Леонид Львович? – подначивал отец. – Не соблюдать, помню с ваших же слов, дозволяется только болящим и путешествующим.
– Мы приравниваемся к путешествующим. По стране дикой.
– Почему же дикой?
– Вы правы, виноват. Одичавшей.
Вечное возвращение к истокам в романе – это возвращение не к первозданной дикости (весь роман пронизывает лейтмотив сопоставления советского быта с бытом древних славян), а к тем гармоническим формам сосуществования природы и культуры, которыми был отмечен XIX век. Именно так надо понимать призыв «назад к природе», звучащий в суждениях главы «патриархального клана» – деда. Он стоит за возвращение к лошади, плугу, натуральным удобрениям. Эти элементы культуры «натурализуются», воспринимаются как часть самой природы, а новое (трактор, химикаты) – как искажение естественного порядка вещей. Взгляды деда наследует внук: «Если б Европа отапливалась кизяком, там не шли бы кислотные дожди…», а вездеходы в пустыне хорошо бы заменить верблюдами, которые не разрушают верхний почвенный слой. Полное неприятие у деда вызывают попытки прямого насилия над естеством (попытки «исказить истоки»), причем это касается не только Лысенко, но и Мичурина, которого побеждает сама природа: к сортам его яблок возвращаются свойства их диких предков. Важной оказывается и мысль о неизбежных потерях, которые сопровождают каждое новое изобретение (мысль, впервые выраженная Платоном в «Федре»). Вот один пример: «Почему вредны – особенно детям – шариковые ручки? Рука в напряжении все время. При писании же обычным пером напряжение чередуется с расслаблением – нажим – волосяная линия – нажим».
Перед нами, казалось бы, именно то, что и должно быть в идиллии: натурализация культурной традиции, придание ей статуса отприродного явления, того, что естественно для человека. Но как ни парадоксально, в основе традиционализма здесь лежит не вера, а знание. Агроном всегда рационально обосновывает свою позицию: например, тем, что тяжелый трактор, в отличие от плуга, разрушает верхний слой почвы. При этом ссылка на научную традицию, как везде в романе, не случайна: позиция деда в этом вопросе опирается на авторитет автора «Русского чернозема» В. В. Докучаева, определившего факторы развития почв. Традиционалистский взгляд в жизни опирается не просто на науку, а на традицию в науке.
Теперь мы можем подвести итог, указать на тот «стержень» романа, на то идеологическое напряжение, которое выводит его за пределы мемуарного жанра и придает неразрешимую, почти трагическую конфликтность.
Весь роман – это попытка примирения, медиации полюсов оппозиции «идиллический традиционализм vs. научный подход и прогресс».
То, что это противопоставление действительно организует весь текст, можно было бы доказать любимым методом А. П. Чудакова – показав, что по этому критерию изоморфны разные уровни художественной структуры. Например, на стилистическом уровне роман отмечен прежде всего сочетанием архаизмов (лексических и грамматических), прямо восходящих к «идеальному» XIX веку («пользовались прекрасным здоровьем»), и научных терминов, часто звучащих как экзотические варваризмы («субфибрилльная температура»). И то и другое художественно выразительно, красиво, а сочетание их необычно. Несовместимое сливается в очень своеобразной гармонии.
Несмотря на внешнюю фрагментарность, роман обладает внутренним единством: не только все структурные уровни текста, но и каждый фрагмент организуется медиацией базовой оппозиции. Чтобы понять, как это осуществляется в романе, как «сделан» текст, рассмотрим один фрагмент:
Англичанка рассказывала, что в Америке в музее компании «Edison Electric Light» она видела лампочку, сделанную самим Эдисоном в 1895 году; лампочка горела уже сорок лет. Для элемента накаливания своих ламп великий изобретатель перебрал шесть тысяч растений, посылая эмиссаров на Филиппины и Огненную Землю; спираль в результате сделали из обугленного волокна японского бамбука. Англичанка не знала, горела ли сорок лет именно бамбуковая лампочка, но Антону хотелось, чтоб это была она; в бессонные вечера… он думал об этой лампочке; недавно узнал – лампочка горит до сих пор.
В этом отрывке концентрируются все основные смыслы романа. Рассказывается о необычном историческом факте, который засвидетельствован лично знакомым герою очевидцем (весь роман можно рассматривать как такое свидетельство); впоследствии герой имеет возможность перепроверить подлинность сообщения. Речь идет о полезном бытовом приспособлении, в данном случае интересном тем, что оно имеет семантический ореол эмблемы науки и прогресса (свет разума). Интерес героя вызывает то, что лампочка сделана самим Эдисоном: его имя – знак основателя (научной) традиции, перед нами отсылка к истокам; традиция длится по сей день. Причем условием, которое обеспечивает научному изобретению прочность, надежность, длительность (как всем дореволюционным вещам) и которое вписывает этот знак прогресса в традицию, является контакт с природой (в качестве элемента накаливания используется природный материал), то есть наилучший прогресс обеспечивается возвращением назад к природе (ср. идеи деда о возвращении лошади и плуга). Это последнее условие осуществляется словесно, риторикой текста: ни англичанка, ни автор в данном отрывке не утверждают, что сорок и тем более сто лет горит «бамбуковая лампочка». Однако слова «думал об этой лампочке», «лампочка горит до сих пор» читатель прочитывает именно так: горит та самая лампочка с растительным волокном. Рассказчик не скрывает, что операция медиации «прогресса» и «традиции», «природы» и «науки» осуществляется только благодаря его сильнейшему желанию. Благодаря этому желанию прошлое «присутствует» в настоящем – как присутствует дед, Чебачинск, семейная и трудовая идиллия. Та радость присутствия живого прошлого (а не только узнавания), которую чувствуют читатели, оказывается обусловлена, говоря словами поэта, «усильем воскресения», а говоря научным языком, вербальной медиацией базовой оппозиции. Слова не только долговечнее людей и вещей, они еще и могут примирить непримиримое, осуществить невозможное – что и доказывает книга Александра Павловича Чудакова.
2007
Исчезающий Гедройц
Гедройц С. Полное собрание рецензий. СПб.: Симпозиум, 2019.
«Терц писал про Синявского, Синявский – про Терца», а Лурье – про Гедройца. Например, так: «Я несколько лет назад придумал человека по имени Гедройц, гораздо моложе меня, такого безбашенного, непочтительного критика, который пишет и на жаргоне, может и присвистнуть, и непристойность написать…»
Милый Самуил Аронович! Он ведь, должно быть, и слово «прикольный» считал непристойностью. Акаков жаргон… Нет, конечно, Гедройц (в отличие от своего создателя) мог спросить вместо «о чем речь?» – «о чем гундос?». Но лучше бы он этого не делал. Опытный читатель по этим приметам сразу понимал, к какому поколению принадлежит «безбашенный молодой критик»: скорее всего, к послевоенному. Именно повзрослевшие послевоенные дети любили подпускать в интеллигентную речь дворовые словечки, и ностальгии в этих эскападах было куда больше, чем брутальности. Бродский начинал рассказ об отрочестве словами: «Когда гуталин врезал дуба.», а Гедройц о том же историческом факте писал всего лишь так: «Когда главный естествоиспытатель перекинулся.» Непристойности… Да ведь он, даже нацепив маску, неспособен выговорить матерную цитату и, мучительно краснея под этой маской, предупреждает: дорогие читатели, не волнуйтесь, я заменю некоторые буквы точками. Или тире: «Произносить, например:! таким же голосом, как: доброе утро!»
Надо полагать, что привыкшая к сетевой вольности молодежь воспринимала непочтительного Гедройца примерно так же, как он сам воспринимал опусы доктора Джонсона: «Представляете – что же творилось в головах у англичан XVIII века, если каждую из этих благоразумных сентенций они встречали взрывом хохота, точно фривольный парадокс!»
Но зачем-то все это было нужно С. А. – и псевдоним, и «непристойности».
Во-первых, конечно, «Гедройц» при всей прозрачности личины давал известную свободу – от «вязкого дурмана зловонной скуки», от удавки приличий, от либеральной цензуры и самоцензуры (ну не написал бы Лурье без маски такую рецензию на «Даниэля Штайна»; промолчал бы из уважения к теме).
А во-вторых, сильные выражения в рецензиях Гедройца появляются не так часто; как правило, только если чем-то похожим злоупотребляет рецензируемый автор. Как и Пелевин в его интерпретации, наш критик «чужую речь, особенно за персонажей чудовищных, и особенно – за тех, кого ненавидит, – сочиняет едва ли не блестяще».
Кто же эти ненавистные чудовища?
Убеждения Гедройца ничем не отличались от взглядов Лурье и были примечательны только своей бескомпромиссностью: тотальное неприятие цензуры, госбезопасности и антисемитизма. Эта триада составляла как бы мертвую зону: когда речь заходила о них, критик гнал в шею любую толерантность и не принимал в расчет никаких художественных достоинств, даже если, скажем, за сложную душу гэбиста заступался Владимир Шаров. Ср. забавное замечание в одной из рецензий: «Ночной дозор» лжив уже потому, что изображает поединок спецслужб Добра и Зла, а у Добра спецслужб не бывает. И наоборот: Гедройц мог оценить любую эстетически чуждую ему литературу, даже сорокинскую антиутопию, при условии правильной оценки вышеозначенных чудовищ.
Если отрицательные герои были ясны, как день (или темны, как ночь, – скаламбурил бы рецензируемый автор), то с позитивными ценностями все оказывалось очень сложно.
К академической науке, особенно постструктуралистской, наш критик относился с шутовским почтением. Едва заслышав трубные звуки дискурса, тут же начинал расшаркиваться: я-де провинциал, невежда, верхогляд, подмастерье, куда нам до вас, ученых мужей, мы тут на кривой козе и т. д. А дальше следовала серия ударов – убийственно-точный пародийный пересказ вумной концепции или подборка цитат, не оставлявшая от претенциозных банальностей камня на камне.
Однако на место низвергнутых дискурсивных кумиров тут же воздвигались собственные.
Ключевых понятий у Гедройца было два – «интонация» и «скорость».
Плохие и хорошие тексты различаются интонацией, считал критик. Вот, например, Леонид Цыпкин. Всем хорош, но «Лето в Бадене» – текст без интонаций, «с голосом неподвижным», «мертвая речь», автор бубнит «на каком-то бездушном языке». Зато богаты интонации у Кушнера, оригинальны у Гришковца; непредсказуемы, несогласованны и вместе с тем бесчеловечны – у Пригова.
Задача поэта (писателя, литератора) – «найти собственную интонацию». И похоже, для С. А. это была проблема личная, ради ее решения он и превращал критику в искусство:
…некоторые предполагают, что в гортани-то и находится так называемая душа. Но я отчасти сомневаюсь: именно потому, что… по крайней мере, моя собственная внутренняя речь не окрашена, как говорится, интонацией; то ли оттого, что у меня нет души (или я ее не слышу), то ли потому, что я не поэт. Не исключена и такая формулировка: поэт – человек, обладающий душой вполне.
Лучше всего о душе и интонации сказано в рецензии на Бориса Рыжего – тут можно было бы процитировать всю статью, лучше прочитайте, это своего рода эстетический манифест Гедройца-Лурье.
Манифест очень красивый – и очень традиционный. Тут и кратилизм («определим поэзию как речь, похожую на свой предмет»), и убежденность в близости голоса душе (см. трактат Аристотеля «Об истолковании»), и даже боговдохновенность («… а что не может быть передано музыкой хоть отчасти неземной, – громоздится вокруг поэта, как пошлость»). Короче, чистейший, дистиллированный логоцентризм. О Жаке Деррида в книге нет ни слова, «деконструкция» встречается в качестве ругательства, как синоним вульгарной пародии. Жаль, конечно, что не попалась Гедройцу в одну из 47 ночей книга философа, который всю жизнь опровергал его задушевные убеждения, – наверняка рецензия оказалась бы блестящей. А может быть, и к лучшему, что он об этом не узнал.
Второе понятие – еще более неуловимое, странное, совсем запредельное свойство текста, которое он называл «скоростью». Лучше всего это свойство умел выразить Бродский. В рецензии на сборник научных статей о Бродском Гедройц указывает на неполноту библиографии. Не упомянута статья «Правда отчаяния» из парижского «Синтаксиса» 1988 года, – Гедройц, конечно, не помнит автора. Любопытно, что именно в этой статье, похоже, и дается определение «скорости»: «Оказывается, что все эти средства – эта бесконечная искусность, умение создать ощущение того, что стихи творятся сейчас, на наших глазах, параллельно движению взгляда, вся эта утонченная духовность и огромная энергия тратятся на то, чтобы доказать нам, что ни нас, ни автора этих стихов на самом деле не существует» (Лурье С. А. Правда отчаяния // Синтаксис. 1988. № 23. С. 120). Предел скорости – исчезновение материи, включая адресанта и адресата. Говорят, Бродский статью одобрил, сказал, что критик попал в десятку. Правда, одобрил ли он именно это место или какое-то другое – неизвестно. Но исчезновение говорящего субъекта в процессе стихоговорения, – несомненно, и лейтмотив Бродского, и коррелят искомой Лурье полноты «интонации», выражающей полноту «души». Все исчезает, включая пространство, звезды и певца, – остается запредельность, в которой беседуют бесплотные души автора и читателя: «… изъясняется душа – интонацией». И задача как прозы, так и эссеистики – стремиться к этому поэтическому пределу. Приблизиться к поэзии, насколько это возможно для критики, сделав ее хотя бы прозой – вот мечта нашего скромного «не-поэта», автора рецензий в «Звезде».
Один из самых мощных способов «разгона» текста – неполная цитата, эллипсис, главное поэтическое средство С. А. И именно в недоговоренности заключен «парадокс скорости», который можно было бы назвать и «парадоксом Гедройца». Прием, рассчитанный на ускорение процесса схватывания смыслов и исчезновение материи, сам неизбежно стирается временем, потому что постепенно исчезает читатель, способный ловить намеки и аллюзии. Сменяются эпохи, стареют люди, слабеет память. Кто помнил – забыл, кто умел – разучился. Да он просто физически вымирает – тот альтер эго автора, на которого рассчитаны эти тексты. Один за другим уходят те, кого Гедройц – неисправимый одиночка, отчужденный от всего мира ночной отшельник – называл «такие люди, как я». Такие, как Айзик Ингер, никому не ведомый доцент из Коломны.
И вместе с ними исчезают слова, хорошие и плохие.
Первыми уйдут (давно ушли) расхожие цитаты из классиков марксизма-ленинизма вроде без конца варьируемого Гедройцем «материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях». Попробуйте-ка спросить, откуда это, у тех, кому нет сорока.
Потом – «речевые колтуны социалистического сознания», которые он так усердно вычесывал, все эти «генеральные линии», «краткие курсы» и прочие «герои щита и меча». А с ними – их ровесники, некогда имевшие лихой вид дворовые вульгаризмы.
Потом – цитаты из школьных классиков: «…отправился к щуке спрашивать, знает ли она, что такое добродетель»; «…женщиной… и той, что служит, и той, что продается»; «…что за тузы в Москве живут и убивают»… Какие тузы, какая щука, о чем гундос?
Вслед за ними уходят:
– цитаты из нешкольных классиков: «Романчик… про то, как на склоне лет нежней и суеверней»;
– интеллигентские пароли: «…в сумеречном приступе тогдашней тоски по памятникам мировой культуры»;
– ирония, потому что какая может быть ирония, если непонятно, о чем речь.
Потом исчезает сама возможность «писать критику – прозой». И наконец, стирается, становится анахронизмом фигура литературного критика, как почтительного, так и непочтительного.
И вот уже оглядываешься окрест – а никого и нет: ни субъекта, ни объекта, ни голоса, ни сознания, ни скорости, ни интонации.
Означенное чувство хорошо выразил один высоко ценимый Гедройцем хулиганствующий идеалист:
Древний враг человечества выходит качать права,
И вдруг с тоской понимает, что можно не начинать.
Луг превращается в землю, из которой растет трава,
Затем исчезает всякий, кто может их так назвать.
Прах Самуила Ароновича Лурье был развеян под Пало-Альто в Калифорнии в августе 2015 года (наверное, мы лучше поймем его последнюю волю, если перечитаем то, что он писал про ленинградские кладбища). Мучительно жаль – и его, и всю так долго не кончавшуюся прекрасную эпоху, когда читали, рецензировали, цитировали и спорили.
Ничего от нее не осталось. Или что-то еще есть?
Как писал автор, прощаясь со своим героем: «Что же осталось? Только собрать вот этот – второй и последний – томик. ‹…› Чтобы, видите ли, никуда не делась интонация С. Гедройца. А то мало ли. Рассеется в атмосфере – только ее и слышали».
А может, и этот, уже третий томик – не последний?
2019
Уроборос: плен ума Виктора Пелевина
Пелевин В. ДПП (нн). М.: ЭКСМО, 2003.
Уроборос – архаический образ, часто встречающийся в алхимических трактатах и представляющий собой змею, заглатывающую свой хвост.
Психологический словарь
Первое, что приходит на ум критикам по прочтении новой книги Виктора Пелевина «ДПП (нн)», – что все это уже было и к каждому ее мотиву можно подобрать параллель в старых. Если в главных чертах, то это «городской анекдот, дзен, туалетный юмор, бандитские разборки». А если поконкретнее, то: из «Принца Госплана» – рассказ «Акико»; из «Жизни насекомых» – отождествление человека с нечеловеком (здесь покемоном) и пародии на современное искусство; из «Греческого варианта» – банкир, причастный к искусству; из «Краткой истории пэйнтбола в России» – разборки и отношение к литературным критикам; из рассказа «Папахи на башнях» – чеченцы и отношение к поп-музыке; из «Чапаева» – пустота и стреляющая авторучка; из «Generation П» – пародийные рекламные слоганы, циничный специалист Малюта, опять чеченцы, опять разборки, опять телепиар, – список открыт для дополнений. Даже ослика мы видели на обложках книг Пелевина. Все это было, причем было, по большей части, в ельцинское время, и если критики правы, то грядущий «Гугл» на запрос «Пелевин В. О.» выдаст нашим внукам такую информацию: «известный писатель 1990-х годов».
Действительно, новое не воспринимается им как качественно новое и подается в старых терминах. Ясно, что социально-экономический месседж Пелевина все тот же: в мире текут потоки нефти, денег и информации, кто-то с большим или меньшим успехом пытается их перенаправить в свой карман, но поскольку управлять всеми потоками нельзя, то любая власть – фикция, медийный фантом. Смена власти в стране, «парадигматический сдвиг» – это смена крыши у банков (от бандитов к «джедаям» из ФСБ) и появление на месте новых русских их сыновей, свихнувшихся в Сорбонне. А страна остается придатком «северной трубы», и люди – придатками разных способов плена ума: одному герою кажется, что он – осел, другой героине, что она – покемон, третий зациклен на добрых и злых цифрах. Все это было, так или иначе.
Но о прежних романах тоже говорили: Пелевин повторяется. Вот, например, о «Generation П»:
Похоже, что Пелевин написал современный ремейк собственной повести (первой, с которой он вошел в «серьезную» литературу): вместо Омона и Овира – Вавилен и Легион, вместо Египта – Вавилон, вместо технологически нищего симулякра коммунистического Союза – компьютерная имитация постсоветской России, да и всего политического мира (Сергей Кузнецов).
Наверное, это вообще синдром критики: можно легко показать, что она и в XIX, и в XX веках писала о новых текстах известных авторов одно ито же: что они, эти тексты и авторы, одни и те же. Если автор выработал свой стиль, если у него есть лейтмотивы и взгляд на мир, то первое, что скажет критик: автор повторяется. Но был ли в истории литературы писатель, который никогда не повторялся? А может быть, если писатель повторяется, – это совсем не плохо? Может быть, он ищет наилучший способ выразить какую-то одну мысль? И потому, кстати, это не плохо и для критики, у которой появляется возможность определить эту главную мысль, доминанту творчества, стержень. К тому же, если писатель без конца повторяет одно и то же, и при этом как раз мономания, фиксация, зависимость – тема его последней книги, то не следует ли повнимательнее прочитать эту книгу в контексте предыдущих? Попробуем.
У Пелевина есть основной стержень, но это вовсе не мысль об иллюзорности мира, о покрывале майи. Идея «виртуальности» у него всегда прямо выражена, ее нельзя не заметить, но она вторична. Есть другая, глубинная и неочевидная, структурная особенность, которая порождает поверхностную.
Объясню это на примере. Вот типичный диалог пелевинских учителя и ученика:
– Сознание твое где? – В голове… – А голова твоя где? – На плечах. – А плечи где? – В комнате. – А где комната? – В доме. – А дом? – В России. – А Россия где?… – На Земле. – А Земля где? – Во Вселенной. – А Вселенная где?… – Сама в себе. – А где эта сама в себе? – В моем сознании. – Так что же, Петька, выходит, твое сознание – в твоем сознании? – Выходит так.
Места, пространства нет – из этой апории родился роман, действие которого происходило нигде, «в пустоте»: не в прошлом ине в настоящем, а «в уме». Но та же структура – в любом парадоксе многоликих пелевинских гуру: «Руки Аллаха есть только в сознании Будды. Но вся фишка в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха», – из этого следует, среди прочего, что миром не управляет никто (или управляет Никто) – и еще один роман.
«Плен ума» Виктора Пелевина, он же инвариант его текстов, – это замкнутая структура, совпадение истока и цели, конца и начала, содержимого и содержащего, любых знаков, которые кажутся различными. В основе текста – матрица, образчик, он порождается определенной логической операцией. В пелевинском случае – фигурой отождествления, замыкающей А на B и B на А. Любой знак неопределим, он может быть «определен» только через другой знак через другой знак через другой знак… и в конечном итоге – через самого себя. Замкнутость на себе словаря или энциклопедии, о которой писал в свое время Умберто Эко, тут предстает замкнутостью сознания. Именно потому, что замкнуто сознание, иллюзорен мир – у Пелевина это следствие, а не первопричина, потому что первопричин для замкнутого сознания не бывает.
Той же природой уробороса обладает каламбур, без которого нет пелевинского текста. Что такое каламбур? Есть два омонимичных или паронимичных, похоже звучащих слова или выражения. Например, «господа» и «Господь», «tuna» (тунец) и «Get tuned!» (настраивайся на нашу волну, оставайся с нами). Каламбур ставит эти внешне, формально связанные слова в один ряд так, что одно из них меняет свое значение, опустошается и наполняется значением другого слова. То есть «криэйтор» каламбура подталкивает знаки к тождеству, переопределяет одно через другое, уравнивает их. Несвязанное, разрозненное становится связанным. Это не отличалось бы от закона повтора в поэзии, выведенного Якобсоном (эквивалентность несходного), если бы тут не имел место еще и процесс снижения. В каламбуре участвуют высокое и низкое, ценное и обсценное, и высокое становится низким. «Семейные ценности» (= деньги «семьи») или «лавэ» (= liberal values) – все то же приравнивание означающих и снижение ценности, аннигиляция высокого смысла. Приравнивание внешне несходного и опустошение (принятых) ценностей – процесс, который рождает у Пелевина и сюжет, и язык, и пространство-время, и героев. Причем весь процесс происходит только в пространстве ума, это игра ума. На таком приравнивании-каламбуре у раннего Пелевина строились целые рассказы, например «Зигмунд в кафе» (тождество попугая и Фрейда) или «Ника» (тождество женщины и кошки). Пелевинское «открытие» рекламы в конце 1990-х придало обсессии новый импульс. Рекламное обрамление, соотнесение каламбура с пустотой зрелища в деборовском смысле – то есть процесса потребления знаков как результата и цели производства – гарантированно опустошает оба знака, и материальный, и духовный. Они зависимы друг от друга и помещены в контекст пустоты. Та же фигура, что в буддийских апориях Чапаева или, как мы скоро увидим, в структуре сюжета «ДПП».
Доброжелательно настроенным критикам хотелось бы, чтобы Пелевин оказался сатириком, то есть чтобы за отрицаниями его каламбуров стояли какие-нибудь ценности. Но бесполезно спрашивать: «В. О., как Вы на самом деле относитесь к либеральным и семейным ценностям, а также к истине, красоте и добру, которые Вы так обижаете в Ваших замечательных каламбурах? Способны ли Вы при определенных обстоятельствах, скажем, пожалев родного отца, отказаться от красного словца?» – Не дает ответа. Ответ мог бы дать Старый Учитель: «Когда устранили великое Дао, появилось „человеколюбие“ и „справедливость“, когда появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие». А Пелевин никак не относится к истинам и морали, по крайней мере в своей писательской ипостаси, потому что логическая операция, которой он служит, сильнее его. Можно сказать, что он последовательно очищает свой ум от любых ценностных категорий, стремится к некой окончательной свободе, когда человек лишен любой здешней ценности и самого «здесь и сейчас». Это не буддизм, просто порождающая матрица Пелевина счастливо совпала с учением, в котором пустота дает жизнь полноте, а небытие – бытию. Примерно то же осуществляет Сорокин, но только ему не надо проводить операцию по ампутации ценностей, он избавлен от них изначально, потому что существует в пространстве текста, чистых риторических стратегий. Отсюда явное различие: Сорокин многостилен, его язык бесконечно разнообразен, а язык Пелевина не знает «чужого слова», речевой интерференции. Это связано не с жанром дистопии, как считает И. Б. Роднянская (Пелевин много написал тем же языком и вне этого жанра), а с тем, что для него важны не языковые красоты, а неразрешимое логическое противоречие, которое надо только точно выразить, как в научной статье, – добраться до него кратчайшим языковым путем. Каламбур потому и торжествует, что он – наиболее экономная форма, кратчайший путь к пустоте (сознания). Отсюда и реклама – чистая знаковость, она же реальность консюмеризма. И буддизм, который стремится к пустоте, она же полнота. И тема наркотиков, которые уравнивают, делают неразличимыми реальность и иллюзию. И виртуальная реальность, погружаясь в которую человек перестает различать тот и этот мир. Всюду две сущности, уравненные и опустошенные.
Теперь вернемся к новой книге.
Роман «Числа» – книга о «плене ума», о зафиксированности сознания на ритуале, которому подчинена вся жизнь. Герой служит цифре «34» и борется с цифрой «43». О внимании к цифрам люди не говорят вслух (так же как о «снах наяву»), но все же мы проверяем счастливые билетики, вспоминаем, что сегодня тринадцатое число, считаем шаги, как Раскольников, гадаем… Особой формой этой болезни страдают литературоведы, которые ищут скрытые смыслы текста, пользуясь символикой цифр (почерпнутой, скажем, из статьи В. Н. Топорова в «Мифах народов мира»). Не так далеко отстоит данный комплекс и от писательской обсессии – вроде той, о которой идет речь в этой статье. В данном случае пелевинский текст становится почти автореферентным, то есть почти уроборосом.
Цифры – это чистая пустота, знаки без значения. «34» в определенном смысле эквивалентно «43», – равно по пустоте, а не по количеству или внешней форме. С другой стороны, если 34 – позитив, а 43 – негатив, то 34 = 43 – это каламбур. К этому каламбуру и сводится в конечном счете сюжет.
Сюжет этот построен на случайных цифрах, но он не так случаен, как может показаться. Действие развивается по канве мифа: Солнечный Герой получает предсказание о неизбежной встрече со своим двойником – Лунным Героем, вступает с ним в поединок, поначалу терпит поражение, потом побеждает, но это победа пиррова: смерть двойника оказывается гибелью самого героя. Механизм каламбура сам наращивает мясо на этом скелете: Герой – значит, нашего времени, например банкир; Солнечный – Sun-банк и Сан(итарный) банк; Лунный – «человек лунного света» и т. д. Но суть построения задана уже на глубинном мифологическом уровне, который доказывает все то же тождество: все сущности – добро и зло, солнце и луна – обратимы, 34 = 43.
Самое интересное в книге Пелевина – это не роман «Числа» и его дополнения, а последний рассказ сборника – «Запись о поиске ветра». Это письмо ученика, китайского писателя XVI века, к учителю, носящему имя мифологического Цзян-Цзы-Я, мудреца, покорившего ветер. (Когда Пелевина спрашивают об отношении к буддизму, он отвечает: «Я только ученик».) Этот ученик «узрел Великий Путь, как он есть сам в себе, не опирающийся ни на что и ни от чего не зависящий». Что же он узрел? А вот что: мир есть всего лишь отражение иероглифов. При этом иероглифы, которые его создают, не указывают ни на что реальное и отражают лишь друг друга, ибо один знак всегда определяется через другие. И ничего больше не существует.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































