Текст книги "Ржа"
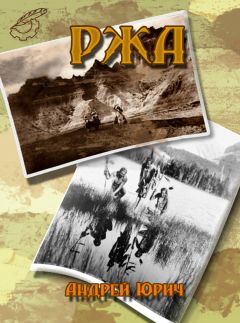
Автор книги: Андрей Юрич
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
19
Племя почему-то ржало. Алешка отвлекся от своих мыслей про железного чертика и спросил:
– Вы чего?
Ему в лицо одновременно вытянулись несколько пальцев:
– Ты на себя посмотри!
Вождь провел ладонями по щекам. Индейцы хором прыснули, а Дима даже свалился с фундамента трубы, приземлился, как толстый кот, на четыре конечности и от смеха не мог подняться с земли, лишь косился через плечо на Алешку. Только сейчас вождь сообразил, что на физиономиях воинов лежит густой слой черной сажи, а подбородки у них белые, потому что в трубе их закрывали коробочки распираторов. Выглядело это действительно смешно.
– Что, – захихикал вождь, – и я такой же?
– Не, – помотал головой ржущий Пашка, – Ты вообще весь черный. И Дуди тоже.
«Ну, конечно», – подумал вождь, – «Мы же сняли свои распираторы там, внутри».
Его мучил вопрос, надо ли индейцам знать, что произошло с ним на невидимых скобах в сажистой темноте. Дуди спас жизнь вождя. И это было дико. Это не укладывалось в представления племени о Дуди. Не соответствовало всем прежним поступкам Дуди и тому, как воины привыкли поступать с ним самим. Сейчас Дуди сидел и улыбался самым дурацким образом – во весь рот, ощерив белые зубы и сверкая белками огромных глаз. А там, где не видно было его улыбки и бессмысленного взгляда, детского лица, он действовал как настоящий шаман – как будто мог видеть в темноте и знал события до их свершения. Алешка даже помнил еще вкус Дудиных слюней на загубнике. И он подумал, что сейчас, когда Дуди ведет себя уже совсем не как шаман, слюни-то его наверняка не успели измениться. И, может быть поэтому, а может быть потому, что не хотел быть публично обязанным маленькому дурачку, или потому что своим поступком Дуди, как ни странно, бросал тень на авторитетность, самостоятельность и предусмотрительность главного человека племени – вождь ничего не сказал воинам. Дуди остался классическим придурковатым шаманом из болгарского вестерна.
Отойдя на пару сотен метров в тундру и умывшись из ледяной лужицы, воины собрали совет. Все племя расселось в кружок на сухих кочках.
– Пусть Дуди спляшет. Шаман должен плясать и говорить с Богом на виду у совета, – сказал Пашка.
Все закивали серьезными лицами. В кино шаман всегда плясал перед важными совещаниями.
– Дуди, пляши! – махнул рукой Алешка.
Шаман вышел в круг, поднял ладошки к небу и начал притопывать на месте, поглядывая с восторгом на друзей.
– Ну, и с Богом поговори… – с сомнением в голосе дал команду вождь.
– Дуди-дуди! – крикнул звонко шаман, – Дуди!
– Вот и ладно, садись, хватит людей смешить, – Алешка дернул шамана за полу курточки и тот послушно уселся у ног вождя.
– Это не настоящий шаман, – сказал Спиря, – У него пена изо рта не идет.
– Какой есть, – примирительно сказал Алешка.
– В кино у индейских шаманов не шла никакая пена, – пояснил Пашка, – Это у ваших якутских, наверно, идет.
– Я не якут! – Спиря даже привстал над своей кочкой, – Я эвен!
– Ну, ладно, ладно, ты эвен, а они якуты, – Алешка указал на Диму и Колю, – Давайте уже дело говорить.
– Я не якут! – Коля повернулся к вождю и Алешка с удивлением заметил, что лицо их старшего воина подергивается, как будто от сильного волнения.
– А кто ты?
– Я бурят!
– А какая разница?
Коля хотел что-то сказать, но поперхнулся словами. Дима мрачно поглядывал поверх толстых щек то на Спирю, то на Колю. Участники великого воинского совета вдруг почувствовали, как между ними пробирается что-то скользкое, противное и бессмысленное.
– Ну, вы же все так похожи, – попытался объяснить Алешка.
– Я не похож! – взвился Коля, – Моя фамилия Чимитдоржиев!
Всегда меланхоличный, похожий на грустного инопланетянина, истосковавшегося по звездам, сейчас он был красным и злым, стоял во весь рост и махал руками.
– А как твоя фамилия? – спросил вождь самого толстого из своих бойцов.
– Егоров, – сухо ответил Дима.
– Это русская фамилия.
– Это якутская фамилия, – смуглые щеки Димы вдруг тоже начали румяниться.
– А Слепцов?
– Слепцов – эвенская, – Дима презрительно выпятил нижнюю губу и посмотрел черными глазами-щелочками в узкие глаза Спири.
Тот сидел на кочке и нехорошо ухмылялся, не отводя взгляда. Его верхняя губа медленно поджималась вверх, превращая улыбку в волчий оскал.
Алешка испугался. Ему показалось, что его воины сейчас будут драться, по причине, которую он никак не может уловить в их словах. Поэтому он встал посреди круга, еще не понимая, что хочет сказать.
– А я индеец! – вдруг выпалил он неожиданно для самого себя.
Все тихо уставились на него снизу вверх. Он молчал, соображая.
– А ты, Пашка, кто?
– Я украи… – Пашка быстро все понял, – Я индеец, конечно.
– А ты, Коля, индеец?
– Индеец, – смущенно буркнул Коля.
– А вы, оба?
– Индейцы, индейцы, не переживай… – Дима резко откинулся на спину, в сухую траву, и раскинул руки, – Ирокезы, сиу и даже немного последние из могикан.
– А я просто индеец, – прожевал слова Спиря, – Я не могикан.
– А ты, Дуди, индеец? – спросил Пашка у шамана.
– Дуди! – ответил шаман.
– Вот видите, он тоже индеец, – хихикнул Пашка, и вслед за ним расслабленно засмеялось все племя.
20
Пуньку в индейском дворе знали все. У этой белесовато-рыжей собачки была трудная и даже трагическая судьба. Чистопородный померанский шпиц, она была привезена за полярный круг одним рудничным инженером – в подарок маленькой дочери. Дочке было тогда четыре года, ее звали Наташа, и она была красивой глазастенькой малышкой с повадками хорошей домашней хозяйки – отличалась рассудительностью, кормила своих кукол полезной кашей и не общалась с дурными мальчиками. Мордатого коротконого щенка, похожего на тявкающий комок шерсти, она, конечно, назвала Пушинкой.
Все короткое собачье детство Пушинка вместе с куклами ела молочную кашу, носила кукольные платюшки и спала в одной постели с маленькой хозяйкой. Наташа никогда не обижала свою любимицу, хотя и бывала строга: усаживала щенка на стульчик и долго читала нотации, подражая строгому маминому голосу и грозя пальчиком перед щенячьим носом. Мама Наташи работала учительницей, строгости и педагогических приемов ей было не занимать. В новой квартире, которую папа получил от рудничного управления, Пушинка обнюхивала углы и предчувствовала своим нехитрым собачьим существом спокойную и теплую жизнь. Однажды в гостях у Наташи и Пушинки даже побывал мальчик Алеша из первого подъезда. Тогда он еще не был индейцем и по вечерам, придя из детского сада, бесцельно и задумчиво бродил по пыльному двору и, отмахиваясь от комаров, скучая, жег мух увеличительным стеклом.
– Познакомься, Пунечка, это Алеша, – представила Наташа их друг другу.
В инженерской квартире, в просторной кухне, за большим круглым столом, за каким Алешка не сидел еще ни разу в жизни и даже не знал, что такие бывают, его угощали сгущенкой с какао – он ел прямо из банки, и съел так много, что Наташина мама начала беспокоиться и спрашивать у кого-то по телефону: «Как ты думаешь, ребенку можно столько какао?»
Может быть, Алешка и еще приходил бы в эту гостеприимную квартиру, но у Наташи случился первый приступ. Мама нашла дочку в углу детской: та сидела на полу, смотрела перед собой и раскачивалась всем телом, как живой маятник. Так продолжалось больше двух часов. Ее увезли на «скорой» и привезли на следующий день, крепко спящей. Приступы становились дольше и чаще. Скоро они происходили почти каждый день: глаза Наташи стекленели, она замирала в одной позе и принималась качаться взад-вперед. Местный психиатр не мог ничего толком объяснить. Наташин папа взял на работе отпуск за свой счет и увез девочку в Якутск. Вернулся оттуда со спящей дочкой на руках, подавленный, в тот же вечер напился, неумело, жестоко, до приступов удушья и судорожной блевоты.
– Мне надо было как-то забыть, – объяснил он жене.
Скоро стало заметно, что Наташа забывает слова. Ее речь теряла связность. Фразы становились все короче. И уже в перерывах между приступами она сидела, молча уставившись в пол перед собой, и разве что не раскачивалась. В квартире поселилось запустение. Девочку возили по разным городам – показывали то светилу детской психиатрии, то профессору-неврологу. Некогда было мыть пол под большим и круглым кухонным столом, незачем стало покупать сгущенку и какао – Наташа ела мало, и положив кусок в рот, забывала жевать. Уже никто не хотел смотреть «Спокойной ночи» по телевизору, и экран его тоже покрылся пылью. Наташа как будто напряженно размышляла о чем-то, и для этого ей приходилось глубоко-глубоко уходить в себя, терять даже способность ощущать холод, боль, жажду. В детской, где раньше звенел ее беззаботный смех, прочно установилось отрешенное молчание. Родители все реже смотрели друг другу в глаза.
Из квартиры пропали куклы. Сначала их, запылившихся, не двигавшихся много месяцев, сложили в старый чемодан и закинули на шкаф, а потом и вовсе унесли. Пропал большой и круглый обеденный стол из кухни. Его исчезновение даже не обсуждали. Папу уволили с работы – не потому, что он часто брал отпуск, чтобы возить Наташу к светилам, а за пьянство на рабочем месте и грубые ошибки в обеспечении техники безопасности подземных работ. Он устроился сторожем, записался в районную библиотеку и стал пить еще больше, каждый вечер. Дома он безучастно лежал на своей одинокой кровати, не раздевшись, в тяжелых горняцких ботинках, и жадно читал библиотечные романы, впуская в себя чужие придуманные жизни и выдыхая алкогольный перегар. Мама Наташи тоже перестала снимать сапоги, приходя домой. Она быстро забыла дату последней генеральной уборки в квартире, не обращала внимание на приходы и уходы мужа, на его опухшее лицо и виновато-мрачный взгляд. Зато она подолгу сидела с молчаливой неподвижной дочкой, занимая себя пустячным рукодельем – аппликациями, вышивкой по краю платочков, плетением из бисера. Заметив, что в длинных тихих разговорах она стала отвечать сама себе за Наташу, она нисколько не удивилась и даже обрадовалась – теперь она знала, что хочет сказать дочь. Как настоящие подружки, они шушукались, смеялись, делились переживаниями и обыденными женскими заботами. Правда, Наташа все это время не раскрывала рта, опустив лицо к грязному полу, и иногда принималась нудно раскачиваться. На лице ее мамы укрепилось выражение напряженного и сосредоточенного веселья.
Пушинка, наверное, сдохла бы с голоду за кроватью читающего папы под непринужденное мамино хихиканье на два голоса. Но однажды ей удалось выскочить во двор через неприкрытую входную дверь. К тому моменту она уже забыло свое детство со вкусом молочной каши, была существом отчаянным, злым, идущим по собачьей жизни как по кромке высокого речного обрыва.
Как ни странно, исчезновение полудохлого шпица заметил бывший инженер. Он долго бегал по двору, отекший, с багровым от натуги лицом, и пытался растопыренными толстыми пальцами поймать юркую собачонку. Подманить ее пищей он не пробовал, и наверное поэтому поймать таки не смог. Он продолжал испытывать мучительную и непонятную для него самого моральную ответственность за это живое существо. Может быть, дело в том, что собачка до сих пор прочно была связана у него в голове с той глазастенькой, живой и смешной девочкой, отцом которой ему было так приятно себя ощущать в прошлом.
И когда на газонах перед домом закипала грызливая собачья свадьба, и разнокалиберные кобельки со всей округи спешили к щедрой загулявшей Пуньке, бывший инженер выходил на высокое крыльцо подъезда. Он отмечал в уме время. Через два месяца, когда округлившаяся Пунька пропадала из виду на несколько дней, он метался по окрестным дворам, срывал доски с цоколей длинных деревянных домов, лихорадочным свистящим шепотом матерился и даже ползал на животе между опорными сваями близлежащих зданий, там где кроме него бывали только мальчишки и звери. Найдя в очередном теплом углу слепых Пунькиных щенков, инженер топил их в ледниковом ручье. Потом шел домой, все так же матерясь, с трясущимися тяжелыми руками, и в добрых глазах его темнело адское одиночество.
Единственное, что могло помешать инженеру – воля и быстрота дворовых мальчишек.
В этот раз Пунькниных щенков нашел Пашка. Он ловил волосогрызок между цокольными досками соседнего дома – длинного и двухэтажного. Волосогрызками назывались здоровенные жуки, в палец длиной, а если с усами, то и в два раза длиннее детского пальца. Они появлялись только в жаркие лета, когда температура переваливала за +30, и даже комариные облака спасались от зноя в распадках у холодных ручьев. Низкое полярное солнце било потоком жгучего света по всем вертикальным поверхностям, давило в спины прохожих, вышибало слезы из глаз. Стены домов разогревались так, что на них было больно держать руку. В такие дни в кармане каждого мальчишки можно было найти увеличительное стекло, которым он в считанные секунды был способен извлечь пламя из любой деревяшки. Еще лупами жгли мух. Мушиная охота с лупой требует огромного терпения: нужно очень-очень-очень медленно подходить к дурной и сонной от жары жертве, мееееееедленно заносить руку с маленькой стеклянной линзой, и осторожно, чтобы не спугнуть потирающую лапки муху дымом от горящего под лучом дерева, и в то же время быстро, чтобы она не успела взлететь – направить на нее смертельный гиперболоид. В мгновение свертываются обугленными трубочками мушиные крылья. Насекомое принимается носиться кругами, натыкаясь всюду на смертельный столб света, сжигающий тонкие волоски на хитиновом панцире. Под конец и лапки ее обгорают и она трепыхает обугленными култышками, пытается забиться в щель. Но свет северного светила настигает ее и там… А с волосогрызками все не так. Панцирь волосогрызки стеклышком сходу не прожгешь – прыгнет сильными лапами в сторону, выпустит огромные крылья и полетит тяжелым бомбардировщиком, неловко облетая преграды. Тут ее и лови. Даже ловить не надо – просто встань на дороге, и она в тебя ударит, больно, тяжело, как свинцовая пулька. И от удара сама ошалеет, вцепится в одежду. А на лапках у нее заусенцы. Если одежда шерстяная или на голову тебе попадет, в волосы, запутается, зацепится так, что не вытащить. И тогда, в панике, начинает она мощными челюстями обкусывать волоски у самых лап. Если дать ей время – все обкусит и улетит, с клочками твоих волос на заусенцах. Потому их и называют волосогрызками. Ходят даже легенды, что там где волосогрызка погрызла волосы, они уже больше расти никогда не будут. Так и станешь ходить дурак-дураком: на голове выеденная проплешинка. Можно и надежнее ловить. Если ты мастер в мушиной охоте. Навык тот же: мееееееедленно протягиваешь руку к жуку и просто берешь его за один из длинных усов. Только надо следить, чтобы ус не откусил себе, и такое бывает – отчаянные животные эти волосогрызки. Особенно самки – они-то как раз длинной в палец. А самцы у них отчего-то мелкие и вялые какие-то, совсем не агрессивные.
А двух самок-волосогрызок можно стравить, и они будут драться как глатиаторы, откусывая друг другу лапы и выламывая крылья. Можно даже стравить такую самку с оводом – правда, оводы всегда проигрывают, но все равно ведь интересно. Можно посадить ее в спичечный коробок и засечь время – через сколько минут она прогрызет картонную стенку и высунет наружу усы. Да, мало ли, сколько еще веселых штук можно придумать, когда у тебя есть жук, длиной в палец. Затем их и ловят.
Пашке показалось тогда, что волосогрызки должны непременно быть на прогретом солнце длинном цоколе. Но там их не было, потому что под цокольными досками ощущалась какая-то живая возня. Пашка заглянул в щель и увидел зеленого щенка. Тот лежал на боку, вытянув морду к Пашке и уже слегка попахивал. Он был мертвый. Чуть дальше пискливым клубком копошился выводок живых, и горели совсем уж в глубине два бесстрашных собачьих глаза – то Пунька, тяжело дыша и таращась на свет, оправлялась от долгих родов. Обычно собаки съедают мертвых щенков, но Пуня почему-то просто отползла подальше от своего неживого первенца – может потому, что его шерсть по неизвестной причине отливала мушиной зеленью, может она просто ждала неотвратимой инженерской поступи. Пашке было все равно. Он засунул под доски обе руки и выудил из теплой кучки два мягких щенячьих тельца. Сунул их под футболку и огляделся.
Спустя пару часов вдоль длинного, крашеного в синий, цоколя двухэтажного многоквартирного дома плелся инженер Пасюк – такая была фамилия у этого некогда солидного и уважаемого мужчины. Сейчас руки его дрожали, лицо было цвета говяжьего фарша, гулко сопящему в груди дыханию не хватало простора: он с шумом всасывал мясистым носом пустой и горячий северный воздух. В голове инженера было скучно и муторно.
За грузной фигурой следили зоркие индейские глаза. Вот инженер дошел до того места, где одна из длинных синих досок была сдвинута. Он ухватился за ее край и выдрал с протяжным гвоздевым стоном. Рванул другую.
– Ааааа… – сказал он, увидев зеленого щенка.
Еще одна доска со стуком упала на асфальтовую дорожку, окружавшую дом. В длинном проломе на слое слежавшихся опилок сидела Пунька и скалилась вверх, в синее небо и в обрюзгшее лицо конструктора. Пасюк схватил шпица за шкирку и выбросил в сторону, собачонка коротко взвизгнула. Инженер набрал полные пригоршни шевелящихся щенячьих тел и неловко, вперевалку, побежал к ручью, что пересекал долину, а заодно и поселок, метрах в ста от разграбленного Пунькиного гнезда. Собака с разбегу запрыгнула на полутораметровый цоколь и тут же соскочила оттуда с щенком в зубах. Помчалась наискосок через двор, шарахнулась в сторону от выскочивших ей навстречу индейцев, и скрылась под теплотрассой.
Воинам остались два щенка – один живой и один зеленый. Коля сунул за пазуху живого и племя бросилось за Алешкин дом, и дальше, через дворы. Спиря отстал и вернулся – он должен был проследить, не пустится ли инженер в преследование. Но тот вернулся не скоро, минут через пятнадцать: потемневший, с открытым от быстрой ходьбы ртом. Он матерился шепотом, а когда увидел, что оставленных им щенков нет, закричал почему-то:
– За что мне это? За что?!!
В порыве он даже вырвал еще несколько досок из цоколя. Понял тщетность своих усилий. Кинулся через двор, потом в другую сторону, но никак не мог сообразить, куда же бежать – ничто не давало ему подсказок. Он покружил вокруг полураздавленной песочницы (зимой, когда выпадало много снега, по ней иногда проезжал Пашкин отец, паркуя свой КрАЗ под окнами квартиры). Потом инженер вернулся к цоколю и, так и не тронув зеленого щенка, на которого уже садились мухи, начал прилаживать на место сорванные доски. Ему мешали погнувшиеся гвозди, которые не хотели вставать на место. И он побросал доски на асфальте и тощем кочковатом газончике.
21
– Да, не бойся ты, никто тебя не тронет. Куришь?
– Нет!
– Врешь. Как же индейцу не курить?
Прыгун сидел за столом в маленькой кухоньке. На нем был тесный школьный китель и куцые брючки. Молодое тело не помещалось в детской униформе – выпирало костистыми плечами, торчало длинными голенями из штанин. Сальные волосы топорщились в художественном беспорядке и свисали на лоб, отчего взгляд врага иногда напоминал болонку. Пашка посматривал на него искоса.
– Садись нормально… Сала хочешь?
Десятиклассник встал, распахнул дверцу холодильника, стоявшего тут же, у стены, на расстоянии вытянутой руки. В холодильнике было совершенно пусто. Прыгун открыл морозильную камеру и вынул оттуда шматок сала, с кулак величиной. Больше там ничего не было. Он аккуратно прикрыл дверцу, положил сало на стол, достал из кармана складной ножик и принялся стругать замороженный жир. Запахло чесноком.
Пашка сидел на шатком стуле и смотрел на шустро снующий вверх-вниз ножик.
– Ты извини за прошлый раз, – вдруг искренне и просто сказал Прыгун, откинув движением головы пряди с лица, – Мы думали ты наши вещи взял. А нам очень нужны они были.
И снова застучал ножиком по столу. Придвинул к Пашке наструганное полупрозрачными ломтиками сало.
– Чай будешь?
– А хлеб? – спросил Пашка.
– А хлеба нет, – Прыгун пожал плечами.
Отвернулся, пошарил глазами по кухонным полкам и развел руками:
– Знаешь, и чая тоже нет.
Они одновременно посмотрели на сало. Пашка взял один кусочек и откусил. Было на удивление вкусно.
– Я тебя сегодня напугал, наверное, – Прыгун продолжал говорить в том же доверительном тоне, – Ты бы убежал, если бы я тебя просто позвал. А куда ты щенков собирался нести?
– Не знаю, – мотнул головой Пашка, – Их Пасюк топит все время. А мы спасаем.
– Сколько спасли? – заинтересованно вытянул шею Прыгун.
– Нисколько, – угрюмо ответил Пашка и откусил еще кусочек сала, – Без хлеба как-то не очень…
– А ничего, – закивал головой дружелюбный враг, – Ты кусай помаленьку и будет почти как с хлебом.
– Я кусаю, – уныло протянул Пашка.
Ему вдруг стало грустно-грустно.
– Да, брось ты! Подумаешь, щенки! Никуда они не убегут. – Прыгун потянулся через стол и хлопнул первоклашку по плечу, – Я дам тебе денег и ты купишь им мяса. Тебе родители деньги дают?
Пашка помотал головой из стороны в сторону.
– Вот, – длинная рука бросила на стол синенькую пятирублевку, – Этого тебе на неделю хватит. А когда закончится, еще приходи.
Пашка недоверчиво посмотрел в смеющееся лицо, которое еще недавно казалось ему воплощением самого жуткого страха. Недавний враг скалил зубы в щедрой усмешке.
– Бери, бери.
Пашка взял. Купюра с хрустом сложилась в ладони и проследовала в Пашкин карман.
В прихожей этой странной пустой квартиры вдруг щелкнул дверной замок, хлопнула дверь, и в кухню, не разувшись, вошел незнакомый парень лет 18, прислонился к косяку и дружелюбно глянул на Пашку прозрачными серыми глазками.
– Слышь, Попрыгун, а эт кто? – спросил он, длинно растягивая звуки.
Пашка даже усмехнулся – насколько точно он угадал кличку.
– Это Пашка, у него с нами дела, – представил Прыгун их друг другу, – А это, кстати, тоже Пашка, он в Москве часто бывает, в Новосибирске, в Казахстан ездит.
– Держи, партнер! – прозрачноглазый Пашка кинул на стол несколько маленьких цветастых коробочек, – Это жвачка. Американская. Угощайся. Или ты закурить хочешь?
Он достал из кармана джинсов пачку «Опала» и протянул Пашке. Пашка вынул одну сигарету. Вздохнул.
Унести щенка было легко. Труднее – спрятать. Пасюк мог забраться куда угодно: за три Пунькиных беременности он изучил все секретные укрытия, лазы и маршруты дворовых пацанов. Алешке предстояло еще одно нелегкое решение. Он смотрел на слепого, тонко попискивающего, розовоносого щенка и почему-то вспоминал детский сад. Это было его совсем недавнее и в то же время бесконечно далекое прошлое – доброе, страшное, поучительное и бессмысленное.
Он вспомнил, как в средней группе они играли в войну. Собственно, в войну они играли все время. Воевать, конечно, должны были красные, они же «наши», и фашисты. Иногда вместо фашистов были белогвардейцы. Главная сложность игры заключалась в том, что никто ни разу не пожелал стать хотя бы на полчаса немцем или беляком. Каждый хотел быть только красным. После долгих споров всякий раз происходило одно и то же. Красные делились на две части и начинали боевые действия друг против друга. При этом обе стороны искренне считали противников фашистами и яростно отрицали собственную фашистскую сущность. С криком «за красных!», с деревянными саблями и знаменами в руках, они сходились в безжалостной схватке под детсадовским портретом дедушки Ленина. Убитые герои падали наземь, как созревшие яблоки в бесконечно далеких южных садах. Алешка тоже был красным, но поверить до конца в игру не мог и потому рубил фашистов с неохотцей. Его мучила неопределенность.
– Ведь, если они красные и мы красные, то чего же мы друг друга убиваем? – вопрошал он своих товарищей.
Но те были живыми общительными детьми, и процесс игры увлекал их гораздо больше отвлеченных рассуждений.
Однажды Алешка не стал играть в войну. Он стоял в сторонке и смотрел, как сходятся два красных отряда, упоенные яростью предстоящего побоища.
– За Ленина! – крикнул боец в одной партии красных.
– За Ленина! – подхватили его мальчишечьи голоса с обеих сторон.
И застучали деревянные сабли, повалились на ковер, истекая воображаемой кровью, убитые командиры, комиссары, комсомольцы.
В этот момент Алешка принял решение и крикнул, как только мог громче:
– А я за Гитлера!
Буря битвы мгновенно смолкла. Комсомольцы в съехавших на одно ухо бумажных буденовках смотрели на него пустыми командирскими глазами. Мертвые поднимались, чтобы узреть невиданное. Тишина опустилась на детсадовскую группу.
– Я за Гитлера! – повторил Алешка, ожидая нападения, смертельной и стремительной атаки озверевших конников, безжалостного звона придуманных шашек.
– Ты за кого? За кого? – спросили его сразу несколько красных голосов.
– За Гитлера я, за Гитлера.
И в подтверждение своих слов Алешка подбежал к рисовальному столику, схватил оттуда шариковую ручку и начертил у себя на ладошке кривую левостороннюю свастику.
– Вот, – сказал он и ткнул раскрытой пятерней в сторону Красной Армии.
Толпа шатнулась и побежала.
– Ирина Александровна! – кричали буденовцы, обступив воспитательницу, – А он сказал, что за Гитлера! Он немецкий крест нарисовал! На руке!
Ирина Александровна, притворно нахмурив доброе лицо, погрозила Алешке пальцем и отошла за свой воспитательский стол.
А юный гитлеровец, немец и беляк еще долго стоял в пустоте. К нему никто не подходил. Никто не хотел его убить. Даже не обзывал. Два отряда красных снова сошлись в войне не на живот. И все, что ощущал на себе Алешка – было отстранение и безразличие.
Теперь, в новой индейской жизни, когда нужно было принять очень важное и совсем не очевидное решение, от которого зависела судьба его народа, он почему-то чувствовал вокруг себя тот же детсадовский вакуум. Одиночество и отстраненность, вместо желаемого участия и дружеской поддержки.
– Пойдем к домику! – сказал он сухими и точными словами вождя, – Коля и Дима отнесут туда щенка. Остальные будут искать Пуньку, и когда найдут – тоже отнесут к домику. Некоторое время придется носить Пуньке еду. Но это единственное место, куда не пойдет Пасюк.
Никто в поселке не помнил, когда появился домик на горе. Каждый родившийся в этих местах привыкал считать его частью окружающего пейзажа с тех пор, как научился осознавать увиденное.
Домик стоял на самой макушке одной из сопок. Долина изгибалась подковой вокруг ее широкого основания. А наверху, над поселком, а иногда над низкими облаками, стоял толстостенный бетонный дом, величиной с обычную спальню, с односкатной толевой крышей. В нем была пара маленьких окон и тяжелая двойная дверь. Снизу, через весь склон, к домику вела вереница глубоко вбитых в вечную мерзлоту деревянных столбов с электрическим кабелем.
Мало кто мог объяснить внятно назначение этого строения. Двойная дверь всегда была заперта.
Пашка утверждал, что домик раньше был под потолок забит неким «оборудованием». Якобы он, Пашка, однажды был там со своим братом, и дверь была открыта, и они заглянули внутрь – а там «приборы». Мало кто верил Пашке. Родители называли домик «станция» или «подстанция», и это тоже ничего не объясняло: они пожимали плечами, когда их спрашивали о назначении «станции».
Прошлым летом домик изменился. Его обнаружили пустым, с беспомощно распахнутой дверью. Внутри был дощатый пол, проломленный в одном месте непонятным способом. Голые бетонные стены, бугристые, без всякой отделки. Серый потолок. И пыльный свет из маленьких окошек. По стенам змеились следы сорванной электропроводки.
Открытие заинтересовало многих. Но, несмотря на кажущуюся близость – домик был виден почти из любой точки долины – находился он все же далеко. Подъем к нему требовал не менее часа активных физических усилий. Долина, поднятая над уровнем моря на полтора километра, и без того не могла похвастаться обилием кислорода в своем воздухе. Поэтому уже на середине склона каждый, поднимавшийся к домику, начинал хватать ртом воздух и часто останавливался перевести дух. К тому же наверху всегда, даже в самую сильную жару, дул с Ледовитого Океана (невидимого за 300 километров) студеный ветер. Эти обстоятельства делали домик надежным, но никому не нужным убежищем.
Коля шел к домику, ощущая, как у него под кофтой копошится маленькое живое существо и тыкается слюнявой мордочкой.
Если хочешь быстро идти по тундре, нужно шагать размеренно, как будто на счет. Представляешь себя механизмом и пошел – раз, два, раз, два, левой, правой. Чтобы эти бесконечные кочки, лужицы, вывороченные или плоские как каток камни не сбивали тебя с толку, чтобы не начал из-за них думать, куда вернее поставить ногу, семенить, обходить, вихлять, сбиваться с пути. В тундре нет верных мест. В лужицу, глубиной в два пальца, можно провалиться по пояс. Ровная ягельная полянка окажется вдруг ледяной линзой, расступится у тебя под ногами и ухнешь с головой в мерзлотную яму, к мамонтам. Любое озерцо или речка может иметь двойное дно – сверху будет прогретым, ласковым, с мальками блескучими, а пойдешь по песчаному дну и уйдешь в многометровую ледяную кашу, которая не оттаивала последние лет эдак с пару тысяч.
А если не думать про все это – идешь и идешь, раз-два, раз-два. Все так ходили. И никто не умер. За редким исключением.
Рядом топал резиновыми сапогами воин Дима. Он имел осанку скучающего капрала на марше. Шел, выставив вперед толстый живот, задрав подбородок, не глядя под ноги. Чмок! – говорил его сапог, вытягиваемый из грязевой ловушки размером в две ладони. А он и внимания не обращал.
Коля косился на своего спутника и видел в его лице равнодушие. Это было очень неприятно, потому что сам он остро переживал. Найдут ли индейцы Пуньку, поймают ли, принесут ли вовремя на вершину, к домику?
Сопка наползала широким склоном, вначале пологим, почти незаметным подъемом, а потом все круче, круче, так, что в конце придется хвататься руками за камни перед самым лицом.
– Думаешь, они успеют? – спросил Коля и подумал, что, наверное, ему не надо задавать таких вопросов младшему по возрасту.
Дима повернул смуглое равнодушное лицо и поглядел черными глазами-щелочками. Он слишком долго молчал перед ответом, так что Коля уже понял его мнение по одному лишь внимательному молчанию.
– Успеют, – сказал Дима.
И от этого слова у Коли на душе появилось что-то щипучее, как зеленка на ране.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































