Текст книги "Фабрика мухобоек"
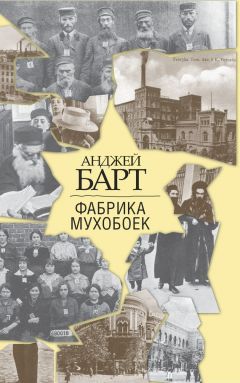
Автор книги: Анджей Барт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Марек торопится – ему еще нужно найти похороненную где-то здесь кузину с материнской стороны; прощаясь, он просит поцеловать Беату, а Дору окидывает взглядом мужчины, для которого женская красота не составляет тайны. И шепчет мне на ухо: «Я тебе говорил, что моя мама была рыжая, а я до конца жизни рисовал рыжеволосых женщин». «До конца жизни» – ага, стало быть, знает, что просто так из Парижа в Лодзь не вернуться. И вот он удаляется, долго и красиво, становясь все меньше и меньше.
Около наших могил я слышу мамин голос: «Смотри, сынок, как бы не сделать Беате больно». Отец молчит, но не исключено, что тем самым выражает мне свою поддержку: мол, тебе ведь никогда больше не пережить ничего подобного. Тетя Халя, сама, помнится, особа без предрассудков, пытается, как юрист и певица в одном лице, объяснить мне, какими могут быть женщины, притом не только чешские. Одна лишь бабушка, с которой мне трудно находить общий язык, поскольку она умерла до моего рождения, сетует, до чего же безобразны надгробия нуворишей, и посылает меня жаловаться в управление охраны памятников.
Дора оживляется только возле могилы Айры Олдриджа[49]49
Айра Фредерик Олдридж (1807–1867) – американский актер-трагик, один из самых выдающихся интерпретаторов Шекспира.
[Закрыть], чернокожего актера, который умер в Лодзи во время европейского турне. До сих пор в одной из лодзинских гостиниц хранится кровать, к которой снизу прикреплена латунная табличка, увековечивающая сей факт. Дора слышала про этого актера, дедушка с бабушкой рассказывали ей, как потрясающе он играл в Праге Отелло, а главное, был здоровехонек. И сообщает мне об этом с такой радостью, будто встретила старого пражанина, и даже называет театр, где Айра блеснул в роли мавра. Но сколько можно бродить по кладбищу с женщиной, которая знает здесь только американца? Вот еще Юрек Грошанг, художник и поэт; он хочет, чтобы я похвалил его новое стихотворение, но я убегаю, не рискуя выслушивать его неземные строки. И тут мне приходит в голову: пора распрощаться с прошлым и показать Доре что-нибудь более привлекательное для красивой молодой девушки.
Ближе всего – прямо за кладбищенской стеной – фабрика Познанского, превращенная в самый большой в мире (по площади, измеряемой в квадратных километрах) развлекательный центр, каких не видали со времен Диснейленда. При Познанском это был огромный фабричный комплекс с собственными улицами и множеством железнодорожных путей – подобного не сыскать было в Европе; сейчас посетителей там возит специальный трамвай. И я, набравшись смелости и заглушая угрызения совести, говорю Доре, что сейчас она увидит знаменитую Пётрковскую улицу.
И вот мы уже идем по Огродовой, мимо «семейных домов», некогда построенных для работников фабрики; сейчас здесь царят веселье и радость. Современная (по меркам XIX века) квартира составляла предмет гордости бывших деревенских жителей, после отмены барщины устремившихся в новый город. «Тут абы кто не жил, деды наши были настоящие баре» – эти слова я услышал от одного из обитателей таких домов, после войны чудовищно перенаселенных. Как издевку над моим сочувствием к бедолагам, оставшимся, со своей единственной на этаж уборной, в другой исторической эпохе, вспоминаю вырезанную из лодзинской газеты рекламу спа-салона, которую – явно с недобрыми намерениями – прислали мне во Вроцлав. Салон этот расположился практически на задах «семейных домов», на улице, до войны заселенной не слишком зажиточными евреями. Я бы обошел своим вниманием эту рекламу, если б не упоминание о так называемого luxury-spa, где клиенты могут принять ванну с вином или виски. Сейчас мне осталось утешаться тем, что письмо с газетной вырезкой было всего лишь предвестником моей болезни, и заговаривать зубы Доре, чтобы она не заметила горемык из favela[50]50
Фавелы (порт.) – трущобы в городах Бразилии.
[Закрыть], под окнами у которых раскинулся потребительский рай.
Тем временем я узнаю, что читать она начала в раннем детстве и что в гетто ей прислал письмо Роберт Музиль, которому она впервые осмелилась написать сразу по окончании гимназии. Так беседуя, мы благополучно доходим до Западной улицы. Тут у перехода уже толпятся люди, нетерпеливо ждущие, пока погаснет красный свет, чтобы побыстрее заняться покупками или просто оказаться там, где чисто. Внезапно Дора дергает меня за рукав и со страхом указывает на что-то взглядом. Я потрясен – настолько, что едва не очнулся у себя во Вроцлаве. А мог бы выработать иммунитет – ведь я уже видел такое, притом наяву, незадолго до отъезда из Лодзи. На краю тротуара, в ожидании, когда переменится свет, стоит девушка в шерстяных носках, теплой юбке и зеленой куртке. У нее приятное, хочется сказать «экологическое», лицо. Перед собой она держит, точно свечу, табличку, густо исписанную печатными буквами. Ну и длинная же просьба! – первое, что приходит в голову, и только минуту спустя я понимаю, что вижу многократно повторявшуюся сегодня фамилию Румковский.
Уже в первый раз, наяву, мне стало не по себе, а что говорить теперь, когда я расхаживаю по городу с девушкой из гетто! Каково это – в XXI веке, на пороге веселого мира торговли и развлечений, узнать, что евреи не только развязали войну, но и не рассчитались с Румковским, величайшим военным преступником, который пособлял немцам, отправляя своих соплеменников на смерть. Ну и ну! Девушка, с которой я тогда заговорил, удивилась, что мне знакома эта фамилия, и еще сильнее удивилась, когда я сказал, что существование Румковского – никакая не тайна и что о нем написано больше, чем за всю жизнь прочитали водители, остановившиеся на светофоре. Кажется, она мне не поверила. Я вспомнил, что о Румковском никто, наверно, не написал хуже, чем польский еврей Адольф Рудницкий в своем «Лодзинском торговце». «Читали?» – спросил я у девушки с табличкой. Она не читала, но в глазах у нее, я заметил, вспыхнул неподдельный интерес. Надо надеяться, не из уважения к имени Адольф… да и вообще она была всего лишь ходячей рекламной тумбой, не отвечающей за содержание объявлений. Плохо было бы, если б девушка, у которой рано или поздно появятся дети, жила ненавистью, и эта ненависть заставляла ее сообщать прохожим на улицах, что во всем виноваты евреи, поскольку у них был такой вот Румковский. Как будто это не проблема для самих евреев! Именно на нее и на ее табличку указывала сейчас Дора. Девушка заметила, что ею заинтересовались, и улыбнулась, призывая прочитать написанное.
– Она требует сурово наказать господина председателя. Не будем вдаваться с ней в дискуссию – вдруг смекнет, что ты здесь без разрешения.
– Она еврейка?
Вместо ответа я указал на загоревшийся зеленый свет.
Всему хорошему когда-нибудь приходит конец, подумала Регина. Несмотря на скандал, полтора часа, проведенные в театре, оказались как раз тем, о чем она последние четыре года мечтала. Будь ее воля, она бы просидела в затемненной ложе до конца жизни, сколь бы жалкими ни были потуги актеров воплотиться в персонажей шекспировской пьесы, что бы ни выкрикивала и чем бы ни швырялась публика. Однако к возвращению в зал суда отнеслась спокойно и даже не поморщилась, когда охранник в гражданском грубо велел ей поторопиться.
Народу в зале заметно поубавилось, и на скамье присяжных недоставало двоих. Регина села и заставила себя сосредоточиться на показаниях очередного свидетеля.
– Чепуха это, мало ли что люди болтают. Не было никакого салон-вагона. Я своими глазами видел, как он с семьей садился в обычный вагон. С женой – вот она, здесь сидит, – и мальчонкой, которого они усыновили. Еще там был его брат Юзеф с женой… Для удобства им подставили лесенку. Бибов с ним попрощался вежливо, даже по спине похлопал …
Регине не нужно было смотреть на мужа – она знала, что при словах «похлопал по спине» у него по этой самой спине побежали мурашки.
– Минут десять он еще мог думать, что весь вагон – их. Но стоило Бибову отойти, солдаты, будто нарочно, забили вагон до отказа…
Что-то заставило ее взглянуть на судью. И хорошо, что взглянула: тот смотрел на нее, театральным жестом обхватив руками седую голову. Потом повернулся к Хаиму:
– Я понимаю, чту вы сейчас испытываете. Чего только на вас не навешивают… Но тут есть и хорошая сторона: возможно, рассказы о том, что в Аушвице вас уже поджидали жаждущие мести лодзинские евреи из зондеркоманды, тоже окажутся вымыслом. И уж тем более легенда, будто вас выкупили у немцев и, с надлежащими почестями проведя по лагерю, живьем бросили в печь крематория. Так или иначе, я слышал из достоверных источников, что встреча была горячая… простите за невольную игру слов… и вы, как и все остальные, до последней минуты надеялись, что из душа пойдет вода… А что может быть прекраснее надежды? Ну да ладно… теперь ваш черед, господа: ждем от вас заключительного слова…
– Ваша честь, – вскочил со своего места Борнштайн, – поскольку у нас допускаются нарушения процедуры, можно я выступлю первым?
– Если обвинитель не возражает. – Судья развел руками, а Вильский жестом показал, что не возражает.
– Благодарю, – Борнштайн нервно поправил галстук. – Прежде всего хочу сказать, что я многому научился на этом процессе, и не только потому, что впервые выступаю в роли защитника. Всем нам известные обстоятельства не позволили мне закончить университет, хотя, даю слово, в Гейдельберге, студентом третьего курса, я занял первое место на ораторском конкурсе и вообще, как говорили, подавал надежды. Но теперь мне легче смириться с тем, что я не стал дипломированным юристом, – ради участия в таком процессе стоило расстаться с жизнью. Приношу глубокую благодарность за предоставление такой возможности, – он поклонился судье. – Что заставило вашу честь выбрать именно меня, я буду гадать, пока способен размышлять здраво…
– Чтобы вас не огорчать, не стану говорить, что вы просто подвернулись под руку.
– Все равно спасибо: вы не всякому позволили бы подвернуться себе под руку. Кроме того – пускай это покажется странным, – я благодарю господина председателя за то, что возникла необходимость его судить… Для меня это поистине счастливое обстоятельство…
Судья только хмыкнул.
– А теперь перехожу к сути. Вероятно, всем вам известны знаменитые слова Сен-Жюста, которые он произнес на суде над Людовиком XVI: «Невозможно царствовать и не быть виновным».
Борнштайн словно бы специально обращался к присяжной Хае Бубер, которая до войны держала лавочку на Вольборской и не знала не только этих слов, но и многого другого. Регине это показалось дурным тоном и уж никак не смешно.
– Можно ли отнести высказывание Сен-Жюста к моему подзащитному? Казалось бы, безусловно: это прямо-таки напрашивается, – но было бы чересчур эффектно. Господин председатель по природе своей человек властный. Он долго руководил сиротским приютом, а в таком заведении, как и в казарме, тюрьме или психиатрической лечебнице, все сферы жизни подконтрольны начальнику. Уже тогда дети дарили ему самоделки и распевали: «Наша мать – земля, отец наш – Хаим Румковский». Он был абсолютным властелином, но руководствовался – или, по крайней мере, так думал – исключительно добрыми намерениями. Уже в 1927 году он говорил, что приютских детей надо воспитывать только как земледельцев или ремесленников. Ибо лишь такие люди, по его мнению, нужны будущей Палестине…
Регина старалась угадать, как будет дальше строиться защита. Подчеркивание деспотичности характера Хаима не показалось ей удачным ходом. А уж упоминание детей из сиротского приюта и вовсе могло сыграть против него.
– Неожиданно – притом на склоне лет – наш диктатор наконец получает подходящую должность. Его задача – создать с нуля государство-тюрьму, где подданными будут уже не дети, а самые разные представители еврейского народа…
Защитник больше не смотрел на бедную Хаю Бубер. Расправив плечи, он повернулся к залу. Так поступал Регинин шеф, но только когда уже почти ничего не мог сделать для своего клиента.
– Мой подзащитный добивается больших успехов. Наконец-то он может сказать: «Мое гетто подобно маленькому царству». – Борнштайн низко поклонился Хаиму. – Этот человек, прежде не игравший заметной роли в обществе, внезапно осознает себя покровителем всех лодзинских евреев. Мало того: когда прибудут эшелоны с западноевропейскими евреями, он почувствует себя ответственным за весь мир. А при случае сможет свести счеты с этими, вроде бы образованными и просвещенными гордецами, до сих пор понятия не имевшими, что на презираемом ими Востоке есть человек, который проведет их по пустыне. Как единодушно утверждают свидетели, он значительно помолодел. Заметим, что после сорок второго года, когда его влияние в гетто ослабевает, председатель начинает быстро стареть. Он до такой степени любит власть, что его тело расцветает с ее обретением и увядает с утратой. Если даже это безумие, то оно всосано с молоком матери, и я прошу считать это важным смягчающим обстоятельством.
Бедняга старался изо всех сил, но даже по затылку Хаима можно было понять, что линия защиты ему не нравится.
– А теперь я сошлюсь на другое мнение. Иммануил Кант утверждает, что обладание властью неизбежно идет во вред практическому разуму. Если применить это суждение к моему подзащитному, то не окажется ли, что великий философ ошибался? Ведь господин председатель до конца руководствовался хорошо продуманными – правда, весьма своеобразными – соображениями. «Я люблю детей, но тем, кому нет десяти лет, не могу помочь – зато уцелеют дети постарше, а с ними и взрослые. Чахоточные все равно умрут, так что давайте спасать здоровых. Удалим больные ветки, чтобы спасти дерево». Не подтверждает ли подобный ход мыслей наличие практического разума? Хотите сказать, это жестоко? – Защитник обратился к Зыге Богельхайму, который невольно втянул голову в плечи. – А каким должен быть разум в эпоху невиданной доселе жестокости? Впрочем, хватит об этом, пора ответить на самый простой вопрос. Хотел ли мой подзащитный спасать евреев? Я убежден, что в этом зале не найдется ни одного человека, который скажет: нет.
Защитник повернулся спиной к скамье присяжных и прошелся по залу, выискивая хоть кого-нибудь, кто бы ему возразил. Не найдя таковых, он вернулся на свое место и продолжил:
– Хотел, страстно хотел. Верил, что если будет покорно служить и приносить пользу немцам, то сумеет живыми провести нас через войну. Он проиграл; если бы не счастливое стечение обстоятельств, погибли бы и последние пятьсот, для которых уже были вырыты могилы. Хорошо вам известный Маймонид говорил, что лучше погибнуть, чем продать хотя бы одну душу Израиля. За иллюзорную надежду спасти народ господин председатель продал не только свою душу. Но если б мне и моим родным удалось выжить, разве сейчас я бы вспоминал о проданной душе? Я просто радовался бы жизни…
В зале повисла тишина, не сулившая ничего хорошего. Регина ждала, что вот-вот раздастся какое-нибудь оскорбительное восклицание.
– Получается, что мой клиент похож на заслужившего всеобщую ненависть римского императора Гальбу, да? Отчасти это так – ведь даже если бы большинство обитателей гетто дождались освобождения, судьбе председателя вряд ли можно было бы позавидовать… – Борнштайн нервно сплел пальцы. – Поэтому самое время задать вопрос: каким человеком был господин Румковский, если за все, что он сделал, мы не только не испытываем благодарности, но многие готовы потребовать для него сурового наказания?
Быть может, она недооценивает адвоката, быть может, он придумал какой-то очень хитроумный способ защиты?
– Ответ возможен только один… – Борнштайн выпрямился и обвел взглядом зал, а затем подошел к Румковскому, который даже не поднял головы. – Он плохой человек, очень плохой. Мог ли он в сложившейся ситуации вести себя иначе? Нет, ибо ему свойственны властность, непотизм и гордыня, это его неотъемлемые черты, как и его знаменитая седина… Что же из этого следует? А то, что обвинить моего уважаемого клиента можно единственно за его характер… Чудовищный, да – ну и что? В таком случае… – он заговорил так вкрадчиво, что Регина вздрогнула, – напрашивается следующий вопрос. Стоило ли тратить время – наше и всех тех, кто впоследствии будет читать отчеты об этом процессе? Тратить время только ради того, чтобы осудить глупца, который уверовал в свою непогрешимость и умудрялся вести себя так, что, не будь я защитником, а он – человеком преклонных лет, я бы его отколотил его же собственной тростью? Сделать я этого не могу, но… могу вообразить, как бы это сделал!
Он неожиданно вырвал трость у Хаима из рук и ударил по стоящему рядом стулу. Удар был не сильным, но прозвучал как выстрел. Во второй раз Борнштайн замахнулся тростью, держа ее обеими руками, будто топор палача. Хаим, понимая, что ему никуда не скрыться, только заслонил голову руками, а защитник, побагровев, как безумный колотил по стулу. Судья заткнул уши, но даже не попытался его остановить. Наверно, так и надо, подумала Регина, чту можно сделать с безумцем, впавшим в ярость? Тут бы и десять мужчин не справились. Наконец стул развалился на куски, и Борнштайн, отбросив трость, стал помалу успокаиваться. Регина увидела, что Хаим, схватившись за сердце, оседает на пол. Бросилась к нему, но ее опередил прокурор.
– Ваша честь, прошу привести обвиняемого в чувство – он должен слушать, а не искать убежища в безопасном забытье! – Борнштайн решительно отстранил Вильского и, подтянув за лацканы, усадил обмякшего Хаима обратно на стул. – Повторяю вопрос: стоило ли тратить время на моего клиента? Да, да и еще раз да! Тщеславие, позволившее ему поверить в собственную исключительность, заслуживает суровой кары. Нужно было выбить у него из головы ложное представление о себе, как о добром, заботливом отце евреев, и показать, что он всего лишь чванливый глупец! Пусть приговор будет суров… Пусть наказанием для него станет то, что в нашей памяти он навечно останется таким, каким был!
Регина ждала, что после этих слов в зале поднимется шум, но услышала только несколько слабых хлопков – казалось, у людей уже иссякли силы. В руках у судьи невесть откуда появился деревянный молоток – такой она видела в фильме Фрица Ланга. В зале мгновенно стало совсем тихо.
– Обвинение хочет что-нибудь добавить? – спросил судья.
– Лучше я сказать не сумею, хотя успел до войны закончить университет и даже добился кое-каких успехов. Благодарю вас, коллега… – Вильский поклонился Борнштайну, который еще дрожал от ярости. – Мне нечего добавить. Кроме одного: даже если предположить, что кто-то из тех, кого обвиняемый готовил к роли халуцим[51]51
Халуцим (ивр.) – пионеры, первопроходцы. Термин применялся к евреям-переселенцам, осваивавшим Палестину.
[Закрыть], выживет и попадет в Палестину, он услышит там, что уцелел только благодаря эгоизму, душевной черствости и жестокости бывшего председателя юденрата. Пусть это будет для подсудимого дополнительным наказанием.
– Очень сожалею, но предположение не есть доказательство. А вас попрошу удалиться на совещание, – судья обратился к почти опустевшей скамье присяжных, а затем посмотрел на Регину. Она опустила голову, теперь уже понимая, почему, несмотря на ее протесты, Марека не впустили в зал.
Дора за свою короткую жизнь успела увидеть железнодорожный вокзал, превращенный в музей, и парижский «Printemps»[52]52
Знаменитый универмаг.
[Закрыть], однако, как я и предполагал, торговый центр, расцветший на территории бывшей империи Израиля Калмановича Познанского, произвел на нее сильное впечатление. Дольше всего она задержалась у фонтанов, где радостно плескались ребятишки из расположенных по соседству домов, а когда я сказал, что, быть может, их деды возили тут тачки с хлопком, опустила руку в воду, проверяя, не снится ли ей все это. И тут же – вероятно, в приливе патриотизма – стала рассказывать о «Белом лебеде» – пражском универмаге, открытом перед самой войной. По ее словам, это был дворец в стиле модерн, высотою в одиннадцать этажей (включая два подземных), с залом площадью шестьсот квадратных метров и самым большим в Европе окном (якобы достигавшим шестого этажа), составленным из двухсот пластин серебристо-серого тепло– и звуконепроницаемого стекла. С неожиданным знанием дела Дора говорила об обогреве потолков, суперсовременной системе вентиляции, о лифтах, эскалаторах и даже кассах, пневмопочтой объединенных в единую сеть. С особой гордостью она упомянула, что, кроме огромной террасы для посетителей, была терраса поменьше, где продавцы могли в перерыве отдохнуть в шезлонгах. Над всеми этими чудесами должен был вращаться восьмиметровый неоновый лебедь.
Дора не похожа была на человека, способного, хотя бы шутки ради, приврать, однако ее основательные технические познания, а уж особенно то, как она оперировала цифрами, показалось мне подозрительным. На всякий случай я тоже сунул руку под струю воды в фонтане. Более холодной и мокрой она быть не могла. Дора немедленно догадалась о возникших у меня сомнениях.
– Мой кузен Виктор там живет… – При этих словах щеки у нее очаровательно порозовели.
– Он кто – владелец? Или сторож?
Она безошибочно читала мои мысли.
– Ты прав, я была немного в него влюблена, но давно, совсем еще маленькой, так что выбрось это из головы. Сторож? Хм, как знать, может, за чем-нибудь и присматривает… Он прекрасный художник. – Вот тут все ее лицо залилось краской. – Уже в школе замечательно рисовал, учителя предсказывали ему большое будущее. У меня в чемодане есть его тогдашний рисунок… Когда он заканчивал гимназию, у него умерли родители. Сначала мать и сразу после нее отец, Карел Пузатый, как его называли. Он занимался торговлей сельскохозяйственными машинами, был очень влиятельным в своем кругу. Одни говорили, что он покончил с собой, не сумев пережить смерть жены, другие – что с детских лет на себя покушался, а еще ходили слухи о каких-то векселях, но это уже полная чепуха. Тебе не скучно?
Чтобы иметь возможность ее слушать, я готов был никогда не выздоравливать.
– Виктор решил стать архитектором, получил диплом с отличием. И сразу попал под крыло к двум великим мастерам, авторам «Белого лебедя». Один из них сказал моей маме, когда она зашла на стройплощадку, что Виктор предложил много прекрасных идей и что его ждет мировая слава. На радостях мама пригласила господ архитекторов в воскресенье к обеду. Представляешь, оба Йозефа, Киттрих и Хрубый, у нас дома… Но с Виктором творилось что-то неладное, он перестал улыбаться и писал ужасно мрачные стихи – прямо страшно было их читать.
Дора продекламировала несколько строк по-чешски, из чего я запомнил только: «Černý mrak svým jazykem slíže, co zbude z tebe I ze mne. Tvé modré oko se první promĕní v popel».
– С ним явно что-то было не в порядке – согласись: красивый молодой человек, за которым все девушки… – Она снова покраснела, а я притворился, будто ничего не замечаю. – Охотнее всего он работал в ночную смену, с простыми рабочими. Пан Киттрих сказал, что если он будет постоянно прятаться в тень, то никогда не прославится. Как ты считаешь, это так?
– Бывает, что все-таки, после смерти… – Еще не договорив, я почувствовал, что задел ее.
– Да он наверняка жив! Я только сейчас поняла, какой он был умный. Представляешь: пришел к нам семнадцатого августа, когда дворник Чупецкий продавал нашу последнюю мебель – мы готовились уехать из Праги. И, о чудо, Виктор улыбался! Отозвал маму в пустую комнату, и они долго о чем-то говорили. Потом попрощался с нами – как будто навсегда. Я испугалась, что он собрался что-то с собой сделать, но мама меня успокоила: наоборот, он уже давно придумал гениальное убежище и нас тоже хочет спасти, потому и пришел. Но мама отказалась. Она считала, что опасность не настолько серьезна, чтобы унижаться. «Любая война рано или поздно заканчивается, Дорочка, – сказала она, – не будем даже говорить об этом отцу, он рассердится. А Виктор молод, пускай поиграет в ночного человека».
«Ночной человек» – это звучало интригующе. Не знаю, на каком этаже «Белого лебедя» Виктор устроил тайник. Они с каменщиком, которому он доверял, поставили стену так, чтобы за ней осталось пустое пространство. Часть стены сделали очень легкой, и она легко отодвигалась с помощью простого механизма. Площадь убежища должна была быть около тридцати метров. Как тебе кажется, это много? Да, но при ширине, если не ошибаюсь, всего шестьдесят сантиметров. И наши постели – как он заверил маму – будут в разных концах. Еще он сказал, что все до тонкостей продумано, и, пока будет стоять «Белый лебедь», его тайника никто не обнаружит… Ночью мы сможем выходить, мыться в современных ванных комнатах для персонала и даже читать свежие газеты. А днем… как-то не верится, думаю, он так нарочно сказал, чтобы уговорить маму… якобы он изобрел систему трубок, через которую внутрь попадает естественный свет. Согласись, это ведь невозможно?
– А пропитание? – спросил я; история эта начала все больше меня занимать.
– Он скопил большие запасы, да и в «Лебеде» есть продовольственный отдел. Виктор и мелкими купюрами запасся, чтобы расплачиваться за то, что взял, – просто будет класть деньги в кассу. Обо всем знает только один человек, старший приказчик Папоушек, вроде бы на редкость порядочный, они с Виктором вместе учились в школе. Он будет его снабжать тем, чего нельзя купить в «Белом лебеде», хотя вряд ли там чего-то может не оказаться. – Дора задумалась, что было ей к лицу, но тут же продолжила: – И тем не менее мама сказала, что лучше уж работать в поле, чем сидеть в тайнике, куда нельзя в случае необходимости вызвать врача. Но дала Виктору золотую монету – вдруг понадобится…
Я старательно закашлялся, чтобы отвлечь ее внимание от двух крепышей в элегантных черных костюмах, которые пытались незаметно для окружающих прогнать с площади пристроившегося у фонтана попрошайку. Подействовало: Дора перевела взгляд на меня.
– Простудился?
За нежность и заботу, прозвучавшие в ее голосе, многое можно было бы отдать… Я стал объяснять, что поперхнулся, а когда договорил, попрошайки возле фонтана уже не было. И тут я сообразил, какую совершил оплошность: Дорина мать тоже кашляла, и Дора тотчас о ней вспомнила. Вот что значит – раскашляться не во время.
– Мама, наверно, уже волнуется. Пора возвращаться… и надо рассказать ей про нас. Я только забегу на минутку… – Она, как ребенок, не понимала всей серьезности ситуации.
– Если у тебя есть хоть один шанс, то здесь и больше нигде. – Я обрушил на Дору лавину разумных слов, которые должны были ее убедить, что возвращаться ни в коем случае нельзя. Пустив в ход логику человека, и в бреду не перестающего рассуждать здраво.
– Если я с ней не попрощаюсь, то никогда и нигде не буду счастлива. И не говори, что, может быть, ничего не получится. Сам знаешь, как много зависит от тебя. А завтра – в Прагу, я покажу тебе там каждый камень… – Она говорила так уверенно, что мне не осталось ничего иного, кроме как поверить, что я владею ситуацией.
Регине почему-то вспомнились пятна на теле молодой женщины, отравившейся люминалом. Доктор Шклярек с видимым удовольствием показывал их студентам юриспруденции. Кто-то из Регининых однокурсников чуть не потерял сознание, но она не сводила глаз с лица покойницы. Ей хотелось понять, почему из-за любви к какому-то Яну Ваньтуху – об этом писали в газетах – Юзя решилась отдать свое нагое тело в распоряжение не только будущих юристов, но и будущих медиков, которым в ближайшее время предстояло увидеть его еще и изнутри… Она посмотрела на красные пятна на лице своего мужа, Хаима Румковского. Они, правда, побледнели, но стали еще больше похожи на те, которые доктор Шклярек назвал трупными.
Неизвестно когда и откуда появились двое санитаров в клеенчатых фартуках. Старший и, должно быть, более опытный, чей фартук был испачкан кровью, велел второму развернуть носилки. И тут Хаим, к всеобщему изумлению, встал, хотя присутствовавший в зале доктор Мазур диагностировал спазмы мозговых сосудов. И ушел, пошатываясь, но без посторонней помощи, не позволив санитарам до себя дотронуться. На Регину он даже не взглянул, за что она была ему благодарна, поскольку не сумела бы скрыть испуг. Оставалось лишь надеяться, что здесь есть больница или, по крайней мере, прилично оснащенная амбулатория.
Судья вышел через заднюю дверь, как только Хаим закатил глаза и захрипел. Исчез и Вильский, а тяжело дышащего Борнштайна унесли на носилках санитары. Зал помалу пустел, на скамье присяжных остался только Тадек Финкель, который то ли спал, то ли притворялся, будто в обмороке, – это был его коронный номер. Остальные вели себя так, словно находятся не в зале суда, а на вокзале. Одни бродили между стульями, другие сидели неподвижно или рылись в своих вещах. Регина, собравшись с силами, уже хотела уйти, когда неожиданно вернулся судья; как ни в чем не бывало он прохаживался по залу и даже кое с кем заговаривал. Попутно подобрал с пола наброски, сделанные художником во время процесса, и стал внимательно их разглядывать. Регина кое-какие уже видела – художник, Казимеж Винклер, в перерывах хвастался своими произведениями. Хаим на рисунках был сердит, часто удивлен – ошеломление на его лице Винклер передал очень точно, однако лучше всего ему удался портрет подсудимого, когда тот лежал без чувств. Регине вспомнилась картина Нольде, где был изображен отец художника на смертном одре. Искривленные губы, струйка слюны, похожая на кровь из огнестрельной раны. А может, это был ранний Кокошка, которого она видела в Вене?
Несмотря на присутствие судьи, Регина решила превозмочь себя и встать, но тут в приоткрывшуюся дверь просунулась мужская голова. Слегка смазанные бриллиантином волосы, аккуратный пробор. Этого человека она уже приметила раньше: он несколько раз заходил в зал, но его ни о чем не спрашивали, а в столовой он сидел один, ни с кем не заговаривая.
– Вы к нам? – Судья поднял голову от рисунков.
– Мне сказано было явиться… – Мужчина говорил на чистом немецком, безо всякого акцента.
– Ваша фамилия?
– Иоганн Крюгер, нотариус.
– А-а, помню. Что ж, заходите, не стесняйтесь. – Судья на прощанье погладил по животу беременную Сальку Зиму, которая на что-то ему пожаловалась, и сел на первый попавшийся стул.
Мужчина вошел, приблизился к судье, но не сел, хотя тот любезным жестом указал ему на свободный стул. Регине сразу бросились в глаза до блеска начищенные туфли и подобранный в тон костюму галстук. Пиджак из шерсти, похожей на английскую (Регина хорошо разбиралась в шерстяных тканях, один из дядьев в детстве научил ее обращать внимание на переплетение и толщину нитей), рубашка в синюю полоску, пожалуй, излишне яркую, но допустимую в любом обществе. Даже поклянись он, что родом из Лодзи, Регина бы ему не поверила.
– Вы, вероятно, удивлены, почему здесь оказались. – Суровое лицо судьи неожиданно повеселело. – И это естественно. К тому же вы не знакомы с председателем Румковским и в Лодзи не бывали даже проездом. Я угадал?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































