Текст книги "Фабрика мухобоек"
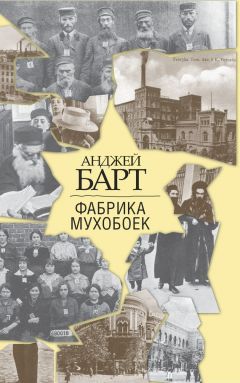
Автор книги: Анджей Барт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
– Не сказал бы. Все отделы по своей инициативе устраивали подобное, не могли же мы ударить в грязь лицом. Ну и, что уж скрывать, хотелось ему понравиться.
– С какой целью?
– Он ведь был хозяином, от него все зависело.
Неожиданно со своего места подал голос прокурор:
– Вам не нравились методы правления Румковского, то есть, если я правильно понимаю, подхалимство было, так сказать, вынужденным.
Регина больше не могла сдерживаться. Она встала, подошла к Борнштайну и уже открыла рот, но тот, повернувшись к ней, шепнул:
– Я знаю, вы превосходный юрист, и счел бы вашу помощь для себя большой честью, но, увы, должен справляться сам. Так мы договорились с судьей. Для меня это редкостный шанс…
Возвращаясь на место, она успела коснуться плеча Хаима. Не отрывая взгляда от Кронштада, он потрепал ее по руке.
– Вынужденное – вот подходящее слово. Конечно, он не стоял над нами с палкой – нас вынуждала сама ситуация! – Кронштад явно обрадовался подсказке. – Кроме того, я его боялся…
– Старого человека? – спросил защитник.
– Он не обычный человек. Если впадал в ярость, под руку ему лучше было не попадаться. Те, кто знали его раньше, говорили, что власть подействовала на него, как шпанская мушка. Он помолодел, стал намного бодрее. Взять хотя бы это бракосочетание в гетто. Я на двадцать лет его моложе, но никогда б не рискнул жениться на такой молодой и красивой женщине…
Регине было наплевать, что все на нее смотрят, и только для блага дела она удержалась, чтобы во всеуслышание не произнести что-нибудь оскорбительное.
– Вероятно, вам бы не поздоровилось, осмелься вы оспорить какое-нибудь распоряжение председателя. Расскажите нам об этом. – Прокурор явно рассчитывал на что-то ошеломительное.
– Я бы наверняка лишился своей должности.
– Только и всего? – воскликнул судья. – Господин Кронштад, вы, уж пожалуйста, не разочаровывайте прокурора и всех присутствующих. Нам бы хотелось услышать что-нибудь про пытки. У защиты есть еще вопросы?
– Ваша честь, я понимаю, вы должны быть над схваткой, но не настолько же… Да, у меня есть один вопрос, последний. Господин Кронштад, вас ведь в конце концов убрали из угольного отдела и в наказание сослали на фабрику мухоловок…
– Чему я очень обрадовался. Хотя ответственность стала больше – немцы были чрезвычайно придирчивы к качеству продукции. Доктор Шнитке, который поставлял мухоловки на Восточный фронт, считал, что ни одна муха не должна мучиться дольше сорока трех минут. Иначе это будет негуманно…
– Вы не дослушали мой вопрос.
– Простите, но вы сказали, что меня сослали. А это вовсе не являлось понижением в должности – меня откомандировали на очень важный участок. У нас не было казеина, и химики делали клей из отходов каучука, который использовался в резиновом производстве. Чтобы мухи подыхали за указанный срок, в клей следовало добавлять яд. Немцы назначили специального чиновника, который ежедневно этот яд выдавал. Нужно было следить, чтобы он не доставался никому, кроме мух. Но больше всего хлопот доставляло соблюдение нужных пропорций клея и яда, поскольку крупные мухи…
– Господин Кронштад…
– А когда у меня на фабрике случился пожар – клеевая масса при нагревании на газовой горелке пролилась и загорелась, – председатель обвинил нас в головотяпстве.
– Господин Кронштад! – Защитник повысил голос. – Из вашего личного дела следует, что вас обвинили в махинациях с выдачей продовольственных пайков. Ваша жена – не знаю, была ли она молода и красива, но жена есть жена, – получала больше талонов, чем десять ваших рабочих. А вопрос мой прост: это правда?
– Признаюсь, виноват… – Кронштад не очень смутился. – Она постоянно была голодна и твердила: принеси что-нибудь поесть, ты должен принести… Понимаю, это не оправдание, особенно после того, что я говорил раньше. Да, я проявил слабость, но то была слабость отдельного человека, а я в своих показаниях клеймил систему, которая заставила меня воровать. Хочу только уточнить: злоупотребление выявил не председатель, а Новчик из отдела Якубовича.
– Вы меня вынуждаете задать дополнительный вопрос. Кто назначил Якубовича?
– Председатель, разумеется.
– Идите уже, господин Кронштад, – сказал судья, а защитник развел руками, будто давая понять: вот какие люди обвиняют моего клиента.
Регина с удовлетворением проследила, как молодой портной, который однажды ушивал ей платье, кидает в идущего к двери Кронштада бумажный комок.
– Простите, ваша честь, но не пора ли заняться взаимоотношениями господина председателя с достойными людьми? – Прокурор явно пытался стереть произведенное Кронштадом впечатление.
– Протестую! Достойные, недостойные… что за формулировка? Это какой-то расизм, – крикнул со своего места Борнштайн.
– Ваша честь, защита отрицает, что люди отличаются друг от друга не только внешне. Вы с этим согласны?
– Кончайте перебранки, господа, – сказал судья. – Мне как раз сообщили из кухни, что обед готов. Встретимся через час…
Он не успел договорить, как половина публики была уже у дверей. Присяжные не пожелали отставать от других.
Как оказалось, столовая, где они завтракали, предназначалась для избранных. Чем руководствовались хозяева и где питались остальные, было неизвестно. Музыкантов, накануне игравших на террасе, теперь разместили на возвышении. Репертуар Регина сочла неудачным: квартет Брукнера был слишком сложен и казался неуместным и для утренней поры, и для этой обстановки. Не желая ни с кем общаться, она не смотрела по сторонам, однако это не избавило ее от назойливости окружающих.
– Представьте, дорогая, нас посадили у двери в кухню. Вы бы не могли подтвердить, что мой муж был начальником ведомства?
Регина знала в лицо женщину в жоржетовом платье, но и двух слов с ней никогда не сказала.
– Боюсь, если я за вас походатайствую, вам достанется столик в коридоре, – ответила она, исходя из своих представлений о ситуации.
– Вы так полагаете? В таком случае не буду мешать. Приятного аппетита. Прелестный у вас сынок… – И исчезла еще быстрее, чем появилась.
Марек как раз вернулся за столик – он отдавал вечное перо, которое якобы понадобилось Янушу Корчаку. Регина не поняла, что за перо, причем тут Корчак…
– Простите, я могу присесть? На секундочку.
Это уже было чересчур. Регина раздраженно подняла голову, и сердце у нее подскочило к горлу. Возле столика стоял прокурор – будь у нее оружие, она всадила бы ему пулю в лучшем случае в голень. У ее отца был маленький инкрустированный браунинг, но он побоялся взять его с собой в гетто и оставил на хранение дворнику, пану Стасяку. В голове у Регины пролетели сотни вариантов, которыми можно было бы заменить выстрел, однако победил здравый смысл и желание хоть что-нибудь узнать, пускай даже от врага. И она молча указала ему на стул.
– Разрешите представиться. Вильский, Ян Вильский. Поскольку у нас в Лодзи нет высшего учебного заведения – если, разумеется, не считать Вшехницы[19]19
Частное высшее учебное заведение, созданное в 1918 г. в Варшаве; в 1927 г. был открыт его филиал в Лодзи. Во Вшехнице преподавали крупные ученые, ее диплом с 1929 г. приравнивался к университетскому. Занятия тайно продолжались во время оккупации; после войны деятельность Вшехницы не была восстановлена.
[Закрыть], куда даже не требуется аттестат зрелости, – родители отправили меня в Варшаву. Как и вы, я учился на юридическом, но не имел чести быть вами замеченным. Нет-нет, у меня нет никаких претензий, к тому же я был на курс старше…
Регина беззастенчиво взглянула ему прямо в лицо, пытаясь угадать, зачем он к ним подсел, но, прежде всего, понять, почему его назначили обвинителем.
– Вы гадаете, что заставило меня предложить свою кандидатуру для участия в процессе?
Она не ответила: нечего давать ему повод гордиться своей проницательностью.
– Для начала скажем, что мне захотелось оказаться рядом с такой знаменитостью, чтобы вырваться из безвестности. Стоит принять во внимание и чувство долга – вы же видели судью. Не надо также исключать мой скверный характер. Может, мне просто нравится выставлять на показ тех, кто хуже меня? Что еще остается? Ага, случай, который частенько управляет нашими поступками; впрочем, прошу не упускать из виду и возможное желание отомстить. Как знать, не стояла ли, например, подпись господина председателя на приказе, согласно которому я потерял кого-то из близких.
Регина сжала в кулаке вилку, чтобы не ляпнуть что-нибудь такое, после чего разговор бы сразу закончился. Хотя в душе вынуждена была признать, что он перечислил ровно то, что следовало перечислить.
– Поверьте, тут нет ничего личного, а даже если и есть… – он сделал паузу в стиле героя-любовника из бульварного театра, – …то это прежде всего симпатия к однокашнице… Вижу по глазам: вы мне не верите. А если я докажу, что могу вам пригодиться?..
Неизвестно почему, она ждала таких слов. Подняв голову, внимательно на него посмотрела. Теперь вид у него был просительный. Пожалуй, его настойчивость не имеет ничего общего с настырностью Гертлера, подумала Регина. Гертлер, этот мерзавец, вначале управлявший гетто из тени, а потом совершенно открыто, выводил ее из себя притворной любезностью, тогда как цель у него была одна: выведать хоть что-нибудь о слабостях председателя. Он рвался занять место Хаима, и очень хорошо, что в конце концов его арестовали те самые немцы, к которым он регулярно бегал с доносами.
– Попробуйте.
– Это будет несложно. Видите лестницу? Она ведет на галерею, а там есть окна. Возможно, из окна возле последней колонны вы увидите мужа. – В его улыбке уже не было ничего просительного. – Мальчик пускай остается тут… – Он поклонился и не спеша вышел из столовой. Регина видела, что несколько человек обернулись ему вслед и стали перешептываться.
Лестница начиналась недалеко от двери, через которую вносили блюда, и по ней можно было подняться незаметно для сидящих за столиками. По всей длине галереи, прилепившейся к одной из стен столовой, тянулись круглые окна. Выглянув в последнее, Регина увидела внизу зал, в котором проходило действо, именовавшееся судебным разбирательством. Видимо, проект здания предусматривал, чтобы свет туда попадал из застекленной столовой. Под окном возле последней колонны была выгородка, загроможденная сломанными стульями, школьными досками и еще какими-то предметами неизвестного назначения. Сверху серебряная голова судьи казалась горящим фонарем, а сам он, с белоснежной салфеткой на шее, походил на короля гурманов. Однако он не ел, а смотрел на сидящего за партой Хаима. Только сейчас Регина заметила, какой жалкой – поредевшей и поблекшей – стала его седая шевелюра, а ведь совсем еще недавно при одном ее виде людей бросало в дрожь. Председатель как раз закончил соскребать с тарелки остатки свеклы, и судья с явным удовольствием выпустил в его сторону тучу сигарного дыма – такую густую, что она могла бы предвещать дождь. Ноздри у Хаима задрожали, а сам он подался вперед, будто навстречу дыму. Судья, заметив это, положил на край стола пачку, из которой торчала папироса, и указал на нее пальцем. И тут произошло то, чего Регина предпочла бы не видеть: Хаим выскочил из-за парты и кинулся к пачке. При этом он сбросил на пол тарелку, которая, к счастью, не разбилась. И, только вернувшись на место, вспомнил, что следовало бы поблагодарить судью. Регина никогда не предполагала, что он способен так поклониться. В этот момент внизу открылась дверь и вошел служитель, который мог увидеть ее в окне, так что на всякий случай она поспешила уйти.
Столовая уже почти совсем опустела, а музыканты из квартета закусывали за столиком у стены.
– Хорошо, что ты не пошел. Этот человек просто надо мной подшутил, – сказала Регина Мареку и погладила его по голове. Он ничем не показал, приятно ли ему это.
К стоящему на возвышении роялю подошел молодой человек. Регина голову бы дала на отсечение, что это Юлек Штатлер с улицы Пирамовича. Она знала его, поскольку в доме номер пять, на последнем этаже, вход с фасада, жила ее любимая тетя Александра. Перед самой войной про него говорили, что это будущий Артур Рубинштейн. Теперь Юлек, или кто-то на него похожий, пальцами одной руки пробежался по клавиатуре и сел на вертящийся стул. Регина почему-то ждала ноктюрн до-минор Шопена, который им с Хаимом недавно сыграла Стелла, чудо-дитя гетто, однако Штатлер заиграл что-то джазовое, тоже знакомое, только название она не могла вспомнить. Несколько задержавшихся в столовой молодых людей принялись покачиваться в такт музыки, а две пары даже начали танцевать. Потом двое юношей затащили на возвышение маленькую голубоглазую девушку. «Bei mir bist du schön»[20]20
Песня американского еврейского композитора Шолома Секунда на слова Джейкоба Джейкобса из мюзикла «Если б я мог» (1932 г.); известны несколько русских песен, написанных на ее мотив, в т.ч. «В кейптаунском порту…».
[Закрыть] в ее исполнении зазвучала так прекрасно, что Марек от восхищения разинул рот, а Регина поймала себя на том, что ритмично притопывает и пытается вспомнить, когда она танцевала последний раз. Кажется, в Варшаве на приеме после выставки формистов[21]21
Польский формизм (1917–1922 гг.) – течение, представители которого в своих художественных поисках обращались к направлениям европейского искусства: кубизму, футуризму, дадаизму, а также польскому народному искусству.
[Закрыть]. Она тогда была в костюме Пьеро, а Морис Кац – Коломбины, чем очень всех повеселили. Едва она погрузилась в воспоминания, как дверь столовой резко распахнулась и на пороге появилась женщина, энергично размахивающая колокольчиком. Тотчас воцарилась тишина, а Юлек на всякий случай захлопнул крышку рояля.
Запись от 6 сентября свидетельствует, что двойственность положения, в котором я оказался, наконец нашла отражение в дневнике. Невесть почему меня заинтересовала безвозвратно подпорченная отцовская репутация Германа Кафки. Сразу после упоминания о том, что днем меня по дороге в Быдгощ навестили друзья с прехорошенькой дочкой, я написал:
Дурная слава бедолаги останется в людской памяти до скончания века, а такого наказания, если ограничиться одной только буквой Г, заслуживают скорее Герострат или Гитлер. У последнего, впрочем, всегда найдутся защитники, а вот за Германа никто не заступится. Я сам, насколько помню, относился к нему с неприязнью – возможно, потому, что был зачарован талантом его сына. А ведь этот человек совершил чудо: вырвался из нищеты, причем добился всего честным трудом. Он был сыном деревенского резника, который, правда, мог поднять зубами мешок весом пятьдесят килограммов, но, поскольку не выступал с этим номером в цирке, был беден как церковная мышь. У многочисленных детей силача были постоянно отморожены ноги и руки: зимой они на ручной тележке развозили по окрестностям мясо клиентам. К счастью, Герман Кафка унаследовал от отца силу и высокий рост, что позволило ему благополучно отслужить в рядах императорско-королевской армии и даже получить какое-то звание.
Однако до того он четырнадцати лет от роду уходит из дому и живет за счет торговли вразнос, откладывая каждую заработанную крону. И в Праге он быстро освоился, женившись на девушке из зажиточной семьи. Барышне двадцать шесть лет, то есть по тем временам она уже не первой молодости, но принадлежит к семейству Леви, а в этой семье были и раввины, и ученые, и пивовары. Кое-кто уже называет их на немецкий лад Лауэрами. Чешский провинциал еврейского происхождения еще недостаточно хорошо знает немецкий, но мечтает о присоединении к пражской элите, которая в ту пору состояла в основном из немцев. Ему это удается благодаря магазину, открытому с помощью тестя-пивовара, благодаря связям семейства Леви, однако прежде всего – благодаря собственной энергии и решительности. Герману Кафке пригодился и чешский, на котором он говорил с детства: во время выступлений против немецкого засилья этот крупный мужчина был сочтен патриотом, и его магазин не потерял ни одного витринного стекла. Впрочем, первую приличного размера квартиру он сумеет приобрести, лишь когда Францу пойдет седьмой год и вскоре родится Габриэла.
Мог ли он, когда труд, затраченный на то, чтобы выбиться в люди, оказался столь плодотворным, отказать себе в праве категорически судить решительно обо всем? Разве опыт, приобретенный в борьбе за достойное существование, не лучшее мерило его поступков? Ева Рубинштейн, дочь знаменитого Артура, гениального пианиста, когда-то рассказывала мне о своем отце. Этот беглец с лодзинского двора, обожаемый во всем мире, был уверен, что обладает патентом на знание всего на свете. «Не успеешь открыть рот, а он уже говорит: нет, это не так, ты не права. Все, что он рассказал мне о музыке, верно и по сей день, но то, что рассказывал о жизни, мало для меня значит», – утверждала его дочь, с детства старавшаяся освободиться от влияния отцовской мудрости. Вот и Герман имел право считать, что только сила, трудолюбие и расторопность могут принести плоды в виде галантерейного магазина во дворце Кинских и звания присяжного судебного эксперта. Не следует ли Францу пойти на шаг дальше и стать уже не экспертом, а судьей на службе империи? Тем более что он вырос очень высоким и, если бы не недостающие пятьдесят килограммов (ровно столько его дед без труда поднимал зубами), его телосложение можно было бы назвать могучим. Надо только заниматься шведской гимнастикой и подолгу стоять на балконе – и мальчик уподобится античному герою. Вероятность того, что такой человек, каким был Герман, согласился бы увидеть сына другим, равнялась нулю. Вероятно, даже на смертном одре ему вряд ли пришло бы в голову, что он был отцом принца на горошине – и вовсе не потому, что в детстве он не читал Андерсена.
Но почему же гениальный сын не мог понять отца? Почему так любил хвастаться предками по линии Леви и жаждал признания со стороны тех, кто по самым простым причинам был на это не способен? Этот послушный, умный, несамостоятельный сын впоследствии пером отомстил не умеющему его понять отцу – заклеймил родителя, как и пристало гению, навечно, то есть пока людям не перестанет быть внятным писаное слово. Можно лишь надеяться, что, если когда-нибудь на каком-нибудь суде они встретятся, Бог позволит им понять друг друга.
Вот что я писал 6 сентября – и это имело прямое отношение к реальности, в которую я сейчас по уши погрузился. Появление на страницах моего дневника Германа Кафки предвещало встречу с его детьми, да и слово «суд» не было случайным. Быть может, описывая семью Кафки, я предчувствовал, что у меня поедет крыша. Не рехнувшись нельзя было принять толпящихся в мрачном коридоре людей за актеров или ученых, вселившихся в образы личностей, о которых написаны целые тома. Эти люди в таком случае должны были бы – все как один – быть потомками величайших еврейских трагиков или, по меньшей мере, Иды Каминской[22]22
Ида Каминская (1899–1980) – выдающаяся еврейская актриса театра и кино, долгое время руководившая еврейскими театрами в разных городах Польши, лауреат премии «Оскар» за главную роль в чешском фильме «Магазин на площади».
[Закрыть]. В свою защиту скажу, что я не очень уж сильно испугался – возможно, потому, что ум за разум у меня зашел не впервые в жизни. Недаром в моем дневнике полно довольно странных и совершенно излишних подробностей – взять хотя бы Павла Леви с его кухонной мебелью или красотку киоскершу на вокзале. Сейчас, разобравшись наконец, что со мной происходит, я испытал некоторое облегчение, но тут же почувствовал угрызения совести: где-то там хлебороб пашет, каменщик строит, а я увлекся какими-то вымыслами. Исключительно неприятная ситуация.
Хотя… кое-что приятное в ней, к счастью, было. С какого-то момента я не мог оторвать глаз от девушки, которая недавно мне улыбнулась. Она уже не сидела, а стояла, по-прежнему рядом с пожилой дамой, судя по сходству, ее матерью. На черно-сером фоне, в наряде, скромнее которого не придумать, девушка выглядела так, будто луч невидимого прожектора вырвал ее из толпы, осветив изумительные рыжие волосы и благородного рисунка лицо; о ее обаянии я уж не говорю. А если озабоченные своими проблемами людишки, сгрудившиеся у двери, ее не замечают, это наилучшее доказательство того, что я спятил. И то, что я наконец осмелился к ней подойти, лишнее тому подтверждение. О чудо: она словно этого ждала. Минуту спустя мы уже болтали с ней, как старые знакомые. Ее зовут Дора. В лодзинское гетто они с матерью попали прямо из Праги. Мать, погруженная в свои мысли, молчит, а когда открывает рот, уста ее источают мед:
– Погуляйте, дети. А вы, пожалуйста, за ней присматривайте. Она такая ранимая. Когда нас вызовут, я вам крикну.
И вот мы прогуливаемся, изредка обмениваясь парой слов, пока я не указываю взглядом на засохшую многоножку на подоконнике над батареей.
– А может, махнем в парк?
Она улыбнулась так чудесно, что я порадовался своему недугу.
– Что ж, дождя, похоже, не будет.
На полпути нас догнал Юрек.
– Я познакомился с сестрами Франца Кафки! Вон они, в конце коридора. А лысоватый господин – муж старшей…
Если бы человечество решило всем скопом сойти с ума, Юрек присоединился бы к безумцам последним, и это означало, что сдвинулся он не по своей воле. Но сейчас, неизвестно, по чьей воле, мой друг попал в точку. Когда-то я невесть сколько времени потратил, чтобы узнать, почему Габриэлу Германнову и Валерию Поллякову с мужем Йозефом привезли именно в Лодзь, а Оттлу Давидову позже отправили в более «легкий» Терезин?[23]23
Нацистский концлагерь в Чехословакии. За годы войны в этот лагерь попали около 140 тысяч человек (среди них 15 тысяч детей), из которых около 33 тысяч погибли, а 88 тысяч были депортированы в Освенцим или другие лагеря смерти и убиты.
[Закрыть] А сколько раз я пытался представить себе, чту они увидели, когда зимой вышли из поезда на станции Радегаст в чистом поле и охранники погнали их в толпе других несчастных по дороге среди жалких земельных участков и покосившихся домишек? Почуяли ли они запах нечистот в сточных канавах, испугались ли столь непохожего на привычный мира? Тысячи людей проделали этот путь, но меня что-то связывало только с этими женщинами.
Быть может, они заменяли мне Франца, который, если бы не спасительная чахотка, тоже мог попасть в Лодзь? Я заходил в дома, где они жили, чтобы увидеть то же самое, что видели они, поднимаясь по лестнице. На грязные дворы этих домов мог смотреть их брат. Куда бы его загнали: в переполненную комнату на Гнезненской или, с Валерией и ее мужем, на Францисканскую? А Румковский? Вероятно, он бы даже не знал, кто у него в гетто – это ведь был не его товар, как сказал бы Нахман Зонабенд,[24]24
Нахман Зонабенд (р. 1918 г.), уцелевший после ликвидации гетто, отыскал и сохранил спрятанные в тайнике документы и фотографии.
[Закрыть] с которым мы много часов проговорили – и не только о литературе. Был ли бы Франц отправлен вместе с сестрами 10 сентября 1942 года первым эшелоном в Хелмно?[25]25
Хелмно – город в 70 км к западу от Лодзи, где в 1941 г. был создан первый в оккупированной Польше нацистский лагерь уничтожения евреев и цыган.
[Закрыть] И его там, как всех, тоже бы встретил любезный эсэсовец: «Насколько я знаю, в Лодзи не было подходящих условий для поддержания чистоты. Эти грузовики отвезут вас туда, где можно будет заняться гигиеной…» В грузовике он мучился бы, как все, потому что от выхлопных газов умирают дольше, чем от циклона Б, который впоследствии стали применять в Аушвице. Строить домыслы о том, какие картины проносились перед его мысленным взором, предоставим тем, кто находится в здравом уме. Стоит только упомянуть, что у многих из отравленных выхлопными газами мозг мог оставаться живым еще тогда, когда с их недвижных тел снимали одежду, а то и дольше.
Можно ли удивляться, что я уставился на указанных Юреком женщин, стараясь отыскать в их лицах знакомые всем черты? Первое, что бросилось мне в глаза: достоинство, с которым они держались, и, о чудо! – гордо поднятые седые головы. Йозеф Полляк, который был старше Валерии на восемь лет, а Франца – на год, показался мне глубоким стариком, а ведь ему еще не было шестидесяти. Возможно, из-за лысины, а может, из-за явно терзавшего его ощущения беспомощности, наверняка тягостной для человека, сражавшегося в Первой мировой. Стыдно: передо мной такие люди, а мне хотелось бы видеть на их месте Оттлу! Это от нее у Кафки не было секретов, это у нее он время от времени жил в последние свои годы. Решительным характером она походила на отца, которому одна из всех детей смела противиться. Даже отважилась выйти замуж по своему выбору, притом за чешского католика, с которым ради его блага разведется, когда начнутся преследования евреев. В Терезин Оттла отправится добровольно, сопровождая тысячу с лишним детей, и на семь часов сорок пять минут приедет с ними в Польшу. Столько времени понадобилось, чтобы пропустить весь тот эшелон через газовые камеры в Аушвице. Но мне грех было жаловаться. Коли уж нету Оттлы, надо радоваться, что есть Габриэла и Валерия, тем более что Оттла, по слухам, ровным счетом ничего не понимала в литературе. Вероятно, унаследовала это от отца.
– Ćteš Kafku v nĕmčinĕ? Ještĕ prĕd válkou jsem uprosila mámu, abych si mohla koupit jeho «Gesammelte Schriften». Mám všech šest svazků. – Дора говорит по-чешски, но я каким-то чудом понимаю каждое слово, даже šest svazků, что уж никак не похоже на польские «шесть томов». Юрек, вижу, сильно взволнован – еще одно подтверждение, что он заболел независимо от меня. Неужели эпидемия? Не исключено. Мне захотелось сказать ему и Доре что-нибудь умное, я даже открыл было рот, но тут кто-то положил руку мне на плечо. Невысокий жилистый мужчина, во рту не хватает доброй половины зубов. Смахивает на сторожа одной из школ, в которых мне довелось искать счастья. «Милости просим в класс». Тон вроде бы шутливый, но ослушаться, похоже, нельзя. Юрек следует за мной, однако одного жеста служителя достаточно, чтобы он на полушаге остановился. Я еще успеваю улыбнуться Доре, и вот уже меня втолкнули в зал, куда мечтают попасть толпящиеся в коридоре люди. Что ж, надо радоваться – ведь я тоже человек из коридора.
Зал как зал, главное, я быстро разобрался, что в нем происходит. Мне, конечно, и раньше подобное приходило в голову, но дожить до такого, пусть и в помраченном сознании… нет, вообразить это было невозможно. Я не грохнулся в обморок только потому, что ухватился за чей-то стул. Кто-то, кому я что-то заслонял, шикнул и даже ткнул меня кулаком в спину, кто-то другой подтолкнул к свободному месту, которое оказалось кухонной табуреткой. Сидя ниже всех, я почти ничего не видел, но все равно был счастлив, как ребенок, которому представилась возможность дотянуться до горячей конфорки. Со страху или – хочется думать – из чувства такта я не стал задерживать взгляд на судье и попытался отыскать глазами хотя бы макушку человека, о котором столько спорили, про которого написаны тома… И вот я вижу его знаменитую седину. Над ней склоняется худосочный человек с выражением лица Савонаролы; должно быть, минуту назад он сказал что-то забавное, так как в зале засмеялись.
Болезнь, однако, подчиняется своим законам, и логики от нее ждать трудно: внезапно меня перестает интересовать Румковский, и я переключаю внимание на хорошо знакомую мне по фотографиям прическу. Ошибки быть не может: это тетя моего друга Павла Вайнбергера. Сам он знал ее только по рассказам отца, но мы с ним частенько говорили об этой красавице, которая решилась стать женой правителя гетто, который нам тогда представлялся древним стариком. Как утверждал Павел, Регина хотела таким способом спасти больных родителей и брата-поэта, от которого в гетто не было никакой пользы. Я в ней видел личность властную, демоническую; лучше всего об образе мыслей шестнадцатилетнего пацана свидетельствует название моего, оставшегося незаконченным, рассказа об этой женщине – «Саломея». Понятно, как мне хотелось с ней познакомиться; впрочем, не знаю, выбрал ли бы я, если б это от меня зависело, столь малоприятный для нее момент. Брат-поэт выжил, поскольку не поверил сестре, что под крылышком председателя им ничто не угрожает, и во время ликвидации гетто спрятался и избежал депортации. Павел, однако, утверждал, что, если бы не Регина, его отец никогда не скопил бы столько продуктов, чтобы не умереть с голоду в укрытии.
Павла уже нет в живых: где-то в Денвере он отказался добровольно отдать бумажник трем здоровенным парням; отца его, вероятно, тоже нет на свете, а я смотрю на красиво вылепленный затылок Регины. Незаслуженное чудо придало мне духу, и я стал глядеть по сторонам. И в очередной раз порадовался, что спятил, хотя не так уж много увидел: вдобавок к тому, что сидел низко, еще и какой-то верзила передо мной постоянно вертелся на стуле.
– Господин защитник сейчас расскажет нам кое-что о двух мирах, между которыми якобы не было ничего общего. Мне, правда, известен только один мир, но, возможно, он лучше осведомлен… – Едва судья произнес эти слова, я понял, почему меня именно сейчас позвали в зал.
– Как мы помним, в перенаселенное и без того гетто немцы загоняют еще двадцать с лишним тысяч евреев из Германии, Праги, Вены, даже из Люксембурга. И как же поступает господин председатель? Не всякий отец решился бы произнести такую приветственную речь… – Защитник, добродушного вида толстяк, достал из кармана листок, показал его Румковскому, который согласно кивнул, и начал читать, но очень скоро, все больше воодушевляясь, почти перестал заглядывать в бумажку. – «Братья и сестры! Первым делом я хочу познакомить вас с историей нашего гетто. Организация столь образцового хозяйства была делом нелегким. Ни в каких университетах такому не учат. Когда меня назначили главой еврейских старейшин, я почувствовал себя свежеиспеченным медиком, только начинающим врачебную практику. Но, хоть и со слезами на глазах, взялся за эту задачу, веря, что провидение мне поможет. Тогда в гетто не было более-менее приличных фабрик – была только нищета. Начал я с очень маленьким капиталом – деньги мне доверили самые близкие друзья. С первых шагов своего правления, одновременно с решением финансовых проблем, я вынужден был вести беспощадную борьбу с преступным миром, неустанно стремившимся к всеобщей дезорганизации. Нужно было также положить конец сущей оргии контрабанды. У подпольного мира силы были немалые, и мне пришлось организовать полицию…»
Не переставая говорить, толстяк прохаживался между рядами, сверля глазами сидящих. До меня ему было далеко, и мы не могли встретиться взглядом. Теперь я уже знал, откуда взялась моя болезнь. Еще подростком я требовал, чтобы мне рассказывали, как люди из большого мира приехали в мой город и что с ними потом сталось. Они приезжали в пульмановских вагонах и высаживались на станции посреди чистого поля. И что же им предстояло увидеть? Утопающий в грязи город и нищих истощенных людей. Ко всему прочему – чудовищные гигиенические условия. Короче, ужасную карикатуру Востока. Местные, уже овладевшие искусством выживания, быстро смекнули, что вновь прибывшие охотно меняют кашемировые свитера и золотые часы на брюкву и репчатый лук, и считали это компенсацией за свою унизительную участь. Приезжие еще не до конца осознали масштаб постигшей их катастрофы, местные не желали понять, что судьба у всех у них общая. Долго они вместе не прожили. В первую очередь на смерть отправили тех, кто был не способен к физическому труду. Не важно, где именно они умирали: в душегубках от выхлопных газов или в газовых камерах Хелмно либо Аушвица – для оставшихся в Вене или Берлине друзей местом, откуда те получили от них последнюю весточку, была Лодзь. Меня это всегда обижало. Не знаю, что ощущает житель Освенцима, но и он вправе считать несправедливым то, что его родному городку и окрестностям историей до скончания века уготована такая прискорбная роль.
Между тем защитник продолжал читать, и чем дальше читал, тем усиливалось впечатление, что это он сам выступает с речью на Стражацкой площади. Мне та речь была хорошо известна, поэтому, если б мое состояние ума позволило, я бы охотно вздремнул, чтобы дать возможность голове отдохнуть.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































