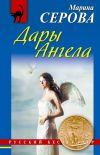Текст книги "Бойтесь данайцев, дары приносящих"

Автор книги: Анна и Сергей Литвиновы
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Большущая неприятность, – выдохнул он. – Юра Самый Первый чуть не убился.
– Живой?
– Да, слава богу, жив. Но покалечился сильно. Все лицо разбил.
– А при чем тут ты? – жестко спросила молодая женщина.
– Как при чем? Я к ним приставлен был…
– Приставлен? – расхохоталась она. – Да ведь они не дети!
– И все равно, понимаешь, я за них отвечаю. Хрущ хотел Юру рядом с собой на открытии двадцать второго съезда посадить. Съезд завтра начинается – а Юра в больнице, вряд ли даже к последним заседаниям оклемается. Пластическую операцию будут делать.
– Ты себя слышишь? – набросилась на генерала молодая женщина. – Съезд, рядом с собой посадить хотел, Юра лицо разбил… И ты – ты, боевой генерал! – ради такой дряни и ерунды хотел себя жизни лишить?! Да ты в своем уме?! Подумаешь, Никите не потрафил! Да наплевать на этого кукурузника! – Речи Гали явно звучали для Провотворова как сладчайшая музыка, она это видела. – А Юру – да, жалко. Но так ведь он живой! А что там случилось, расскажи? – Теперь, когда острота момента, как она видела, сгладилась, Гале, как всякой женщине, захотелось узнать подробности – тем паче что касались они самого популярного на тот день человека на планете.
– Парни наши, Юра и Гера, – начал генерал, – испытание медными трубами в основном выдержали. Особенно это Юры касается. Со всеми спокоен, ровен, улыбчив. Что с британской королевой, что с министрами или членами ЦК, или простыми рабочими. Но они, конечно, что Гера, что Юра, от всяких визитов устали и теперь, на своей земле, в строго охраняемом санатории, решили маленько расслабиться. Тем более – отдыхали с женами. Но и тут им, конечно, покоя не дали. Местное крымское начальство все время их донимало, возили на всякие встречи, в массандровские погреба, на приемы в обком партии, на корабли Черноморского флота. Ну, и Юра с Герой все время немного подшофе были. Однажды удрали, поехали на катере кататься, опаснейшие финты откалывали. А в тот день опять ездили с крымским начальством видаться – тем ведь лестно, что они с космонавтами на дружеской ноге. Юру маленько подпоили, он, когда в санаторий вернулись, пошел в номер к себе, лег. Мы внизу, в столовой, сидим, в карты играем. Жена его, Валентина, тут. Потом Юра Самый Первый спускается. «Давайте танцевать», – говорит. Начал пластинки менять. Потом: «Нет, – говорит, – с вами скучно. Я пошел к себе». Вскорости и жена его удалилась. А потом вдруг: шум, грохот, крики. Валентина орет: «Помогите ему! Он умирает! Умирает!» Я бросился на крик. Смотрю в окно: внизу, под высоким балконом, валяется Юра и весь заливается кровью. Мы помогли ему, перевязали, срочно послали за врачом. Наконец, тот дал диагноз: сотрясение мозга, глубокая рваная рана на лбу, над бровью. Но жить, слава богу, будет. Я начал разбирательство. Оказалось, что, когда Юра пошел к себе в номер, увидел в коридоре медсестру, хорошенькую, молоденькую. Она рассказала: он ее в чей-то пустой номер затащил, стал целовать. Дверь на защелку закрыл. Тут стук в дверь. Стучится Валентина, Юрина жена. «Открой, – кричит через дверь, – я знаю, что ты там».
– Водевиль какой-то, – не удержавшись, прокомментировала Галя.
– Да, водевиль! – с горечью воскликнул генерал. – Взрослые вроде люди, всемирно известные, а ведут себя, как мальчишки! Как лейтенанты в дальнем гарнизоне!
– А кто они? – пожала плечами молодая женщина. – По сути, такими офицериками и остались, несмотря на все ордена. Ну, а что было дальше?
– А дальше Юра ничего не нашел умнее, чем, как Подколесин или черт знает кто, выпрыгнуть из номера, где он с медсестрой был, прямо в окошко. Прыгнул, да зацепился за что-то ногой, ветку глицинии, что ли, и рухнул со всего маха физиономией на острый бордюрчик.
– Кошмар какой!
– Да! Теперь из-за этого дурацкого поступка все наперекосяк. Вместо того чтобы завтра на съезде в президиуме рядом с Хрущевым сидеть, Юра Самый Первый в больнице, новую бровь мастерить ему лучшие пластические хирурги страны будут. Хрущ на меня всех собак вешает: мол, не справился, не уберег, снимем к чертовой матери.
– Ой, и только-то, – махнула рукой она. – Ну, подумаешь, снимут. Не посадят ведь, не расстреляют. Сам говоришь, у кукурузника жила тонка. А я теперь вижу, – сменила она тон на делано ревнивый, кокетливый, – как вы там, с космонавтами-то, время проводите. Ну, а ты, генерал, скажи: ты в Крыму тоже по медсестричкам бегал? – Нет, если она и ревновала Провотворова, то лишь самую капельку, однако для его же здоровья благотворно было сейчас разыграть небольшую сценку ревности.
– Медсестрички не мой уровень, – нахально, в тон ей, отвечал совершенно оправившийся от своих скорбей Провотворов. – Я в основном с докторицами баловался.
– Ага! Они, наверное, укольчики тебе тонизирующие ставили? – продолжала нагнетать градус любви Галя. Она завинтила оба крана, взяла генерала под ручку и повлекла его в гостиную к дивану – и тут мы, в скромности, не желая мешать, удаляемся и оставляем пару одну.
Никита Сергеевич Хрущев
Двадцать второй съезд КПСС должен был стать его апофеозом. Да, да! Все самое лучшее, что может дать советский строй, должно было быть продемонстрировано. Для начала, пройдет великий форум советских коммунистов не в имперском, старорежимном Большом кремлевском дворце, а в новом, светлом, только что построенном Дворце съездов. Шесть тыщ делегатов со всей страны, многочисленные депутации со всей планеты вольются завтра в древний Кремль – а тут перед ними предстанет новейшее, современнейшее здание! Редкий мрамор, анодированный алюминий, огромные окна. Внутри эскалаторы. Китайцы лопнут от зависти. Те страны, что сделали социалистический выбор, румыны и чехи всякие, еще раз поймут: нет, не зря мы на Москву ориентируемся. А те народы, что сбросили с себя колониальное иго и не определились, задумаются: вот чего может дать трудящемуся человеку советская власть! Капитализм он ведь – что? Он разве о людях думает? Только о прибылях своих непомерных печется. Поэтому съезд будет очередным моментом, чтобы простые американцы, французы, англичане, итальянцы, изнемогающие под гнетом монополий, почесали свои затылки: а той ли нас дорогой наши правительства министров‑капиталистов ведут? Не пора ли и нам свой ветшающий паровоз переводить на социалистические рельсы?
Вдобавок съезд должен будет новую программу партии принять – и примет, конечно, куда он денется, – величественную программу построения коммунизма к тыща девятьсот восьмидесятому году. Кое-какие товарищи, в том числе и из руководства, хоть в открытую выступать остерегаются, но по углам ворчат (знаем, знаем, КГБ сводки исправно подает): мол, это забегание вперед. Рано, дескать, о коммунизме говорить, когда на местах кое-где еще с мясом и молочными продуктами перебои. А я вам так скажу, товарищи: перед нашим героическим советским народом надо ставить великие цели. И тогда он горы свернет. Да, может, восьмидесятый год для построения полного коммунизма – это рановато. Может, на деле только к началу нового, двадцать первого века управимся. Но когда от человека многого требуешь – он многое и делает. Выше головы прыгает! Вдобавок – глядь, и западные страны, увлеченные советским примером, к нам потянутся. Мирным путем приведут в своих державах к власти коммунистов. А у них там, особенно в Америке, материальных благ в изобилии, нечего скрывать. Не беда будет, если мы от них маленько позаимствуем – для нашего народа, изнуренного Великой Отечественной войной. На которой мы, между прочим, за вас, граждане капиталисты, погибали – а вы там, за своим океаном, отсиживались.
Теперь вы, если что, за морями не отсидитесь. И если против нас выступать станете, мало вам не покажется. Сами увидите. Мы под конец съезда на полигоне на Новой Земле жахнем самую большую в мире термоядерную бомбу – пятьдесят мегатонн, шутка ли! Мы бы могли и сто мегатонн рвануть – сто миллионов тонн тротила! Показать всем господам капиталистам кузькину мать, да только академик Сахаров переубедил: может, говорит, от такого взрыва Земля с орбиты сорваться. Но все равно – мы коммунисты, знай наших! Если уж бомбу сделаем, так это царь-бомба будет, всем империалистам гроза!
И еще одно важное постановление съезд принять должен – как пять лет назад двадцатый высший орган партии злодеяния Сталина осудил. Теперь вопрос этот уже решенный, усача, проклятого кровавого палача и преступника, мы из мавзолея вытащим. Негоже ему рядом с великим Ильичом лежать! Закопаем Иосифа к чертовой бабушке, цементом зальем! И на съезде еще раз по нему врежем! И по его недобиткам, Молотову, Маленкову, Кагановичу, – тоже. А то ишь, устроились! В партии состоят, подметные письма на меня пишут! Попробовали бы они при Сталине своем любимом так себя вести!
Да, наша производственная база как никогда близка к коммунизму! А вот люди еще не совсем. Не полностью готовы они. За них, конечно, крепко нужно взяться, и воспитание подтянуть по всем пунктам. Чтобы все моральный кодекс строителя коммунизма не просто назубок знали, но и в жизнь неуклонно претворяли. А то ведь даже самые лучшие, всемирно известные коммунисты до мозга костей – и вона, как себя ведут! Я Юру Самого Первого имею в виду. Ведь какая ему честь была дадена! Рядом со мной в президиуме съезда сидеть. Можно сказать, форум коммунистов открывать. А он? Напился на курорте, к какой-то девчонке-медсестре начал приставать, из окошка выпал, личико свое хорошенькое в кровь разбил… Да! Не все у нас еще в порядке с бытовой культурой в целом и воспитательной работой в частности. Если уж такие люди, как Юра Первый, подобные фортели выкидывают – то чего ждать от огромных народных масс? Как подготовить их, перевоспитать к тому моменту, когда настанет на земле советской коммунизм и все блага польются неисчислимым потоком? Тяжелейшая задачка, труднейшая!
Москва-река и Лужники, лежащие перед глазами владыки полумира, председателя совета министров СССР и первого секретаря президиума ЦК КПСС, медленно погружались в сон. Гасли за рекой огоньки города. Затихало движение. Завтра – семнадцатое октября, первый день работы съезда – великого, исторического события, которое золотыми буквами будет вписано в историю партии и народа (как и мое скромное имя, рядом с именем Ленина, я надеюсь).
Полигон Тюратам (космодром Байконур).
Владик
На полигоне иссушающая, сводящая с ума жара постепенно сменялась бархатным сезоном.
На десятую площадку, или в городок[7]7
Военный городок, обслуживающий полигон, в разные годы именовался по-разному. Когда его (и полигон) начинали строить в 1955 году, в документах его называли «объектом Заря», а неофициально – десятой площадкой. Какое-то время в шестидесятых стали именовать Звездоградом, однако название не прижилось. Официально назывался поселком Ленинский, затем городом Ленинск, а с 1995 года – городом Байконур.
[Закрыть] (он находился километрах в тридцати от старта и местожительства Иноземцева), начали завозить арбузы по пять копеек новыми деньгами за кило. Ночи стали совсем прохладными, а дневное солнце грело уже не так интенсивно.
Летом, особенно после полета Германа Второго, когда гонка-спешка поутихла, инженеры приспособились было, спасаясь от жары, работать в МИКе по ночам. Кондиционеров на полигоне не было ни одного, даже в маршальских домиках, где перед стартами отдыхали космонавты и их запасные (слово «дублер» тогда еще не прижилось). По ночам все-таки трудиться было не так жарко. Днями отсыпались. Когда в общаге давали воду, бегали в умывалку, смачивали простыни и спали, в них завернувшись.
Но в сентябре, октябре стало полегче. Постепенно начали возвращаться на дневной режим – однако организм, привыкший спать за полдень, с трудом приноравливался к прежнему графику. Ночами Владик ворочался, считал слонов. В их убогой комнатухе на пять персон ночников не было предусмотрено, и он, чтоб не беспокоить соседей, приспособился, словно мальчишка, читать под одеялом с карманным фонариком.
Жаль вот только, друга своего закадычного, Радия, Владик лишился.
Радия призвали после окончания вуза в армию, и служил он на полигоне лейтенантом. Очень повезло Иноземцеву, что Рыжова он здесь встретил. У каждого было огромное количество своих обязанностей, но хоть раз в неделю они все же сходились, вдвоем или в компании, выпивали, играли в шахматы, а то и просто болтали. Но однажды Рыжову пришлось уехать, после событий драматических – которые Радий, впрочем, сам рисовал в юмористическом ключе, непременно добавляя при этом, что он «за Хемингуэя пострадал». А дело было так: в июне-июле в Тюратаме воцарилось относительное спокойствие – во всяком случае, на второй, «королевской» площадке, которую обслуживал лейтенант Рыжов (и вечно прикомандированный гражданский специалист Владик). Предстоял запуск второго человека, но ни ракету, ни корабль в монтажно-испытательный корпус тогда еще не привезли. Над полигоном плыла жара. И вот в таких-то условиях радио из Москвы сообщило из своих репродукторов, что в США выстрелом из ружья свел счеты с жизнью прогрессивный американский писатель Эрнест Хемингуэй.
Рыжов (как и Иноземцев) Хемингуэя любил. А кого из писателей им любить оставалось? Он, да Ремарк, да Сент-Экзюпери – вот и все, кого тогда в СССР из современных авторов переводили (да и то с большим выбором, какие вещи достойны нашего читателя, а какие – нет). Новая советская проза в лице Аксенова, Гладилина, Казакова и Шукшина только созревала. А папаша Хэм был для вчерашних советских студентов не только автором интересных книг, но и примером честности и мужества. В Москве даже мода повелась – фотографии седого бородатого красавца по стенкам развешивать. Казенное жилье Владика и Радия к тому приспособлено не было – но все равно они весьма уважали «старика Хэма» как автора и человека.
Кстати, кроме многочисленных служебных обязанностей, лейтенант Рыжов обязан был проводить политико-воспитательную работу среди солдатиков: боевые листки, политинформации, подготовка к смотрам художественной самодеятельности и прочая бодяга. И вот однажды Радий предложил Владику устроить политинформацию совместно, на тему: «Прогрессивный американский писатель Хемингуэй и его вклад в дело мира». Сначала Иноземцев (по просьбе Рыжова) рассказал о важнейших вехах жизни и творчества писателя (бойцы слушали, откровенно говоря, плоховато, хотя сидели дисциплинированно, молча). Затем Рыжов прочел вслух пару-тройку страниц из «Прощай, оружие!» – как раз те, где Кэтрин умирала. Вот тут взвод зацепило – слушали неотрывно, Владик смотрел со стороны и даже завидовал берущему за душу прогрессивному американскому автору. Потом вопросы посыпались: что с ним, главным героем, дальше было и что еще у Хемингуэя можно прочитать.
А тут такое дело – писатель помер. Преставился. Отошел в мир иной. Были бы Владислав и Радий людьми иной, старой русской культуры, они поставили бы в церкви свечки за упокой пусть и не православного, но все одно раба Божия. Заказали б, быть может, заупокойный молебен – как это сделал за новопреставленного раба Божия Георгия (то есть Байрона) в свое время Пушкин. Однако не было, разумеется, ни в Тюратаме, ни в сотнях километров окрест ни одной церквушки или хотя бы даже часовенки. Да и привычки и потребности не имелось такой – в церкву хаживать. Иноземцев с Рыжовым были первым поколением советских людей, которые выросли без малейшего соучастия религии – разве что с отрицательным знаком: опиум для народа, обман трудящихся и прочее. Поэтому помянуть в их лексиконе означало одно: выпить за упокой души. А тут и рабочая обстановка позволяла, и удалось спиртиком разжиться «для протирки осей координат». К Радию и Владику примкнули соседи последнего по комнате. Дождались темноты, когда жар пустыни хоть чуть ослабел. Приняли на грудь девяностошестиградусного, неразбавленного (среди старожилов полигона разводить его считалось ниже собственного достоинства): хороший был мужик папаша Хэм. (Двоим соседям, художественных книжек не читавшим, попутно разъяснили, о ком речь.) Выпивали культурненько: спиртягу запивали водичкой, заедали тушенкой. Рыжов, как водится, перебрал, однако пребывал во вполне товарном состоянии. Поэтому по окончании пьянки его за милую душу отпустили в одиночку дойти до его собственной, офицерской общаги – благо расстояние между ними составляло пару сотен метров.
Но, на беду Рыжову, был он в военной форме. А тут встретился ему замначальника полигона, подполковник. Чин высокий, особенно в сравнении с лейтенантиком, вчерашним «пиджаком». (Выпускников гражданских вузов, надевших погоны, в армии тогда звали «пиджаками», в противовес питомцам военных училищ, именуемым «сапогами».) Видать, у «подполкана» было неважное настроение – он и нашел, на ком сорвать. Вдобавок непорядок вопиющий: на площадке, где царит строгий сухой закон, шатается расхристанный офицер. И началось: «Да вы пьяны! Да как вы стоите! Да какой вы пример подаете солдатам?!» А потом: «Да я вызываю патруль!» Хорошо, у Рыжова хватило ума (и трезвости) уговорить подполковника патруль не беспокоить, официального хода делу не давать. «Ну, хорошо. Тогда завтра в восемь ноль-ноль явитесь в штаб, в мой кабинет, будем разбираться».
Утренний разбор кончился просто: Рыжов прямо в кабинете «подполкана» написал рапорт с просьбой перевести его в Куру. «Ничего, парень, – похлопал его по плечу начальник, – прослужишь там годик, третью звездочку получишь (то есть станешь старлеем), и я лично тебя не забуду, переведу сюда, с повышением в должности». Видать, в Куре образовался недокомплект, и замкомандира части пополнял его таким образом – штрафниками.
В Куре, на далекой Камчатке, базировалось подразделение полигона. Туда летели ГЧ – головные части – баллистических ракет, стартующих из Тюратама. И каждую следовало в тайге найти, раскопать, описать. На Камчатке создали также измерительные пункты, откуда передавали информацию на космические корабли. А вообще, конечно, Кура была краем диким: никаких дорог, никаких развлечений и даже со спиртягой проблемы. Почту завозят вертолетом два раза в месяц, если погода позволяет. На точке все трутся на пятачке полкилометра в диаметре: два десятка офицеров, их жены да рота солдат. Живут, как правило, в так называемых санитарных палатках или землянках.
Однако Рыжов, собираясь, пребывал в воодушевлении: «Ты не понимаешь, Владька! Океан! Тайга! В реках рыбы до черта! Говорят, ее руками ловят! О грибах-ягодах вообще молчу! Правильно говорят: путешествовать надо по молодости и за казенный счет. Полстраны пролечу, проеду! А ты будешь здесь, в пустыне, жариться!»
И уехал, а Владик остался на полигоне совсем без друзей. С новыми людьми он сходился трудно.
Впрочем, не до дружества было. Работы хватало. Полигон НИИП‑5, который впоследствии назовут «космодромом» и «Байконуром», принадлежал военным. Они здесь всем заправляли. И теперь, после впечатляющих достижений пилотируемой космонавтики – полета (в апреле) Юры Первого и (в августе) Геры Второго, – генералы и маршалы потребовали у главного конструктора Королева возвращать долги. С запусками в космос людей советское министерство обороны, морщась и кривясь, мирилось – поскольку настоящим фанатом этих пропагандистских полетов стал первый человек в стране – Хрущев. Но подлинный смысл ракет и полигона военные видели не в этом. Он должен служить повышению обороноспособности страны. Точка. В том числе – разведке.
Еще когда в пятьдесят восьмом году принимали решение о том, как будет развиваться советская космонавтика, Королев задурил министерству обороны голову. Сказал: «Космический корабль для разведывательных целей, по сути, не будет ничем отличаться от того, на котором полетит человек. Поэтому давайте объединим усилия и сделаем одновременно два изделия: одно для человека, другое – для разведывательной аппаратуры». Сергей Павлович, безусловно, был человеком красноречивым, и ВПК, а впоследствии Президиум ЦК на его сладкие посулы повелись. И чем дело кончилось? Людей в космос закинули – честь и хвала, конечно. Громадный успех, подтверждающий всю мощь социализма. Но где, задали резонный вопрос военные, наш советский спутник-разведчик? Американские шпионы по программе «Корона» – они ведь (как сообщает агентурная разведка) над нами уже летают, и давно! А где советский ответ?!
Так или примерно так говорили советские генералы. Ропот их к лету шестьдесят первого стал слышен особо. Что оставалось делать Королеву? Только отдавать долги. Тем более что и вправду разведка из космоса являлась чрезвычайно перспективным направлением, и ракетчикам следовало доказать, что освоение околоземного пространства, помимо пропагандистского значения, может иметь огромный военный смысл.
Поэтому всю осень на полигоне Владик доводил в МИКе до ума первый корабль-разведчик по программе «Зенит-два». Об этом спутнике вообще не должен был знать никто – равно как и о том, что в Советском Союзе тоже мастерят спутники-шпионы. Даже само название «Зенит-два» было совсекретным, что говорить о целях программы. Кстати, даже имя это возникло удивительным образом.
Когда Королев провозгласил (а в ЦК и ВПК его поддержали), что спутник-разведчик и корабль для полета человека – по сути, одно изделие, общий корабль-прототип назвали «Восток-один». Потом из него в королевском КБ стали изготавливать спутник-шпион, названный «Востоком-два», а также изделие, предназначенное для полета человека, под именем «Восток-три».
Но затем это имя, как тогда говорили, открыли. В печати объявили, что корабль, на котором полетел Юра Первый, называется «Восток». Герман Второй, согласно сообщению ТАСС, отправился в полет на «Востоке-два». И тогда, чтобы не морочить самим себе голову, проект разведывательного спутника переименовали в «Зенит-два».
Внешне корабль этот был похож на тот, на котором летали люди, один к одному: цилиндр агрегатного отсека, шар спускаемого аппарата. Усики антенн, сопла тормозной двигательной установки. Только иллюминаторы по-иному расположены. Однако с точки зрения технической начинки «Зенит-два» оказался неизмеримо сложнее – и Владик почувствовал это на собственной шкуре. Для начала: корабль, что летал с космонавтом, требовалось сориентировать в космосе лишь один раз, перед возвращением на родную планету. Спутник-шпион должен был оставаться сориентированным все время. Так, чтобы его камеры смотрели на Землю строго перпендикулярно, достаточно одного углового градуса отклонения, и изображение необратимо ухудшится. Фотокамеры внутри отсека оказались гораздо более чувствительными к перепадам температуры, чем живой космонавт: значит, никаких отклонений даже на один градус тепла или холода допускать нельзя. На спутнике установили систему, которая должна была прямо на орбите проявлять пленку (в просторечии «банно-прачечный аппарат»). Затем автомат протягивал пленку перед объективом телекамеры: таким образом, изображение могло передаваться на Землю в режиме (как сказали бы сейчас) онлайн. Имелась также радиоперехватывающая аппаратура. Оснастили спутник и системой автоматического подрыва. С пилотируемых кораблей ее, слава богу, сняли – а на спутнике-шпионе она должна была распознать: где садится спускаемый аппарат, на своей территории или за границей, и в случае чего подорвать себя и ценный груз!
И много иных-прочих переделок-изменений потребовалось, которые отражались и на логических, и на электрических, и на прочих схемах. Все понадобилось перерабатывать, перебирать – и, как часто бывало, не в Подлипках, где корабль делался, а уже на техпозиции – то есть в пустыне, на полигоне.
После ноябрьских праздников шестьдесят первого года из ОКБ прибыл для доводки целый десант инженеров‑конструкторов‑специалистов, в том числе один из королевских заместителей – Борис Евсеевич Черток. Появился и Жора из Бауманки, с которым Владик еще три года назад работал в отделе расчетчиков. Иноземцев вновь прибывшим сверстникам-новичкам постарался оказать радушную встречу: рассказал, где жить, как питаться, где мыться и постирушки устраивать. Вечером собрались, выпили спиртяшки за встречу – где доставать алкоголь, Иноземцев тоже, широкая душа, постарался довести до коллектива, не утаил.
На сон грядущий вышли прогуляться вокруг общаги. Летняя безумная жара после короткого бархатного сезона успела смениться полной своей противоположностью – морозищем. Хотя настоящая тюратамская холодина, которой Владик сполна хлебнул прошлой зимой, еще не наступила. С ума сойти, он здесь уже вторую зиму безвылазно, и непонятно, когда его отсюда демобилизуют. Тут шедший рядом Жора, изрядно захмелевший от непривычного спирта, хлопнул Владика по плечу и пробормотал: «Совсем забыл – тут тебе письмо».
Корреспонденция оказалась от неожиданного человека – от Нины, последней жены Флоринского.
Иноземцев ни в мыслях, ни в разговорах с матерью никогда не называл Флоринского «отцом». Трудно было ему к этому привыкнуть. Как старшего товарища и умнейшего человека он знал Юрия Васильевича почти два года. Как отца – всего лишь два дня до его смерти в госпитале Бурденко. И Нину он совершенно не воспринимал как мачеху. Такая же, как он сам, молодая, веселая и слегка бесшабашная девушка, простой техник (то есть специалист, стоящий на ступень ниже его, инженера) в королевском конструкторском бюро.
«Дорогой Владислав, – адресовалась к нему Нина, – извини, что я пишу к тебе, да еще и с нарочным, – но я недавно узнала, что ты, оказывается, находишься на полигоне. – Секретность внутри ОКБ, как и внутри страны, была настолько тотальной, что даже сотрудники одного и того же отдела, не говоря уж о коллегах из других подразделений, могли не знать (да что там, не должны были знать), чем занимается и где пребывает их товарищ. – Мое письмо вызвано следующим. Не помню, говорила ли я тебе, – на самом деле не говорила, иначе Иноземцев бы помнил, – что я перед кончиной Юрия Васильевича побывала у него в госпитале – мне этот визит устроил С. П., – то есть Королев, понял Владик, – за что я ему чрезвычайно благодарна. Юрий Васильевич находился тогда в весьма тяжелом состоянии, однако с трудом, и через большие паузы, он все-таки сказал мне следующее – из чего я заключаю, что довести эту информацию до меня было для него очень важно. «Будучи на полигоне (сказал мне Ю. В.), я стал вести записки о своей жизни. Они там, в моей комнате, и остались. Всегда, уходя, я прятал их под половицу под своей кроватью. И в тот раз, когда отправился на пуск, тоже. Так они там и остались. Пожалуйста, найди способ достать и передать их, – тут он назвал мне твое имя. Именно ему (то есть тебе, Владик), подчеркнул тогда Ю. В. И вот я узнаю: ты, оказывается, как раз на полигоне! Что ж! На ловца и зверь бежит. Возможно, эти бумаги так и остались тогда там, у Ф. в комнате под половицей. Пожалуйста, изыщи возможность проникнуть туда и найди их – ради памяти нашего с тобой общего друга».
Ни Нина, ни кто-либо другой в ОКБ не знал о том, что Владик на самом деле родной сын Флоринского. И если девушке было удивительно то, что тот просил передать свои записки именно ему, то Иноземцев сему обстоятельству нисколько не поразился. Не странным было и то, что Юрий Васильевич взялся за записки – долгими вечерами на полигоне еще и не такое придумаешь. Как не изумило его и то место, где пожилой конструктор хранил дневники, – под половицей! Старый лагерник всей своей шкурой воспитан был на том, что любые откровенные заметки о жизни следует прятать, оставляя на виду лишь конспекты по истории КПСС и диамату[8]8
Диамат (диалектический материализм) – один из разделов марксистской философии, которую следовало в обязательном порядке, в институтах или на политзанятиях, изучать всем советским людям.
[Закрыть].
Владик никогда даже не задавался вопросом, где на полигоне проживал Флоринский перед своим ужасным ранением на испытаниях ракеты Р‑16. Но сейчас ему захотелось, под воздействием алкогольных паров, немедленно отыскать эту комнату и достать дневник. Он лишь усилием воли поборол свое желание, решив, что проникновение в бывшее жилище Юрия Васильевича следует подготовить тщательно и со свежих глаз. Не о рецепте пирога речь идет – о тайных записях.
Да и сохранились ли они? Все-таки год прошел. Не нашли ли дневники (и приобщили к своим делам) особисты? Не сожрали ли мыши? Завтра, подумал Владик, надо как следует протрезветь и составить план: как я найду посмертные записи отца. Он обратил внимание, что, едва ли не впервые, мысленно назвал Юрия Васильевича отцом, и улыбнулся этому обстоятельству.
Москва.
Лера
Они с Виленом и Марией договорились сходить вместе в ЦПКиО: покататься на пруду на лодочке, попить настоящего (как говорили) чешского пива в ресторане «Пльзень».
Улучив момент, когда Вилен отошел, болгарка шепнула: «Завтра. В час пятнадцать, Лефортовский парк, вторая скамейка от входа».
Лера была впечатлена. Назавтра был понедельник. «Почтовый ящик», где она служила, и впрямь располагался неподалеку от Лефортовского парка, а с часу до двух был обеденный перерыв, когда можно было выскочить прогуляться, – но она решительно не помнила, чтобы рассказывала об этом Марии. Да, скорее всего, ничего и не говорила – с чего бы ей откровенничать, да еще перед иностранкой? Откуда тогда болгарка узнала? Неужели Вилен протрепался?
Вечером, когда шли от метро к дому, она спросила об этом у мужа. Тот стал решительно отрицать, а потом сказал многозначительно, и непонятно было, всерьез он или шутит: «Остается думать, что мы главного противника, американскую разведку, недооцениваем. У нее всюду глаза и уши».
Галя
Галя всегда любила воскресенья, в чем была среди советских людей совершенно не оригинальна. Имелись, конечно, чудаки вроде Владика, его начальника Константина Петровича Феофанова или Сергея Павловича Королева, для которых понедельник начинался в субботу, но она к числу подобных одержимых не относилась. Любила, грешным делом, единственный в неделю выходной, когда не нужно сломя голову бежать к метро, ехать на работу и можно поваляться подольше. Раньше для нее воскресенье означало еще одно: прыжки. Ах, это прекрасное время на аэродроме, когда по утрам как раз таки никто не валялся, все выбегали на зарядку и построение, а потом – только бы была хорошая погода! – в самолет и вверх, а там – небо, ветер, солнце, друзья! И ты летишь! Когда же она прыгала в последний раз? Как узнала, что Юрочкой беременна. Значит, летом позапрошлого года. Больше двух лет прошло. Как бы хотелось повторить, хотя бы разочек!
Однако воскресенье, проводимое в роли матроны при генерале Провотворове, тоже имело свои плюсы. Особенно когда Иван Петрович оказывался дома, не в разъездах своих бесконечных. Нянька в выходной оставляла их одних, уходила в церкву, потому как была набожной. Юрочка, что за чудо-ребенок, валяться им двоим не мешал, сам вставал, играл увлеченно и тихонько в солдатики и машинки. Поэтому Галя и генерал леживали по воскресеньям до удивительно поздних времен, аж до четверти десятого, пока не начиналась радиопередача «С добрым утром!» с ее бодрыми позывными: «С добрым утром, добрым утром и хорошим днем!» Под нее и завтракали. Телевизор в квартире Провотворова тоже имелся, да только никаких утренних программ в шестьдесят первом году еще не передавали.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?