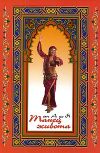Автор книги: Анна Козонина
Жанр: Музыка и балет, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Одна распространенная соматическая практика называется «Аутентичное движение». С 1950-х годов ее развивала американская танцовщица и терапевт Мэри Уайтхаус. Чтобы по-настоящему пережить движение, она предлагала искать его в глубине своего тела, слушать тонкие телесные импульсы, а не «надевать его на себя», как платье или пальто. В этой парадигме «в нас есть то, что двигалось с самого начала». Практика предполагает работу в паре: один человек, глубоко погружаясь в свои телесные ощущения, двигается на виду у другого, а партнер свидетельствует. Часто после этих сеансов происходит обмен обратной связью, в котором поощряется разговор из позиции заботливого внимания, без осуждения. Делясь друг с другом, оба участника стараются говорить не об опыте, а из опыта[77]77
Эта фраза заимствована из манифеста Анны Кравченко «Танец, который не претендует быть». URL: http://aroundart.org/2020/03/22/kravchenko-tanets-kotoriy/ (дата обращения: 19.01.2021).
[Закрыть].
В западных dance studies 1980–1990-х, сообразно теоретическим веяниям того времени и благодаря проникновению в письмо о танце постструктурализма, всё «аутентичное» было под вопросом, подвергалось критике и деконструировалось. Это была эпоха фрагментации тела, идентичности и субъекта, в которую изучение феноменологии «вышло из моды, стало почти политически подозрительным»[78]78
Kozel S. Closer: Performance, Technologies, Phenomenology. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. P. 4.
[Закрыть]. Если Марта Грэм говорила, что «тела никогда не врут»[79]79
Правда, альтернатива этому подходу была очевидна уже в работах Каннингема. См. Copeland R. Merce Cunningham: the Modernizing of Modern Dance. New York / London: Routledge, 2004.
[Закрыть], а Ивонна Райнер искала нейтрального исполнителя, то и теоретики, и многие художники 1990-х уже считали, что нет никакого естественного, правдивого или нейтрального тела, что тела конструируются социумом и языком. Если раньше танец виделся как самоочевидное явление, универсальный способ коммуникации за пределами человеческого языка, преодолевающий границы национальных и гендерных барьеров и не считающийся с культурными условностями, то к концу ХХ века танец все чаще стал рассматриваться как практика публичного конструирования, предъявления или сокрытия идентичностей[80]80
См. Lepecki A. The Body in Difference // Fama. 2000. Vol.1, no 1. P. 7–13. URL: http://sarma.be/docs/608 (дата обращения: 25.01.2021).
[Закрыть]. Нейтральный исполнитель танца постмодерн оказался белым образованным американцем, представителем среднего класса, гегемоном и нормализующей фигурой. Пространства галерейного «белого куба» и театрального «черного ящика» тоже потеряли нейтральность и стали рассматриваться как элементы определенной политэкономической системы и структуры распределения благ. Теоретик и танцовщица Энн Купер-Олбрайт размышляла о том, что теория танца слишком много концентрируется на абстрактном, «чистом» движении, его кинестетических и физических свойствах[81]81
Что было свойственно танцу 1960–1970-х.
[Закрыть], порой полностью игнорируя социальные смыслы, которые производят на сцене тела[82]82
Albright A. C. Choreographing Difference: The Body and Identity in Contemporary Dance. Hanover / New Hampshire: Wesleyan University Press, 1997.
[Закрыть]. Для авторов 1990-х важно, кто танцует: мужчина или женщина, дети или взрослые, какой у исполнителей цвет кожи, насколько их тела соответствуют устойчивым представлениям о «подобающем танцевальном теле», насколько они худые или полные, спортивные или нет. Важно и где происходит представление, и то, как сама организация показа поддерживает определенный властный уклад. Ведь одним людям (и телам вообще) сцена доступна, а другим – нет. Со временем дискурс о подлинности сменился разговором о различии, отношениях своего и чужого, вопросах власти и игровой, перформативной идентичности.
В Европе 1990-е связаны еще и с появлением феномена так называемого концептуального танца (иногда его называли интеллектуальным танцем или не-танцем, правда, от этих терминов теоретики то и дело отказывались ближе к концу 2000-х). Его возникновение, в первую очередь, ассоциируют с работами Жерома Беля, Ксавье Ле Руа, Бориса Шармаца, Джонатана Барроуза, Веры Монтеро, Мартина Спонберга и Марии Ла Рибо. Развившийся под влиянием философии структурализма и постструктурализма танец той волны если и не отрицал, то точно не ориентировался на «аутентичность» тела, а видел его как производное от языка, превращая танцевальный перформанс в продуманно организованную систему знаков. Задачей зрителя теперь было не развитие чувствительности и телесной эмпатии, а скорее готовность «читать» перформанс[83]83
Spangberg M. Introduction // Movement Research, 2018. P. 17.
[Закрыть], размышлять о том, как концептуально устроено произведение. Довериться кинестетической эмпатии и отдаться созерцанию было недостаточно: при таком подходе спектакль просто «не случался». Подобно тому, как это ранее произошло в визуальном искусстве, работы того периода больше других нуждались в профессиональном теоретическом комментарии, чтобы «иметь смысл» и быть «адекватно воспринятыми». Про это время даже говорили: хореографы заключили союз с теоретиками[84]84
Cvejič B. The Alliance Is Over! Conceptual Dance and Performative Theory. East and West, 2006.
[Закрыть].
Новый европейский танец 1990-х унаследовал концептуальные составляющие эпохи Джадсона, но отнесся с подозрением к той ее части, которая была связана с «аутентичностью» и доверием к телу. Он сильно повлиял на эстетические и философские поиски в хореографическом искусстве – как минимум потому, что практически отказался от танца как такового. Если работы с «соматическим бэкграундом» вызывали вопрос: «А танец ли это?» – так как проявляли «неузнаваемые формы», то перформансы 1990-х – начала 2000-х порой интуитивно вообще не воспринимались как танец, хотя их авторы настаивали на том, что работают в поле хореографии. Новые спектакли не создавали, а скорее деконструировали танцы[85]85
Birringer J. Dance and Not Dance // PAJ: A Journal of Performance and Art. 2005. Vol. 27, no. 2. P. 10–27.
[Закрыть], пытаясь показать их встроенность в социальные, политические, культурные, исторические, искусствоведческие контексты, политики репрезентации, отношения с институциями. Концептуальный танец рассматривали как жест против «спектакля» в понимании Ги Дебора, то есть как попытку вырвать одурманенных зрителей из власти индустрии развлечения и расплодившихся медиаобразов, научить аудиторию не потреблять зрелище, а его осмыслять. Это, пожалуй, пик разотождествления танца с его главным медиумом – человеческим телом в движении – и со всеми характеристиками, которые приписывались танцу в модернистской парадигме: экспрессией, грацией, театральностью, виртуозностью. Размышляя о таком танце, теоретик перформанса Андре Лепеки писал об истощении, исчерпании движения, а вместе с ним – модернистского танцевального проекта[86]86
Lepecki A. Exhausting Dance. Performance and the Politics of Movement. New York: Routledge, 2006.
[Закрыть]. Концептуальный танец вообще делал ставку на язык, самоанализ, институциональную критику и переосмысление своей истории, постоянно спрашивая себя, чем сегодня должен заниматься танц-художник.

Илл. 12. Ландшафт для мертвой собаки. Дарья Юрийчук, Екатерина Волкова, Наталья Жукова. Культурный центр ЗИЛ, Москва. Фотография Маргариты Денисовой. 16 июня 2018
Показательный пример из того времени – работа французского хореографа Жерома Беля «Последний спектакль» (Le Dernier Spectacle, 1998)[87]87
Полная запись спектакля доступна на официальном канале компании Жерома Беля на Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8aVhozKZDks.
[Закрыть]. Бель попытался создать произведение, которое стало бы полной противоположностью модернистскому танцевальному спектаклю. Танец тогда явно отставал от тенденций в визуальном искусстве и литературе: по словам самого Беля, в 1990-х годах от хореографа в Европе все еще ждали оригинальности: «Сделай что-то новое, аутентичное, забудь все, что есть вокруг». «Последний спектакль», напротив, имел дело с темами копирования, цитирования, отказом от эстетики, с репродукцией и переработкой. Хореографию для него Бель не сочинил, а позаимствовал у Сюзанны Линке, танцовщицы и хореографа, которая, наряду с Пиной Бауш, является звездой немецкого танцтеатра и продолжает в своем творчестве линию довоенного экспрессивного танца. Центральная часть «Последнего спектакля» представляла собой четырехкратный повтор фрагмента из пронзительного, одновременно нежного и драматичного, соло Линке под названием «Превращение» (Wandlung, 1978), которое исполнительница посвятила Мэри Вигман.
У Беля на сцену выходила танцовщица Клэр Энни в белой сорочке, по-немецки говорила в микрофон: «Я Сюзанна Линке», – исполняла фрагмент заимствованной хореографии и уходила. Потом в таком же одеянии к микрофону выходил сам Бель, заявлял, что он Сюзанна Линке, и исполнял то же соло. Затем то же самое проделывали двое других мужчин-танцовщиков – Антонио Каралло и Фредерик Сегетт. После нескольких промежуточных сцен Каралло, Энни и Сегетт по очереди выходили к микрофону, говорили: «Я не Сюзанна Линке», – и оставались стоять в углу сцены. Энни и Сегетт растягивали черный кусок ткани, за которым Каралло исполнял то же соло Линке, но зрители могли только изредка видеть фрагменты его тела, тогда как сам танец был полностью от них скрыт. Настроиться на эмпатическое восприятие танца и насладиться красотой хореографии в этом спектакле было довольно сложно, зато его можно было подвергнуть интеллектуальной экзекуции, мысленно «расшифровать».
«Последний спектакль» обращался к истории танца, к проблемам оригинальности, авторства, аутентичности танцевального материала, работал с вопросом воспроизводимости перформанса. Это авторефлексивный спектакль, то есть в нем есть размышление о нем самом в историческом контексте и нет акцента на «внешних» темах, к которым он отсылает или которые показывает. Бель пытался сделать в танце то, что давно было сделано в визуальном искусстве. Не придумал хореографию, а полностью скопировал, потом эти копии размножил и показал, как принцип копирования работает в «живых» искусствах. И обнаружил, что перформанс на самом деле нельзя скопировать или воспроизвести[88]88
О проблеме невоспроизводимости перформанса, в частности, писала Пегги Фелан: Phelan P. Unmarked: The Politics of Performance. Routledge,1993.
[Закрыть]: он каждый раз немного другой, немного отличается, потому что исполнители – живые люди, и чем больше повторений, тем больше видны различия. Вместо того чтобы заставить зрителей поверить в перевоплощение исполнителей, в их искренность, чем по преимуществу занимались традиционный театр и танец модерн, он в этой работе показал, что перевоплощение невозможно, что всегда есть зазор между героем и исполнителем, что есть некий телесный несократимый остаток, «феноменальное тело» перформера[89]89
В терминах Эрики Фишер-Лихте.
[Закрыть], которое проглядывает из-за персонажа. Прикрыв танец в конце тканью-занавесью, он показал, что спектакль происходит в сознании зрителя, что чем меньше выразительных средств использует автор, тем больше активизируется воображение аудитории. В конце в спектакле звучали имена всех, кто в тот вечер зарезервировал места на показ: таким образом зрителей как бы включали в тело представления, что указывало на их соавторство. Так аудитория «сталкивалась с вытеснением танца как эстетического (модернистского) объекта» и была вынуждена иметь дело со своей собственной склонностью воспринимать произведение[90]90
Cvejič B. Collectivity? You mean collaboration? // transversal.at, 2005. URL: https://transversal.at/transversal/1204/cvejic/en (дата обращения: 26.01.2021).
[Закрыть]. Важным тут был и перформативный процесс называния («я есть», «я не есть»)[91]91
Перформативный – в терминах Джона Остина.
[Закрыть], производящий некую фантомную идентичность, с которой материальные тела потом вступали в диалог или конфликт. Таким образом, Бель представил иной подход к хореографии: это уже было не «искусство сочинять танцы», как в модерне, и не искусство ставить двигательные задачи, как в Театре Джадсона, а практика создания ситуаций, в которых должны активироваться аналитические способности аудитории.
Но самое интересное в этой работе было то, что Бель, видимо, посчитав, что «Последний спектакль» недостаточно хорошо поняли, подготовил лекцию, в которой объяснял его теоретические предпосылки[92]92
Первая часть: https://www.youtube.com/watch?v=bFFjxEJrhFU, вторая часть: https://www.youtube.com/watch?v=ccR4rfoECkg.
[Закрыть]. В ней видна работа скорее критика, исследователя перформанса и даже педагога, а не вдохновенного художника-творца. Из лекции становится ясно, насколько этот спектакль логически продуман, каких теоретиков он читал (Пегги Фелан, Юлию Кристеву, Ролана Барта, Жиля Делёза) и какие вопросы пытался заострить. В этом четком и ясном анализе не осталось ничего от образа художника, который чувствует что-то смутное, не знает, как это выразить в словах, так что выражает в танце. С 2004 года Бель и вовсе перестал показывать сам спектакль и стал гастролировать с лекцией (концептуалистский жест). Это было следующим шагом в деконструировании танца Линке: сперва он его скопировал, затем спрятал за черным полотном, а в конце и вовсе заменил рассказом.
Исследовательница Бояна Цвеич писала про тот период: «Хореограф понимал, что если танец попытается рассказать нам что-то о мире, то он обречен на неудачу, что он может представлять только репрезентацию, то есть только свои собственные средства и идеологические механизмы для производства смысла и статуса в современной культуре»[93]93
Cvejič B. The Alliance Is Over! Conceptual Dance and Performative Theory. East and West, 2006.
[Закрыть]. В принципе, мощный потенциал самоанализа был заложен еще Театром Джадсона, однако хореографы 1960–1970-х гораздо больше полагались на «тело как таковое». Цвеич считает, что в 1990-х поле хореографии [окончательно] расширилось за пределы модернистской парадигмы танца, а dance studies «подверглись серьезному испытанию со стороны теорий современного искусства»[94]94
Там же.
[Закрыть]. «Последний спектакль» – прекрасный пример того, как теоретический комментарий не только сопровождал танцевальное произведение, но и «зашивался» прямо в перформанс, становился его несущей конструкцией, впрочем, не отменяя важности соприсутствия исполнителей и аудитории.
Уже к середине нулевых «концептуальный» танец подвергся серьезной критике. Писали, что он вызывает клаустрофобию и задыхается от своего самокопания и остроумного цинизма[95]95
Birringer J. Dance and Not Dance // Performing Arts Journal. 2005. 80, 27 (no. 2). P. 10–27.
[Закрыть]. Примерно в то же время вышло влиятельное эссе философа Жака Рансьера «Эмансипированный зритель» (Le Spectateur émancipé)[96]96
Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. Нижний Новгород: Красная ласточка, 2018.
[Закрыть], в котором он критиковал попытки авангардных театральных режиссеров ХХ века (начиная с эпического театра Бертольта Брехта и театра жестокости Антонена Арто) «освободить» зрителей из плена иллюзии и активизировать их интеллектуальный и политический потенциал. Рансьер видел в этом педагогическую логику: режиссер держит в кармане истину, которую нужно вбить в голову зрителю – невежде, одурманенному зрелищем. Однако это же – логика господства и несократимой дистанции: зритель-ученик в ней предстает дураком. Лекция Беля – яркий тому пример. Ему важно, чтобы его «верно поняли», и если зритель недостаточно умен для этого, у хореографа есть для него «правильное разъяснение». Не зря концептуальный танец критиковали за самодовольство и маскулинность – в отрицательном смысле.
Кроме того, сам термин «концептуальный танец» всегда был очень спорным и в итоге, в результате многолетних дебатов, был признан сбивающим с толку. В 2007 году в Лондоне состоялась дискуссия под названием «Неконцептуальный: исследуя идеи, стоящие за самым влиятельным движением в танце последних десяти лет» (Not Conceptual: Investigating the Thinking behind the Most Influential Movement in Dance of the Past Ten Years). К тому времени стало ясно, что термин не означает ни конкретного стиля, ни поэтики, ни жанра, но лишь указывает на то, что обозначенное им хореографическое произведение интуитивно трудно квалифицировать как танцевальное[97]97
Cvejič B. Choreographing Problems. Expressive Concepts in European Contemporary Dance and Performance. Palgrave Macmillan. 2015. P. 6.
[Закрыть].
Со временем в европейском танце случился новый поворот к соматике, аффекту, произошла реабилитация чувственного[98]98
См. об этом сборник статей Post-dance и, в частности, статью Spangberg M. Postdance, an Advocacy // Andersson D., Edvardsen M., Spangberg M. (ed.). Post-dance. MDT, 2017.
[Закрыть]. Кроме того, у соматики и концептуализма в танце обнаруживается любопытная общая черта: обе практики предполагают интерес к интроспекции, то есть самонаблюдению. Соматика – интроспекция в отношении своего тела и движения, концептуальный танец – интроспективное путешествие по чертогам своей дисциплины. Новый интерес к соматике, аффектам и исследованию движения в 2010-х – это не откат в прошлое, а шаг вперед, хотя с тех пор танцу сложнее позволить себе быть таким наивным и искренним, как это было прежде. Скорее, у танца появилась возможность стать постконцептуальным: сегодня в него по умолчанию могут быть зашиты осознание специфики своих медиа, институциональной ситуации и авторефлексия, однако этого уже не всегда достаточно, чтобы сделать перформанс. «Танец способен помочь нам проследить за сложно устроенным диалогом между соматическим опытом и культурной репрезентацией – между телом и идентичностью»[99]99
Albright A. C. Choreographing Difference: The Body and Identity in Contemporary Dance, Wesleyan University Press, 1997. P. XIV.
[Закрыть], – писала Олбрайт еще в конце 1990-х. Сегодня интерес к соматике находится скорее в диалектической борьбе и единстве с зашитым в произведение критическим комментарием. Хореографы глубоко погружаются в тело, но одновременно пытаются смотреть на него снаружи как на культурный артефакт. Через удержание этого напряжения можно рассматривать и некоторые работы российского танц-перформанса 2010-х, о которых пойдет речь дальше.

Илл. 13. Сад. Екатерина Волкова, Наталья Жукова, Дарья Юрийчук. Студия перформативных искусств «Сдвиг», Санкт-Петербург. Фотография Полины Назаровой. 27 октября 2018
Танец тела и ума: российский танц-перформанс между соматикой и критикой
В постсоветской России процессы развития хореографии шли иначе: более быстро и хаотично. Соматические практики проникли в страну[100]100
Вопрос о том, какие альтернативные физические практики существовали в СССР, я не изучала. Кажется, это может стать темой занимательного исследования.
[Закрыть] еще в 1990-х, но стали популярными в 2000–2010-х, так что вокруг разных телесных дисциплин сложилось целое соматическое комьюнити, появились преподаватели, развивающие свои оригинальные подходы к работе с телом. Не так давно большее влияние получила гуманитарная теория, что вполне совпадает со стремлением нового танца проникнуть в музеи, галереи и институциональную систему современного искусства, которое связано с богатой философско-теоретической традицией. Попытки подключиться к дискурсам современного искусства, рост значения ридинг-групп и теории – вещь закономерная. Телесное и соматическое знание танца вообще маргинально в культуре, и его подключенность к «актуальным повесткам» сулит новые возможности и ресурсы.
Конечно, в России не было никакого «десятилетия концептуального танца», яростных теоретических дискуссий и заката этой удивительной эпохи. Однако две упомянутые здесь тенденции обнаруживаются и в работах российских танц-художников и, на мой взгляд, могут дать инструменты для анализа местных работ. Манифест «Айседориного горя», которые всегда демонстрировали одновременно интерес к соматике и озабоченность вопросами власти, написан в том же духе. В нем чувствуется и осознание своего отношения с институциями, и желание «освободить внутренние органы от концепций» (шаг вперед от концептуализма в танце), и понимание связи телесных, соматических процессов с общественно-политическими. Очень показательный в этом смысле пример – их работа «Оцепенение. Рыцари дизабилити» (2015)[101]101
Проект состоял из множества разноформатных процессов и проходил в трех городах: Москве, Ярославле и Калуге. В каждом городе проводилась открытая лаборатория и перформанс-интервенция перед крупным театром за 15 минут до начала балетного спектакля. Перед Большим театром было три интервенции. Проект завершался галерейным перформансом с двухканальным видео. Подробнее на сайте: https://www.isadorino-gore.com/rycari-dizabiliti.
[Закрыть], которая в одном из вариантов представляла собой интервенцию в городское пространство рядом с Большим театром в Москве. Художницы двигались в ортезах – специальных медицинских изделиях, которые используются для реабилитации при болезнях и травмах и служат для поддержки, фиксации и разгрузки опорно-двигательного аппарата. Ортезы маркируют телесную инаковость, воспринимаются как символы инвалидности, но в «Оцепенении» выглядят одновременно как модные футуристические аксессуары и как телесные расширения. Художницы находились в интимном соматическом процессе исследования внешних ограничений своего тела и новых возможностей, которые тела приобретали в связи с подобными ограничениями. Но эти процессы моментально обретали политическое измерение, испытывая на прочность общественные установки относительно существования и действия неконвенциональных тел в публичном пространстве. Особое значение имело проведение перформанса у Большого театра – храма российского балета, искусства, которое не терпит инаковости и, несмотря на свою травмоопасность, не может интегрировать травму и всегда ее вытесняет.


Илл. 14–15. Рыцари дизабилити. Кооператив «Айседорино горе». Фотографии Виктора Жукова. 2015
В похожей логике интереса к соматике и критике[102]102
Кураторы программы периодически участвуют в проектах Школы Вовлеченного Искусства «Что делать?».
[Закрыть] сформировалась учебная программа магистратуры «Художественные практики современного танца», где помимо технических уроков преподают современную философию, соматические дисциплины, разные подходы к методам создания композиции танцевальных перформансов. В поле нового танца есть и интересные радикальные попытки освободить тело от социальных, культурных, политических интерпретаций (максимально ярко представленных в парадигме «концептуального» танца), «увидеть танец как непрагматичную необходимость»[103]103
URL: http://sdvig.space/irrationalbody/.
[Закрыть]. Этим, в частности, занимается студия «Сдвиг», кураторы которой испытали огромное влияние соматических дисциплин и программно продвигают танец, ускользающий от символических референций: «Явленное в танце, но не успевшее закрепиться интерпретацией ни исполнителя, ни зрителя, формирует зазор, в котором просвечивает невообразимое»[104]104
Кравченко А. Танец, который не претендует быть. URL: http://aroundart.org/2020/03/22/kravchenko-tanets-kotoriy/ (дата обращения: 21.01.2021).
[Закрыть], – пишет в своем манифесте Анна Кравченко.

Илл. 16. Советский жест. Кооператив «Айседорино горе». Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ), Москва. Фотография Евгения Второва. 2018
В танц-перформанс с середины 2010-х пришли современные художники и искусствоведы – им свойственна склонность к теоретизированию и подозрительность к дисциплинирующим танцевальным техникам. Неслучайно танц-перформанс дрейфует в сторону институций современного искусства, в последнее время склонных позволять себе большую театральность и перформативность и дающих площадку танцу, который не принимается более консервативным театром. Влияние соматических практик и гуманитарного знания сильно отразилось на форматах работ танц-перформанса. Эти две тенденции с разных сторон ударили по внешним критериям, которые раньше помогали нам без труда опознавать танцевальный спектакль, заставив зрителей и критиков спрашивать: «А спектакль ли это?», «А танец ли это вообще?»
Однако нельзя забывать, что, пользуясь наработками западной теории и истории в анализе российского танца, мы рискуем не только ошибиться в интерпретации локальных феноменов, но и продолжать испытывать комплекс неполноценности, вторичности. Танц-перформанс, постоянно записываемый в «младшие братья» разных гегемонов – великого балета, коммерческого шоу-танца, «западного» танца, современного искусства, академического дискурса, – сегодня сам пытается этому противостоять. Можно сказать, у нового танца есть несколько стратегий собственной деколонизации.
Во-первых, это работа с местной историей и современностью через тело. Так, если рядовой европейский танц-художник будет препарировать в своей постановке Марту Грэм или Пину Бауш, российские художники, кроме прочего, обратятся к собственным танцевальным корням, советской истории и современности (правда, обращения к фольклорной традиции в новом танце весьма скудны). Среди примеров: перформансы «Факультатив чувственности», «П.У.С.Т.» и лаборатория «Советский жест» кооператива «Айседорино горе», в которой танцовщицы работали с темой (пост)советской телесности[105]105
Плохова Д., Портянникова А. Руководство по практическому применению танцевального архива «Опыты хореологии», или Куда нас завел «Советский жест». М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020.
[Закрыть]; спектакль Татьяны Чижиковой и Анны Семёновой-Ганц «Ударница», начинавшийся с телесного исследования чувства сдерживаемого удара, но в итоге вобравший в себя рефлексию свойственного постсоветскому человеку чувства подавленного недовольства и вошедший в резонанс со вспыхнувшими в Москве в 2019 году протестами.
Вторая стратегия – своеобразная «перепись» западноцентричной истории танца (и вообще «перепись логоцентризма»). Одной навязанной Истории танц-перформанс противопоставляет игру множества историй. Эта стратегия ярко проявилась в проекте студии «Сдвиг» «Субъективная история танца»[106]106
Архив проекта «Субъективная история танца» доступен на сайте студии: https://sdvig.space/lectures/.
[Закрыть], в котором приглашенные художники, деятели новой российской сцены, создают лекции-перформансы, предлагая аудитории собственный взгляд на прошлое – не только рациональный, но и аффективно-телесный. В этом цикле «Сдвиг» напоминает, что наше представление об истории сильно связано с привилегией того, кто пишет, с доступом к производству знания. И одновременно противопоставляет эфемерность и субъективную вариативность устного и телесного внетелесному закону буквы.
Третья стратегия – это создание текстов о танце самими художниками. Будучи долгое время обделенными адекватным институтом критики, хореографы начали писать про себя сами, одновременно пытаясь отрефлексировать свои отношения с письмом вообще. Так, Дарья Юрийчук заимствует язык гуманитарных наук, настраивая мосты между миром танца и академией, Вик Лащёнов пишет о внутренних процессах в танцсообществе и освещает методы работы в этом поле, а Анна Кравченко противопоставляет искусствоведческому препарированию письмо феноменологическое – «не об опыте, а из опыта».
Четвертую стратегию мы найдем в работах, где вместе с танцем фигурирует много разговора и текста. Это стратегия осмысления локальной инфраструктуры, культурной политики и места современного танца в современной российской культуре. Дальше мы увидим, как это работает на примерах работ «Профессионал» и the_Marusya.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?