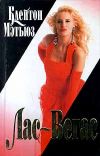Текст книги "Вспоминая Вегас"
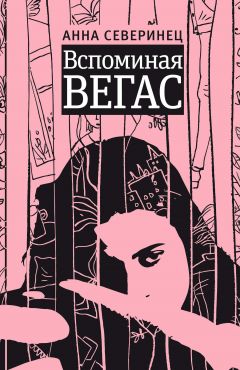
Автор книги: Анна Северинец
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Она бросилась в дальний угол комнаты, где утром всегда стояла чистая вода в медном кувшине, плеснула на лицо, шею, плечи, хорошенько растерла щеки, станцевала тур вальса (это был вальс?) и упала еще немножко поваляться в постели. Все эти хрустящие кружева и нежный шелк, дымка балдахина над головой, стрельчатые своды высокого потолка, резные стройные колонны, державшие на себе арки, широкий подоконник, на котором можно было сидеть с книжкой, опершись на толстую, шитую золотом подушку, – сегодня все это казалось Абигайль таким любимым и таким прекрасным, что внутри даже что-то заболело, сжавшись в умилении.
Абигайль вскочила и рывком отдернула шторы второго окна. В окнах сестер и в том окне, за которым жил кто-то неизвестный, тоже волновалась еле заметная отсюда жизнь: передвигались легкие тени, всплескивали шелковые простыни, мелькали фарфоровые блики. Они смогут даже мельком увидеть, вернее, представить друг друга, когда карета Абигайль на всем ходу промчится по дороге к замку, а карета Лилианны, грохоча по булыжнику, устремится в лавку. Когда Абигайль подойдет к двери своей башни, она краем глаза увидит платье Урсулы, выходящей к своей карете. А из северной башни в лавку никого никогда не возят.
Но это ничего, это грустное, о грустном сегодня не надо. За деревянными ставнями, скрывающими небольшое окошко в глубине, слышится стук и скрип подъемного механизма – это завтрак. Абигайль распахивает ставни – на деревянном поддоне стоит кружевной мельхиоровый поднос, сервированный по-утреннему: ароматный травяной чай в высоком фарфоровом заварнике, румяная булочка, малиновый джем. Честное слово, она бы завтракала так до скончания века – что может быть лучше малиновой сладости и пшеничного хруста, соединенных с чайным совершенством?
Одеваться! У нее есть еще целых пять часов, чтобы как следует нарядиться, – ведь ей придется идти через площадь, она будет совсем-совсем пустой, но по периметру в оцеплении будут стоять солдаты, и каждый будет жечь ее своим взглядом, и зеваки с крыш станут разглядывать ее, и пусть это всего минута, но в городе об этом будут говорить целый год до следующего раза – в чем приехала в лавку Мауриньо каждая из четырех королевских дочерей. Эммелина писала, что молочница, с которой она иногда разговаривает, знает наизусть все наряды каждой из принцесс за все годы заточения. Поэтому пять часов – это совсем, совсем немного.
Уже через три часа Абигайль была совсем готова. Румяна, локоны, шляпка, колечко. Так, сесть на краешек кровати, чтобы не измяться. Два часа ожидания. Легкий стук каблучков за дверью, на винтовой лестнице вниз, скрип двери, ржание лошади, сухой щелчок бича и грохот колес по брусчатке – это уехала Эммелина. Два часа ждать.
* * *
Первым был, конечно, Гомер.
Африканец и австралиец, поймете ли вы меня? Думаю, поймете. Вы одни знаете, как мне хочется написать: «Первым был Янка Пярун, древний белорусский песняр». Почему бы, в конце концов, и не исправить историческую несправедливость, из-за которой наши песняры должны были сначала вгрызаться в свою бесплодную землю, отвоевывать свои болота от многочисленных врагов (и кому они зачем сдались?) и только потом – думать о литературе? Хорошо было Гомеру: вот тебе бесплатная рыба, вот тебе бесплатные оливки, вот тебе солнце и круг-лый год комфортная погода.
Но если бы первым писателем был белорус, она была бы совсем другой. Поэтому не будем врать. Во вранье всегда запутываешься – даже когда пишешь сама для себя.
Итак, первым был Гомер.
Все, что было до него – шумерские таблички и египетские папирусы, китайские своды и персидская вязь, – все это было безымянным, а литература – это все-таки автор. Что есть книга, как не мир, увиденный чьими-то глазами? Когда я не знаю, чей это взгляд, я не могу понять, что это за мир.
Даже в случае с Гомером, который, еще неизвестно, был ли на самом деле.
Ведь после пожаров, которые уносили с собой Античность, после чудовищной катастрофы в Александрийской и Пергамской библиотеках книг почти не осталось – плохие копии, переписанные жадными и торопливыми библиотекарями, самодельные рукописи завзятых читателей, школьные прописи, по которым, как и сейчас, ученики зубрили правила на примерах из великих произведений… Да, оттуда мы их и знаем, тех, с кого все начиналось: из прописей. Сегодня, чтобы восстановить всего Пушкина, нужно спросить у меня, что я помню наизусть (две первых главы «Онегина», с десяток стихов и первая строчка «Пиковой дамы», и это нам еще со мной повезло, а на индийца с австралийцем – никакой ведь надежды). Возможно, где-то по чердакам отыщутся старые школьные тетрадки с упражнениями: «Вставьте пропущенные буквы». Это страшно. Но так было со всей Античностью. Мы знаем ее именно так – вот в таких убогих отрывках.
И все-таки среди всего этого сохранился Гомер. Я не запишу для тебя, пришелец, ни строчки по-гречески. Да и по-русски я помню только одну: «Гнев, о Богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Но поверь мне на слово – это было великолепно.
Гомера запомнили и донесли до потомков потому, что он умел сказать словом то, что остальные – просто видели. Вот Андромаха прощается с Гектором. У нее на руках маленький сын. Эти троянцы, знаете, они так трогательно воевали: Гектор с поля боя сбегал домой поесть, а когда бежал обратно на войну, случайно встретил жену с сыном – те гуляли. Младенцам и в древней Трое положено было гулять перед сном. И вот они стоят у ворот, за которыми война. Описать это можно по-разному. Можно удариться в пафос и проклинать врагов, ибо это последняя встреча влюбленных – через страницу Гектор падет в схватке. Можно опустить подробности и сосредоточиться на речах, заставляя героев говорить прокламациями и лозунгами. А можно – как Гомер: вот Гектор склоняется над сыном – тяжелый шлем нависает над малышом, перья щекочут его, младенец пугается и начинает плакать, тогда отец снимает эту тяжеленную штуку и целует сына. Тот успокаивается. Андромаха прижимает мальчишку к себе. Гектор кладет руку ей на плечо. Они улыбаются друг другу, говорят какие-то бытовые, ничего не значащие в историческом плане слова: «Ты поел?» – «Да, милая, салат удался!» – «Скоро будешь?» – «Да, только отбросим греков к береговой линии – и сразу назад». – «Хлеба по дороге захвати». В глазах Андромахи – любовь, надежда и волнение. Вдруг появляются слезы. «Да что ты, дорогая, не плачь, я скоро». Со скрипом открываются ворота – и Гектор уходит в гомерову Вечность.
Книги Гомера читались как дневники. Причем свои собственные. Казалось, это ты видел и слышал все то, о чем написано на странице. И хитроумный Одиссей, и верная Пенелопа, и пьяные женихи, и тупоумный Циклоп – я чувствую запах пота Одиссеевых товарищей, смрадное дыхание Сциллы и сухой шелест железных перьев стимфалийских птиц. Сегодня не каждый писатель пишет так, как Гомер. А ведь это девятый век до нашей эры. Никаких филфаков и литинститутов.
Это Гомер первым решил, что человек будет мерой всего. То есть решил, кажется, кто-то другой, но Гомер с этого начал литературу. Поэтому мы всегда знаем, как выглядели, как пахли, как смеялись и как плакали его герои. Так пойдет и дальше во всей послегомеровской литературе. Она вся будет о человеке.
Но это в Европе.
Потому что на Востоке первым был вовсе не Гомер.
* * *
Кстати, о Гомере. Вы никогда не пробовали его читать в минуту жизни трудную? А зря. Очень помогает. Этот медлительный дактиль, этот бесконечный список кораблей… Танька пользовалась Гомером как успокаивающим – никогда не могла запомнить сюжет, но улавливала ход Гомеровой мысли. Поговорить об этом ей, к сожалению, было совсем не с кем: Антоха изобрел бы какую-нибудь изящную шутку, Сырник обязательно ругнулся, а Боярышева просто фыркнула бы. Что же касается Волкова, то рядом с ним мысль о Гомере вряд ли возникла бы.
Два дня Вегас лечилась Гомером, пробиралась в школу тайными тропками, не выходила из класса и не бегала в буфет, лишь бы минимизировать риск встречи с Волчком. Он несколько раз заходил к ним в класс на перемене, переговаривался с парнями, пристально смотрел на Вегас, а Вегас буравила глазами что-нибудь подходящее на парте. Она купила себе вчера пять пар новых, безупречно одинаковых носков, она никогда больше не будет носить колготки под джинсы, она всегда – и сегодня тоже – станет носить белье только комплектами, а не черные трусики с белым бюстгальтером, а то и похуже, она теперь идеальна под одеждой и готова на все, но, дорогие мои, разве можно войти в одну и ту же реку дважды? Волчок ее не простит, это точно. Ничего такого больше не будет. К черту носки, пусть ими подавится стиральная машина.
Она снова и снова вспоминала эту кухню, протерла до дыр в воспоминаниях каждую миллисекунду этого вечера. Вот это вот чувство падения в пропасть, оборвавшееся сердце, и бездна под ногами, и только руки Волчка, и только этот бесконечный поцелуй, в котором растворяешься, как хорошо размешанный сахар растворяется в горячей воде крепкого чая… Теперь, когда Танька с утра хватала наспех только-только заваренный чай, по телу бежала та же волна, которая качала ее тогда на кухне. Вот так и чаю теперь не попьешь, с ума сойдешь, и когда же это кончится, огорченно думала она и открывала на телефоне волчковскую страницу в соцсети. Все личные фотографии и все надписи на его стене были выучены наизусть еще до хеллоуина, но теперь все имело совсем другой смысл: вот этими руками он ее обнимал, вот этими губами целовал.
Почему он это сделал, Вегас не знала. Подумать о том, что она, Танька Вегас, нравилась ему, Степану Волкову, – это было невозможно. Проще представить, что на концерте «Сплина» Васильев со сцены заметит наконец в первом ряду фанзоны свое альтер эго, протянет ей руку, вытянет на сцену, посадит на колонку – а после концерта увезет с собой, и будут жить они долго и счастливо.
А на третий день Волков зашел к ним в класс, у всех на глазах подошел к Таньке, сел рядом с ней за парту и сказал, глядя прямо в глаза:
– Тань, моей мамке на работе два билета на «Сплин» дали. В декабре, в «Арену». Пойдем?
Мамка Волкова работала в «Беларусбанке». У него всегда были билеты на любые концерты.
Вегас нашла в себе силы посмотреть на Волкова – первый раз после хеллоуина – и сказать вроде как банальным, обыденным тоном веселой обыкновенной девочки:
– Конечно.
– Здорово. Я боялся, что ты откажешься. Двадцать второго в восемь. Но я тебе еще напомню. Не уходи сегодня после физики. Подожди меня.
И вышел.
Когда реальность так рифмовала детали Танькиных мечтаний, не верить в благорасположение мироздания не было никакой возможности, согласитесь.
* * *
Каждый раз это было одинаково – и каждый раз волшебно. Тихий щелчок в замке – значит, служанка отперла дверь, – и Абигайль уже на лестнице. Сегодня она бежит не вверх, на площадку, а вниз: двенадцать крутых ступеней, площадка, еще двенадцать, еще площадка, повороты винтовой лестницы головокружительны, так и хочется держаться за стены, но они покрыты зеленым мхом, поэтому нужно просто быстро-быстро бежать вниз и не слишком подаваться корпусом вперед.
Вот и дубовая дверь – она теплая, как будто живая, и она тоже радуется. Несколько раз Абигайль тайком спускалась к ней, вместо того чтобы подниматься на площадку, но дверь была ледяной, хмурой и недовольной, стоять рядом с ней было страшно, а чтобы открыть – нечего и мечтать. Но в дни, когда Абигайль ездила в лавку, все менялось: одно только прикосновение руки, и дубовая тяжесть распахивалась, и в лицо Абигайль ударял свежий весенний ветер.
От порога до наглухо закрытой кареты ровно двадцать два шага по каменным плитам, вокруг которых пушистится зеленая травка. Абигайль идет быстро, потому что вообще-то ей хочется даже подпрыгивать, хотя, конечно, стоило бы идти помедленнее – и по травке. Когда еще по травке походишь?
Дорогу в карете Абигайль тоже любит, хоть окна и затянуты густой черной сеткой. Абигайль за этой сеткой не видит никто, но ей видны и изумрудные поля, и полупрозрачные леса, и зубчатые городские стены, и дома, и площади. Карета мчится быстрее ветра, но по дорогам все равно стоят зеваки: все знают, что в этот день королевские дочери едут в лавку к Мауриньо.
Абигайль приникает к стеклу. Эти поля и леса она каждый день видит с площадки башни, но с высоты все это кажется открыточно красивым, а вблизи – рваным и пестрым, и ей еще ни разу не удавалось узнать через окно кареты те места, которые выучены наизусть во время прогулок.
Она жадно вглядывается в платья и шляпки девушек, замерших на обочинах в надежде рассмотреть принцессу. Юбки пышнее прошлогодних, каблучки – тоньше и выше, а вот прически – проще, развитые локоны, легкие заколки, понятные линии. Абигайль даже расстроилась: ее тщательно продуманная и сотворенная прическа была явно старомодной.
Но – ах! Сердце Абигайль почти останавливается. Сейчас будет тот самый перекресток, о котором знает только Абигайль – и еще один человек. Впервые это случилось три года назад – и в прошлом году повторилось в тех же подробностях. Абигайль напряженно вглядывается в сетчатое окно. Вот они, два белых каменных дома, кружевная деревянная часовня, длинное желтое приземистое здание складов, особняк с розовой башенкой… Да! Так и есть! Слышится шум, стук копыт по мостовой, перед каретой тащат какую-то тяжесть, на улице затор, кучер ругается, лошади, остановленные среди горячей скачки, нетерпеливо перебирают ногами… Абигайль расправляет складки сетки. На углу улиц стоит высокий черноволосый человек в наглухо застегнутом пальто. Руки скрещены на груди, бледное лицо сосредоточено, глаза горят напряжением и кажутся угольно-черными. Он смот-рит прямо на Абигайль, словно видит ее сквозь сетку. Сегодня он выглядит бледнее и стройнее, чем в прошлый раз. Пальто ему явно великовато. Он взволнованно дышит. Огромный перстень с рубиновым камнем, кажется, вот-вот соскользнет с тонкого пальца. Он делает знак рукой – то ли машет вслед карете, то ли шлет тайный поцелуй, то ли крестит Абигайль, но улица уже свободна, карета дергается, и Абигайль, не удержавшись, падает в темноту бархата. Он пришел. Он не забыл. Он все это устроил. Кто он такой?
Но Абигайль не останавливается – у нее будет целый год, чтобы перебрать всю дорогу по секундам, по миллисекундам, по картинкам, по запахам и звукам. Она прячет встречу с незнакомцем в укромный уголок сердца – и снова всматривается в окно. Рыночная площадь, карусель, узкая улица, рябь канала, фонарь, аптека… Все. Приехали. Лавка.
Карета становится вплотную ко входу. Хозяин, уже немного усталый, но ласковый и радушный, встречает еще одну венценосную покупательницу. У Мауриньо сегодня тоже особенный день, и старик преисполнен важности.
Не зря Абигайль подозревает его в колдовстве. В этой лавке – две комнаты в полуподвале старого каменного дома – можно отыскать что угодно. Узорчатые сундуки, полные драгоценных камней и разноцветного стекла, рулоны тканей, тесьму и витые золотые и серебряные шнуры, ажурные кованые подсвечники немыслимых сюжетов, кружева, шелковые ленты, искусственные цветы, такие нежные и такие настоящие – на листочках дрожат капельки бриллиантовой росы… Абигайль уже знала: она все равно не успеет обойти всё, хотя комнаты – на три-четыре шага.
– Мауриньо, мне нужен павлин…
Она точно знала, что старик ее поймет.
И он понял.
* * *
Танька лежала на кровати лицом к стене и с наслаждением рыдала. Дома никого не было, и можно было позволить себе и завывания, и стенания, и всхлипы, и долгие каскады «а-ха-ха-ха», как странно, и смеемся, и рыдаем мы на одних и тех же звуках, о чем это я думаю, я же несчастна, а в голову все равно фонетика с грамматикой лезут, жизнь кончена, меня никто никогда не полюбит, достаточно посмотреться в зеркало…
Если честно, я тоже не знаю, о чем думают мальчики, когда разговаривают с девочками на равных. Скорее всего, Волков решил, что Вегас не девочка, а супергерой и с ней можно начистоту, без всех этих няшностей, которые срабатывают с Боярышевой, и без всякого треша, на который гипнотически реагирует Пустовалова. Иначе трудно объяснить, почему все эти три часа, которые Волков и Вегас кружили по Юго-Западу, они разговаривали именно об этом.
О том, что в одной девчонке никогда не найдешь всего сразу. В одной хороша фигура, в другой – взгляд, третья – любит те же самые фильмы, четвертая – слушает ту же музыку. При этом первая смотрит «Физрука» и даже «Дом-2», вторая не знает, кто такой Камбербэтч, третья не понимает шуток, а четвертая – очень некрасивая. Вегас шла и обмирала: а она на каком месте? Умная и некрасивая? Тупая, но прикольная? Или просто экзотический экземпляр в костюме кошки?
А еще, продолжал Волков, каждая по-своему интересна. Это неправда, Таня, что все девчонки одинаковы. Все очень разные. Да, у каждой рот, зубы, язык, но как по-разному все целуются.
И тут Волков посмотрел на Вегас в упор, и она немедленно провалилась под землю. Тело ее что-то там делало на поверхности, кажется, семенило рядом с Волковым по узким тропинкам между Рафиева и Любимова, а душа падала в нору следом за белым кроликом в черном смокинге. При этом ей, этой несчастной душе, было одновременно и прекрасно и ужасно, потому что она слишком хорошо понимала, о чем говорит Волков – во всех смыслах.
И так было все эти три часа. То вниз, то вверх. Вегас чувствовала себя то последней тряпкой, которой будут протирать предметные стеклышки в какой-то не слишком научной лаборатории, то принцессой, которой несказанно повезло с принцем, то дурой, которую водят за нос, то умницей, которой наконец-то выдали положенную премию. А потом Малиновка закончилась, они оказались у Танькиного подъезда, Волков аккуратно поцеловал ее в щеку – и пошел. Скорее всего, изучать Боярышеву. Потому что – Танька вдруг это вспомнила – та загадочно улыбалась всю физику и отказалась идти вечером на волейбол.
Думаю, любая девчонка на месте Вегас сейчас тоже рыдала бы.
Но все слезы когда-нибудь заканчиваются. Танька встала и повлачилась на кухню. Пачка пельменей и пакет майонеза – вот что было нужно сейчас ее израненной душе и исстрадавшемуся телу. Вода кипела и бесновалась в маленькой кастрюльке, и никак нельзя было по-другому – только пытка кипятком делает из мороженого теста и мороженого мяса полноценную еду. Вегас ела эту вредную магазинную вкуснятину всем назло, вонзая вилку в пельмени и глядя в окно с усталой ненавистью. К концу пачки ненависти стало очевидно поменьше. Хороший ужин после шести снимает любую душевную боль.
Она действительно не знала, что ей теперь делать. Отказаться от Волкова? Ни за что. Пусть у него будет хоть тридцать девчонок в обороте. В конце концов, останется же из них только одна? Двадцать три откажутся быть всего лишь «одной из», пять – обломаются о стойкий волковский характер, а там до финишной ленточки добегут только две: красивая – и умная, и Вегас обязательно победит. Думать о том, насколько унизительно такое соревнование, ожидание и победа, Вегас не будет. Потому что если думать, то надо иметь достоинство и выходить из этой унизительной игры. А если не думать, то можно и поучаствовать.
Мать пришла, как обычно, затемно с какими-то коробками в огромном пакете.
– Тань, я тут сапожки на распродаже купила, давай меряй, если что, завтра обратно отвезу!
Танькина мать тоже не слишком-то дружила с вещами, и Танька грустно усмехнулась про себя (Танькина мама называла такую ухмылку «ухмылкой в усы», но вот только усов Таньке и не хватало): не надо быть Вангой, чтобы угадать, что купила она что-то совершенно невозможное. Какие-нибудь псевдоугги или типа ботфорты, и обязательно с золотой пряжкой, и конечно, с висюльками сзади. Кандидат наук, а сапоги выбрать не может.
– Да что мерять, мам, что купила, то буду носить. Какой смысл мерять? Все равно ж тебе лучше знать, что сейчас носят.
Это Вегас так подумала. Но не сказала. Она вдруг почувствовала, что ужасно устала от всего и бодаться с матерью по поводу каких-то сапог выше ее сил.
– О, мам, отличные сапоги. Я уже вижу, что они мне подходят. Я потом померяю, ок?
– Какая-то ты сама не своя сегодня, Татьяна. Что-то случилось?
– Устала, мам. Шесть уроков, и все контрольные, – это объяснение должно было сбить мать со следа. Так и вышло.
– Вообще беспредел. Шесть контрольных. Это же по каким таким нормам?! Куда смотрит завуч? – разнеслось по квартире. Мать заходила в ванную, спальню, возвращалась в коридор, раскладывала вещи, переодевалась и за это время разбивала в пух и прах имеющуюся систему образования и отстраивала новую. – Вот тогда бы у нас и дети были веселыми, и жизнь – счастливой. Все, Татьяна, давай чай пить, ужинать поздновато, а для чая с тортиком самое время.
– Откуда тортик?
– На кафедре у лаборантки день рождения отмечали, дамы на диетах, а я – нет, мне и сгрузили. Правда, я его слегка помяла на обувной распродаже, но это же нам не помешает?
Танька даже порадовалась, что не завелась с сапогами. Сидеть с мамой на кухне и наворачивать шоколадный тортик было приятно.
– Мам! Я сегодня в книжке прочитала, что в одной женщине не может быть заключено счастье мужчины. Что ему нужно несколько – одна умная, вторая красивая, третья шутки понимает… И вообще, мол, каждая целуется по-разному и одинаковых не бывает…
– Что за ерунду ты читаешь?
– А этого… ну как его…
– Кундеру, что ли? «Невыносимую легкость бытия»? Ну так ты эту книжку вульгарно как-то понимаешь.
– Да нет, не Кундеру. Роман какой-то, из бабушкиных.
– Какая-то подростковая банальщина, прости за резкость. Не похоже на бабушкину книжку. Так мужчины прикрывают свою безответственность и душевную лень. Не хотят тратиться на настоящее чувство, вот и придумывают романтические объяснения собственной несостоятельности. Когда по-настоящему любят, такой ерунды не говорят.
Вегас поняла, что чаепитие закончилось.
– Ладно, мам, я пойду. Уроки еще делать.
– Какие уроки? Это после шести контрольных? Ну знаешь, десять лет они с вами лынды били, а теперь перед тестами совсем с ума сошли, в таком режиме учиться – это ж вредительство сплошное…
И система образования была вторично за сегодняшний вечер смешана с землей и отстроена из руин самым лучшим строителем систем образований в этой необразованной стране.
* * *
Теперь лестница казалась непреодолимой. Абигайль и не ожидала, что так устанет. Она с трудом поднималась по крутым ступенькам, и на поворотах у нее даже кружилась голова, рука скользила по зеленым холодным стенам. Дверь в комнату натужно заскрипела. Абигайль бросилась ничком на кровать. Столько впечатлений. Хватило бы года разобраться. За дверью шаркали тяжелые сапоги – это кучер тащил на площадку неподъемный сундук с витражными стеклами и коваными рамками. Она разберет их завтра, на солнце. Затра же Мауриньо отправит в замок платья и шляпки, туфельки и бусы, которые торопливо выбирала Абигайль в последние минуты визита.
Дверь еще раз скрипнула. Что-то легкое упало на порог. Это Эммелина! – догадалась Абигайль. Сестра подкараулила у своей двери кучера, упросила его помочь и подсунула под дверь записку. Наверное, этот толстый добряк пыхтел и кряхтел, поднимая с пола крамолу, но вредничать не стал – согласился. Кучер, как и молочница и прачка – все они иногда мелькали в жизни принцесс не только шагами за дверью или стопками свежего белья по утрам, но и вполне реально, – относились к принцессам тепло и по-доброму. Всем им, простым людям из соседней деревни, которую зимой, после листопада, можно было даже рассмотреть вдалеке за деревьями, было до слез жалко девчонок. Правда, однажды Абигайль слышала, как на лестнице плакала прачка, а молочница ее утешала и говорила ласковым голосом: «Ну не держать же ее под замком, как этих девчонок», а прачка отвечала: «Уж лучше под замком, чем теперь стыда на мою голову»… Да и кучер как-то раз обронил: «Эх, жаль, у меня таких башен нету – всех бы запер». Так что дверь в комнату Абигайль он сразу же закрыл, а ведь мог бы по доброте душевной и забыть.
Интересно, что стала бы делать Абигайль, если бы дверь оказалась не заперта? Побежала бы на улицу? Искала бы дорогу в город? Бросилась бы к северной башне? Потребовала бы у охранников отвести ее к отцу? Абигайль было настолько страшно представлять это, что кучер, пожалуй, мог бы и не трудиться над замком. По крайней мере, пока.
«Ну как приобретения, сестричка? Я тоже пока не уносила свои стекла в комнату – посмотри завтра на прогулке. Оставь мне и твои – интересно, каким будет твой павлин. Мне понравилось, как выглядели девушки в городе: ты заметила их прически? Это непростая простота. Думаю, так легко разбросать по плечам разви́тые локоны – большой труд. Думаю научиться этому до следующей поездки. Город показался мне скучным и обыкновенным. Конечно, нам из своих башен он кажется удивительным – но как, должно быть, грустно жить в нем и видеть ежедневно эти неинтересные каменные стены».
Значит, Эмми не видела незнакомца в черном пальто. Значит, он ждет только ее, только Абигайль. Сердце застучало быстрее, стало не хватать воздуха. Тихо, тихо, подумала Абигайль. Еще ничего неизвестно. Все нужно обдумать в тишине и спокойствии.
Однажды в книжке Абигайль попался отрывок про леди из Шалота – какой-то, видимо, знаменитый в каком-то мире поэт, Теннисон, переложил старинную легенду о заточенной в башне волшебнице, заколдованной более сильной, чем она, колдуньей. Сюжет там не пересказывался, и Абигайль додумала его сама: колдовство запрещало волшебнице из Шалота смотреть в лица людей, да ей, в общем-то, другие люди были неинтересны, но однажды из окна она заметила прекрасного рыцаря в черном плаще и вдруг поняла, что увидеть его лицо – самое важное, что ей хотелось бы сделать в своей никчемной заколдованной жизни, и она выбежала из башни, села в лодку и поплыла туда, куда поехал рыцарь, и умерла по дороге, потому что подействовало заклятие, а рыцарь склонился над ней и грустно сказал: «До чего же прекрасна ты, леди Шалот»…
* * *
Что мы, европейцы, знаем о Востоке? Тебе, дорогой пришелец, наверное, не слишком понятно, как можно жить на одной планете, иметь под рукой огромные библиотеки – и не знать друг о друге вообще ничего. Но да, таково свойство человека – иметь свое мнение и остальные мнения почитать за неправильные. Поэтому мне кажется, что литература Востока, конечно, менее прогрессивна и перспективна, чем западная, так что не знаю насчет австралийца, а вот индийца тебе нужно будет обязательно почитать. Он, скорее всего, ничего не расскажет о Гомере, зато точно назовет тебе всех героев «Рамаяны».
Я о Востоке знаю кое-что, но этого, конечно, мало. Имена – имена совсем забыла. Да и кто их запоминал в последнее время, эти имена. Чуть что – в гугл. Но ощущения я помню.
Восток начинался с созерцания. Неподвижность бытия. Умение вглядеться в воду. Если греческий Гераклит считал, что в одну и ту же реку дважды войти невозможно, Конфуций знал точно, что это – запросто. И еще про реку. Именно там, на Востоке, говорили: если долго-долго сидеть на берегу и вглядываться в течение, рано или поздно мимо проплывет труп твоего врага. Там, где нетерпеливый Запад вскакивал и начинал размахивать палками, Восток просто ждал. По крайней мере, мне так кажется.
Если честно, я не очень понимаю, как из этой созерцательной культуры выросли боевые искусства. Видимо, если долго-долго вглядываться, а враг все не плывет, нужно встать и срочно найти его. Любая активность, даже созерцательная, ищет выхода, и если копилась она в сосуде качественном, крепком, то и выйдет – мощно и с разрушениями. Но что вообще могу я, западный человек, объяснить в восточной культуре?
Поэтому объясняться не буду, просто расскажу.
Например, про ли Бо.
Китайцы, мне кажется, народ поэтически щед-рый: тому, кому удается достучаться до их сердца и разволновать их душу, они, не скупясь, еще при жизни даруют бессмертие.
А еще я думаю, что китайцы – народ придирчивый: не каждому, далеко не каждому удается всколыхнуть их суровую, привыкшую к лишениям и без того поэтичную душу. Поэтому уж если заслужил какой поэт в Китае бессмертие – значит, он действительно Поэт.
Удивительно, до чего же напоминает этот человек будущих Вийона, Рембо, Есенина – душа компании, заводила и забияка, горький пьяница, слагающий удивительные стихи, которые хочется тут же, не отходя от щедрого стола, петь громким, захлебывающимся от переполняющих эмоций голосом.
Ли Бо был именно таким – не признающим никаких рамок и правил, живущим в полную силу, эпатажным и нежным, разгульным и серьезным. Легенды гласят, что император, восхищенный стихами этого праздного гуляки, собственноручно варил ему рыбный суп, дабы вылечить от похмелья, и даже промакивал собственным платком поэтические губы.
Ли Бо в благодарность громогласно воспевал прелести и красоты возлюбленной своего повелителя, красавицы Янь Гай Фэй. И это тоже прощалось ему, как прощалось и отвратительное поведение в семье – жена ли Бо покорно сносила нищету и тяготы воспитания сыновей (все в папочку!), он же без устали бродил по Китаю, пируя, витийствуя, жадно хватая впечатления и тут же переплавляя их в удивительные стихи.
И дурацкое общество «Шестеро беспечных из бамбуковой долины», которое организовал ли Бо (нет бы что-то толковое организовать!), тоже простилось: поэт со товарищи обосновался в Шацю и вел там самый что ни на есть неблагородный образ жизни – вино, красотки, безделье и стихи, как будто вовсе не для него составлял бессмертный Конфуций свои бесспорные правила.
Однажды ли Бо попытались приручить: император Сюань-цзун (тот самый, с рыбным супом) предложил поэту жить и творить во дворце. ли Бо невероятно вдохновился: ему казалось, что теперь он сможет принести пользу своей стране, научив ее свободе, радости и удовольствию.
Оказалось, император против: для чего ему целая страна, населенная праздношатающимися последователями гуляки ли Бо? Народ должен молчаливо работать, поэт – забавлять, император – так и быть, промакивать своему придворному соловью сладкоголосый рот.
Спустя два года такой приторной жизни ли Бо из дворца сбежал. И снова – бесконечное и захватывающее путешествие по бескрайнему Китаю: то он появляется при дворе еще какого-то императора, то – познает мудрость мира у духовных наставников, то – пирует с поэтами, то – спасает от смерти солдата, вырвав его жизнь из лап жестокого, но чувствительного к поэзии врага…
Стихи ли Бо, а появлялись они у него легко, непринужденно, стремительно, будто вылетали экзотическими бабочками из шальной души:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?