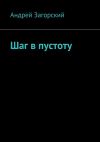Текст книги "Приключения бодхисаттвы"

Автор книги: АНОНИМYС
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава третья. Новый китайский друг
Чем дольше осматривал доктор Чан Загорского, тем более озабоченным становился. Напоследок он выслушал ему пульс в нескольких местах и лицо его помрачнело окончательно.
– Можно что-нибудь сделать? – не выдержал Ганцзалин.
Доктор Чан был из Гуанчжоу, пекинского, а тем более сианьского диалектов не знал, так что два китайца говорили между собой по-русски. При этом у Ганцзалина неожиданно прорезался отчетливый китайский акцент.
– Можно, – после некоторой паузы отвечал доктор, – но болезнь тяжелая. Нужны золотые иглы.
– Хорошо, – сказал Ганцзалин.
– Болезнь необычная и тяжелая, – задумчиво продолжал лекарь. – Нужно будет много игл.
– Хорошо, – повторил Ганцзалин.
– Это будет дорого, – сказал доктор Чан.
– Ничего, можно, – сказал Ганцзалин.
Однако сумма, которую назвал китайский эскулап, неприятно поразила клиента. Конечно, по старым временам такие деньги для Нестора Васильевича ничего не значили. Но сейчас были не старые времена. Загорский три года лежал в глубокой коме, все наличные были потрачены на многочисленных врачей, а к банковскому счету хозяина, как легко догадаться, Ганцзалин доступа не имел.
При этом лечение должно было начаться уже завтра, а, значит, деньги нужны были тоже завтра. Где взять такую сумму в такие короткие сроки, Ганцзалин положительно не знал. В глубочайшей задумчивости вывез он хозяина на улицу, где увидел Покидышева, который стоя на тротуаре, говорил с директором Северного банка. Заметив Ганцзалина, Покидышев распрощался с собеседником и направился к китайцу. Тот с некоторым недоумением воззрился на Ливерия Николаевича.
– Что? – спросил Ганцзалин, но тут же и вспомнил: – Ах да, сын!
Теперь, разумеется, ему было не до купеческих детей, потому что ему хватало своих забот. Но просто бросить человека, который ждал и надеялся, который, в конце концов, непонятно почему ему поверил, Ганцзалин не мог. Точнее говоря, так вполне мог бы поступить старый Ганцзалин. Но теперь, проведя в скитаниях с полумертвым хозяином три года, познакомившись поближе и с человеческой подлостью, и с человеческим великодушием, китаец изменился. Раньше он мог быть злым, жестоким, эгоистичным и вообще каким угодно, потому что рядом был Нестор Васильевич, который смягчал и гармонизировал любое дело. Теперь же все обстояло совсем иначе. Теперь, кажется, Ганцзалин должен был выступать вместо Загорского – во всяком случае, пока тот не придет в себя.
– Что сказал врач? – полюбопытствовал Покидышев. – Можно ли что-то сделать для вашего господина?
– Можно, – сказал Ганцзалин, не входя в детали, – все можно.
И они отправились в дом Ливерия Николаевича. Сказать, что Анна Яковлевна была фраппирована, когда в дом вошел незнакомый китаец, везущий в коляске полумертвого своего хозяина, значит не сказать ничего. Однако она и бровью не повела и только улыбалась радушно, когда Покидышев-старший представил ей своего нового китайского друга и его хозяина, действительного статского советника Загорского.
– Добро пожаловать, – сказала она, – очень рады знакомству, господин…
– Для вас – просто Газолин, – отвечал китаец, галантно целуя ей ручку.
Все же долгая жизнь с его превосходительством не прошла для него даром, и он усвоил некоторые светские манеры.
– Что от меня требуется? – тихонько спросил Покидышев-старший, когда формальности знакомства были исполнены.
– Ничего особенного, – так же тихо отвечал Ганцзалин. – Просто ведите себя, как обычно. Что вы собирались делать дальше?
Ливерий Николаевич отвечал, что обычно в это время они обедают. Ганцзалин, с трудом удерживая урчание в животе, объявил это прекрасной идеей, которую нужно немедленно воплотить в жизнь.
Спустя пять минут все собрались в столовой. Все, кроме Евгения – он запаздывал. Было видно, что домочадцы немного нервничают и плохо понимают, как же вести себя в такой обстановке. Все чувствовали себя не в своей тарелке, только дочка Мария украдкой поглядывала на Нестора Васильевича, черты которого под электрическим освещением обрели совершенно мраморный оттенок.
– Как это ужасно, – наконец вздохнула она. – Такой молодой еще, красивый – и совершенно не помнит себя. Сколько ему лет?
– Пятьдесят, – отвечал Ганцзалин, который помнил, что в России, в отличие от Китая, ценится не старость, а молодость.
– Ах, он выглядит моложе, – живо сказала Анна Яковлевна, – ему не дашь больше сорока пяти. Но, может быть, вашему господину нужно отдохнуть? Его можно отвезти в какую-нибудь покойную комнату…
– Нет, – отвечал Ганцзалин решительно, – он будет обедать с нами.
Услышав такое, все, кроме Покидышева-старшего, переменились в лице. Ганцзалин же сидел с совершенно непроницаемой физиономией. В этот миг в столовую вошел Евгений и замер на пороге.
– Прошу прощения, – сказал он, опешив. – Я, кажется, запоздал…
Отец представил ему Ганцзалина и Загорского. Евгений несколько нервозно раскланялся с китайцем и сел на свое место. Воцарилась неловкая тишина. Покидышев-старший откашлялся и обратился к гостю.
– А в чем же причина столь тягостного состояния его превосходительства?
– Война, – кратко отвечал тот. – Артиллерийский обстрел. Очень маленький осколок попал в голову и застрял в головном мозге.
– Как это ужасно, – сказала Анна Яковлевна, было видно, что она потрясена. – Неужели ничем нельзя помочь?
– Нет, – сурово отвечал Ганцзалин. – Медицина тут бессильна.
Покидышев-старший бросил на него быстрый взгляд, но ничего не сказал. Некоторое время все печально молчали. Наконец Евгений заерзал и спросил:
– Но он что-то слышит?
– Врачи считают, что он все слышит, чувствует и понимает, но выразить ничего не может, – важно отвечал Ганцзалин.
– Вероятно, это очень тяжело, – покачал головой старший сын Владимир.
– Врачи считают, что больной испытывает тяжелейшие нравственные и физические мучения, – как по-заученному отбарабанил Ганцзалин. – И помочь, повторяю, ничем нельзя.
Тут наконец принесли первые блюда. Ганцзалин, воспользовавшись моментом, попросил для Нестора Васильевича приготовить протертое овощное пюре.
– Он может есть? – спросил Евгений.
– Глотать может, – отвечал китаец. – Если бы не мог, давно бы умер.
Некоторое время все в полном молчании ели суп со спаржей и пулярками. Опустошив свою тарелку, Ганцзалин взялся за кормление хозяина. Он вытащил бутылочку, похожую на ту, из которой кормят младенцев, только побольше, заправил ее овощным пюре и решительно засунул в рот Нестору Васильевичу. Кадык на шее Загорского отрывисто дернулся, пюре из полуоткрытого рта протекло на подбородок, оттуда – на шею, перепачкав воротничок.
– Это ничего, – молвил Ганцзалин, заботливо утирая хозяину рот, – это всегда так бывает. Мой хозяин – герой войны, я горжусь, что могу быть ему полезен. Немножко трудно за ним ухаживать, но у него кроме меня никого нет из близких.
– Но ведь если он ест, у него должны быть и какие-то другие… физиологические отправления, – нерешительно заметил Евгений.
Ганцзалин посмотрел на него долгим взглядом – таким долгим, что молодой человек даже смутился.
– Я же говорю: трудно ухаживать, – сказал он наконец. – Война нас не пощадила. Много подгузников, много стирки, все время переворачивать, чтобы не было пролежней. Это тяжелая работа, ужасная работа. Конечно, если бы была мать или жена, или другие родственники, это бы все легло на них. И мне было бы легче. Но хозяин спас мне жизнь, а я буду спасать его. Как бы там ни было, ему сейчас труднее, чем мне.
– И сколько же он будет находиться в таком состоянии? – спросил притихший Евгений.
Ганцзалин нахмурился и пару секунд сверлил взглядом молодого человека, потом все-таки соизволил ответить:
– Пока не умрет.
Обед, определенно, был сорван, домочадцы, подавленные, без всякого интереса тыкали в еду ножами и вилками.
– Но это не самое страшное, – сказал Ганцзалин. – Есть вещи пострашнее.
– Какие же? – обмирая, спросила Мария.
Ганцзалин повернулся к хозяину и случайно задел его кресло локтем. От толчка кресло покачнулось и повалилось вместе с сидящим в нем Загорским. Все ахнули и замерли от ужаса. Один только Ганцзалин не растерялся и успел железными пальцами ухватить кресло почти у пола. Владимир, сидевший ближе всех, помог ему восстановить статус-кво.
Ганцзалин глядел на Марию.
– Вы спрашивали, что страшнее, – проговорил он медленно. – Вот это страшнее всего. Если он упадет, кости будут переломаны, а внутренние органы тяжело травмированы. И вот тогда ухаживать за ним станет не в пример труднее. Он будет мучиться, а мы даже не поймем, что с ним происходит.
Евгений, слушавший это, сидел бледный, с остановившимся взглядом. Покидышев-старший исподтишка посматривал на сына. Ганцзалин же восседал на своем стуле гордо, как какое-то неведомое китайское божество…
Наконец обед, вероятно, самый тяжелый в истории семьи Покидышевых, подошел к концу. Ливерий Николаевич взялся сам проводить Ганцзалина и его хозяина. Некоторое время они шли по улице молча, китаец катил кресло и глядел прямо перед собой.
– Это правда, что спасти Нестора Васильевича невозможно? – наконец спросил Покидышев-старший.
– Возможно, – отвечал Ганцзалин, – я просто хотел напугать вашего сына.
Ливерий Николаевич усмехнулся: что-что, а напугать Евгения ему удалось. Теперь ни о какой армии и речи быть не может, и огромное за это спасибо Ганцзалину. Если бы сын его погиб на фронте, он не знает, как можно было бы пережить подобное горе. Ганцзалин, однако, слушал Покидышева рассеянно и кивал невпопад. Тот заметил его состояние.
– Вас что-то тревожит? – спросил он.
Ганцзалин только головой покачал: нет, все в порядке.
– А где вы остановились? – спросил Ливерий Николаевич.
Китаец отвечал, что пока нигде, но, вероятно, поблизости есть какой-нибудь постоялый двор или дешевая гостиница.
– Да зачем же вам гостиница, если у моей жены есть доходный дом тут неподалеку! – воскликнул Покидышев. – Вам там будет очень удобно, и денег, разумеется, с вас мы никаких не возьмем.
При этих словах Ганцзалин немного просветлел лицом и с благодарностью кивнул. Ливерий Николаевич был опытный человек и быстро понял причину озабоченности китайца. Крайне деликатно он попытался выяснить, сколько запросил доктор Чан за лечение. Не сразу, но Ганцзалин все-таки признался, что за курс придется выложить тысячу рублей. Но трудность даже не в этом, трудность в том, что деньги эти нужно найти до завтрашнего дня. А здесь, в чужом городе, среди незнакомых людей найти так скоро такую изрядную сумму совершенно немыслимо.
Услышав это, Покидышев-старший облегченно засмеялся.
– Любезный Ганцзалин, – сказал он торжественно, – знайте, что этот город для вас не чужой. И здесь у вас есть друзья, которые в любой момент протянут вам руку помощи.
Сказавши такие слова, Ливерий Николаевич немедленно предложил китайцу тысячу рублей. Тот было уперся, говоря, что не может просто так взять такую большую сумму, но Покидышев сказал, что дает эти деньги в долг, заимообразно, а вернуть их можно, когда Загорский придет в себя и получит доступ к своему банковскому счету. Ведь в том, чтобы взять в долг, тем более у друзей, нет ничего предосудительного, не так ли?
И тут Ливерий Николаевич впервые за весь день увидел, что печальный и хмурый китаец способен улыбаться, причем совершенно безудержно, во все зубы.
– Благодарю, – сказал Ганцзалин, пожимая руку купца обеими своими, – огромное вам спасибо, дорогой Ливерий Николаевич…
На это Покидышев отвечал, что это он должен благодарить Ганцзалина за то, что он спас его сына и деньги – это самое малое из того, чем может он ответить на такое спасение, сердечная же его благодарность не имеет никаких границ.
После этого они заглянули в Северный банк, где Покидышев сам снял со счета и отдал Ганцзалину тысячу рублей наличными. Потом купец проводил Ганцзалина и Загорского к доходному дому и поселил в лучшей квартире. После чего они наконец расстались, чрезвычайно довольные собой и друг другом.
Глава четвертая. Французский бокс в действии
Бывший дворецкий Загорского, а ныне советский трудящийся Артур Иванович Киршнер пребывал в необыкновенно скверном расположении духа. В этом не было ничего удивительного, такое расположение сохранялось у него уже почти два года – начиная с октябрьского переворота. Разумеется, переворот февральский тоже был не сахар, однако же за вычетом государя-императора, городовых и появления дурацкой привычки именовать всех налево и направо «гражданами» существование оставалась вполне терпимым. Но с октябрьским переворотом жизнь в понимании Артура Ивановича кончилась. Осталась только жизнь, как ее понимал пролетарский писатель Фридрих Энгельс – то есть форма существования белковых тел в постоянном самообновлении химических частей.
Белковые тела пока еще имелись в наличии, и даже химические части их регулярно самообновлялись благодаря спирту и самогону, следствием какового самообновления был неистребимый запах мочи во всех парадных бывшего Санкт-Петербурга, а ныне Петрограда. Однако, повторим, жизни в сложившихся условиях не было и, выскажем крамольную мысль, и быть не могло.
После октября дом действительного статского советника Нестора Васильевича Загорского национализировала власть трудящихся. К счастью, самого Загорского в этот миг дома не оказалось, он, по каким-то известным одному ему причинам проживал в Москве.
Попытки же Киршнера объяснить комиссии, явившейся конфисковывать дом, что нельзя национализировать жилище действительного статского советника, встретили со стороны сознательных пролетариев полное непонимание и угрозы «шлепнуть старого козла» прямо во дворе. В этих обстоятельствах выбор у Артура Ивановича был небольшой: быть героически шлепнутым на месте либо временно отступить и затаиться. Как человек здравый и чуждый дурацкому героизму, он предусмотрительно выбрал второе.
Как показали дальнейшие события, выбор был сделан совершенно правильно. Новые власти конфисковали всю недвижимость в стране, однако управлять ей не могли – руки были коротки, да и не было у комиссаров такого количества рук, хотя некоторые из них, вроде Троцкого или Ленина, по своей ухватистости вполне могли сойти за осьминогов. Так или иначе, чтобы не остаться среди руин, советская власть вынуждена была изобрести домовые комитеты, или, выражаясь языком рабоче-крестьян, домкомы.
Домкомы эти состояли обычно из особенно ответственных жильцов. После национализации дом Загорского оказался заселен в основном его же слугами, их чадами и домочадцами. В этих обстоятельствах наиболее ответственным жильцом следовало, разумеется, признать Артура Ивановича Киршнера. Во-первых, он был немец, то есть компатриот главных большевиков Маркса и Энгельса, во-вторых, уже имел опыт управления именно этим домом.
Таким образом, на шестом десятке лет Киршнер неожиданно для себя сделался трудящимся и председателем домкома. Учитывая царящий вокруг бедлам, в просторечии именуемый гражданской войной, было крайне трудно организовать жизнь по старым образцам, тем более, что не только уполномоченный комиссар, но и любой человечишка при пистолете вполне мог куражиться над почтенным дворецким и тыкать ему этим пистолетом в зубы, а тот не мог ему даже кулаком двинуть в ответ.
Дополнительно отягощали ситуацию революционные настроения, охватившие бывшего кучера Нестора Васильевича Прошку. С началом революции Прошка стал ходить на митинге и там окончательно свернул набекрень и без того небогатые свои мозги.
– Нады́сь не то, что ономня́сь, – говорил он, откушавши самогону, которым его снабжала приехавшая из деревни бабка Любка, на правах сельского пролетария размещенная в кухне, где она не только жила и спала, но и гнала этот самый самогон в совершенно промышленных масштабах. – Нынче каждый имеет свое право…
В чем именно состояло это право, кроме как напиться до положения риз и ругаться последними словами, кучер Прошка не знал, но это не мешало ему считать себя пролетарием и революционером.
– Гляди у меня, контра, – говорил он Киршнеру угрожающе, – только подними хвост против советской власти – враз шлепну гидру. Ты тут из милости живешь, нетрудовой элемент, тебя давно разбуржуинить надо. Смотри, подымется рабочий класс от векового рабства, пустит тебе юшку – три дня сморкаться будешь.
Видимо, героические подвиги рабочего класса, по мнению Прошки, не шли дальше того, чтобы расквасить нос старому дворецкому. По счастью, дальше угроз Прошка не шел. Во-первых, большинство жильцов было на стороне Киршнера, во-вторых, кучер все-таки побаивался пудовых кулаков Артура Ивановича.
Поэтому угрожал он, лишь сильно выпив, а в остальное время был хмур с похмелья и только невнятно бурчал про какой-то распердёж, который, по его мнению, организовали в доме Киршнер и другие настроенные против советской власти члены домкома. И хотя Артур Иванович пару раз ему указывал, что, во-первых, говорить следует не распердёж, а раскардаш, а, во-вторых, никакого раскардаша в доме у них нет, а напротив, царит образцовый порядок, то есть такой, какой только возможен в нынешних тяжелых обстоятельствах. Но в этом вопросе Прошка твердо стоял на своем, видимо, полагая употребление бранных слов частью культурной политики большевиков. Может быть, он был не так уж неправ. Людей старого воспитания ужасало, с какой легкостью употреблялись вслух слова, которых раньше сторонились даже ломовые извозчики. И употреблялись они не в узком кругу или закрытом клубе любителей бранной лексики, а прилюдно, вслух, в окружении совершенно незнакомой публики, включая сюда стариков, детей, беременных женщин и барышень, еще даже и не думавших забеременеть.
Однако, в сущности, Прохор был меньшим злом из всех возможных и большого вреда бывшему дому Нестора Васильевича, а равно и его обитателям нанести не мог. В других домкомах, где власть захватили большевики, безответных квартирантов, как рассказывали Киршнеру, подвергали изощренным пыткам – собирали деньги на немецких сирот, пели революционные гимны, а в одном доме даже завели говорящую собаку. Собака, правда, из всех слов отчетливо выговаривала только одно – то самое, которое приличные люди именуют изящным словом «филей», но зато уж лаяла она его безостановочно. Среди большевиков собака эта считалась провозвестником светлого будущего человечества и свидетельством того, до каких высот может довести живое существо экономическая теория Карла Маркса.
После октябрьского переворота ни Загорский, ни помощник его Ганцзалин в доме уже не появлялись. Однако Нестор Васильевич прислал из Москвы свой новый адрес, чтобы, если паче чаяний, будут приходить ему письма, Артур Иванович пересылал бы их в нужное место. Кроме того, Загорский попросил отослать наиболее дорогие для него вещи на его дачу в Куо́ккалу, которая после революции оказалась уже как бы за границей советской России и где поэтому они находились в большей безопасности.
Артур Иванович не считал, что финский рабочий окажется честнее русского пролетария, однако веление хозяина исполнил и теперь второй уже год с тоскою ждал, когда власть большевиков наконец рухнет. По расчетам Киршнера, до этого оставалось днями считать. С запада на Петроград шел Юденич со своей армией, с юга красных теснил Деникин, с востока наступал адмирал Колчак. Еще месяц, в крайнем случае – два, и порядок будет восстановлен, а Нестор Васильевич наконец сможет беспрепятственно въехать в родные петербургские пенаты.
Но тут случилось неожиданное и весьма пренеприятное событие. После обеда, когда Артур Иванович по многолетней привычке собирался, как он говорил, предаться объятиям Морфея, в дверь громко и требовательно постучали. Киршнер специально выбрал себе комнату поближе к выходу, чтобы в случае чего оказаться на передовом рубеже, потому что на остальных жильцов надежды было мало и единственное, на что они были способны, так это жалобно стенать да выкрикивать пьяные революционные лозунги. Ни то, ни другое, по мнению Артура Ивановича, не гарантировало дому полной безопасности. Именно поэтому на всякий посторонний стук к двери он являлся собственной персоной, и только если его не было на месте, дверь открывал кто-то другой – как правило, дворник Семен.
На сей раз стучали крайне требовательно: вероятно, явилась очередная инспекция на уплотнение. После переворота в Петербург хлынула лавина сомнительных личностей, а то и откровенных, по мнению Киршнера, мошенников, и всех их нужно было куда-то расселить. Именно по этой причине в городе почти не осталось целых квартир: каждая была поделена на множество комнат, в которых жили разного пола, возраста и калибра мошенники, часто совершенно незнакомые друг с другом и только и способные, что устраивать шумные битвы за внеочередное посещение клозета. Если вдруг какому-то приличному человеку правдами и неправдами удавалось отстоять себе две или три комнаты, то рано или поздно непременно являлась комиссия и требовала от домкома уплотнить нахального квартиранта, то есть из нескольких комнат переселить его в одну, а в освободившиеся запихнуть каких-нибудь шаромыжников.
До поры до времени Артуру Ивановичу удавалось выдерживать натиск комиссий, доказывая, что дом и так заполнен сверх всяких норм. Разумеется, он лукавил, и в доме значились живущими несколько человек, которые, строго говоря, не жили там, а в лучшем случае появлялись. Но как, скажите, существовать в этом советском бедламе, не прибегая к хитростям? На такое способен, пожалуй, только какой-нибудь чудотворец, но, поскольку советская власть всякое чудотворство запретило как буржуазный пережиток, то, значит, и не было никого, кто мог бы жить честно, совершенно не лукавя при этом.
В дверь снова застучали – еще более требовательно, чем раньше.
– Кто там? – на всякий случай спросил из-за двери Киршнер.
– Комиссия! – повелительно крикнули снаружи и добавили еще что-то невнятно-картавое.
Услышав картавые звуки, Артур Иванович убедился, что снаружи действительно стоят комиссары. Как известно, после революции в комиссары завербовались многие сыны Израиля, до того прозябавшие в черте оседлости и не имевшие никаких жизненных перспектив, пока не примут православие. Прямо предать веру предков решался не всякий иудей, а вот участие в революционном движении, вероятно, не противоречило закону Моисееву.
Киршнер открыл дверь и обомлел. Вместо комиссаров в черной коже стоял перед ним небольшой желтолицый и сильно прищуренный человек в потерявшей цвет студенческой тужурке. Не тратя времени попусту, прищуренный шагнул в прихожую, отпихнув с дороги Артура Ивановича, который тщетно пытался загородить проход своей внушительной фигурой.
– Заголски здесь зивёт? – спросил желтолицый, уставив на бывшего дворецкого два черных, как пулеметные дула, глаза.
«Башкир, – подумал Киршнер. – Или китаец».
– А вы, простите, товарищ, кто будете? – поинтересовался он осторожно.
– Не твое собацье дело, – коротко отвечал тот. – Пловоди к Заголски.
Артур Иванович покачал головой.
– Нельзя ли для начала мандат ваш посмотреть? – спросил он внушительно.
Гость полез куда-то во внутренний карман, но вытащил оттуда отнюдь не мандат, а черный блестящий наган. После чего, не обинуясь, сунул его в нос Киршнеру.
– Вот тебе мандат, – сказал. – Нлавится?
И надавил еще, собака, чтобы вочувствовал как следует.
– Где Заголски? – сказал. – Два лаза повтолять не буду.
Артур Иванович уже понял, что, несмотря на малый рост, человек перед ним стоит решительный и бывалый. Можно было бы, конечно, по заветам Эрнеста Ивановича Лусталло́ попробовать свалить его хуком в левое ухо, но риск был слишком велик. Если сразу не собьешь с ног, он того и гляди наган свой разрядит прямо в физиономию. Киршнер и обычные драки недолюбливал, а уж такое, чтобы из нагана прямо в лицо – этого он и вовсе не переносил. К тому же, кажется, желтолицый был китайцем. А у него уже имелся несколько лет назад неприятный опыт потасовки с китайцами. Если этот хотя бы вполовину такой шустрый, как тот, шансы Артура Ивановича явно стремились к нулю.
– Его превосходительство уехали, – несколько гундосо сказал наконец Киршнер, которого начало уже нервировать, что в нос ему уперт заряженный револьвер.
– Когда, куда? – быстро спросил желтолицый.
– Еще до Октябрьского переворота… пардон, революции, – отвечал дворецкий. – Куда – не знаю, они мне не докладывались.
Желтолицый опустил наган и внимательно посмотрел на Киршнера.
– Влёшь, – сказал он уверенно. – Блешешь, собака! Говоли, куда уехал…
Артур Иванович по манерам незваного гостя уже смекнул, что тот явился вовсе не за тем, чтобы сообщить Нестору Васильевичу нечто приятное. Сказать пришельцу московский адрес Загорского, скорее всего, значило навлечь на его превосходительство серьезные неприятности. Ну, а раз так, единственное, что оставалось Киршнеру – стоять на своем и ни в чем не признаваться.
– Я вынужден повторить, – начал дворецкий, – его превосходительство не обязан сообщать мне о месте своего нахождения…
Тут он вынужден был замолчать, потому что в лицо ему снова уткнули наган – на этот раз прямо в лоб.
– Убью, – сказал желтолицый холодно. – Башку плостлелю. Считаю до тлёх: лаз… два…
Киршнер невольно закрыл глаза и приготовился отдать богу душу. Однако душа не хотела отдаваться – уж больно все случилось неожиданно. Наверное, надо было бы немножко поторговаться, потянуть время, но уж слишком быстр и решителен оказался незваный гость. Куда, интересно, попадет бедный Артур Иванович после смерти? Хотелось бы, конечно, думать, что в рай – за особенную преданность господину, но дело это такое тонкое, что даже священники ничего предсказать не могут, что уж говорить о самом будущем покойнике.
Не успел, однако, будущий покойник додумать эту скорбную мысль, как рядом раздался знакомый голос кучера Прошки, который, как оказалось, незаметно вышел из своей комнаты в прихожую и внимательно прислушивался к разговору дворецкого и желтолицего.
– Здорово, товарищ! Загорского ищешь?
– Исю, – отвечал желтолицый, поворачиваясь к Прошке. – Где он?
– Загадка нехитрая, – отвечал тот, снисходительно улыбаясь, – в Москву переехал.
– Адлес? – вкрадчиво спросил незваный гость.
– Адрес знает гидра и контра, – отвечал Прошка, кивая головой на Киршнера. – Он же с ним в переписке состоял.
– В пелеписке? – переспросил желтолицый, и глаза его загорелись нехорошим огнем.
Прошка подтвердил, и добавил еще, что наверняка аккуратист Киршнер оставил у себя конверты, приходившие от Загорского. На конвертах этих, конечно, и адрес сохранился. Надо в комнату к нему заглянуть для пущей ясности.
– Сволочь ты, Прошка, – Киршнер не стал стесняться в выражениях. – И к тому же иуда последний. Тебе лишь бы человека оклеветать.
Желтолицый ловко вывернул Артуру Ивановичу руку за спину, чтобы не сопротивлялся, потом кивнул Прошке:
– Веди, товались!
Прошка отвел его к комнате Киршнера. Ключей у дворецкого желтолицый требовать не стал, просто пнул железной ногой в дверь и вышиб замок.
К счастью, предусмотрительный Артур Иванович уничтожил все конверты, которые могли бы уличить его в связи с Загорским. Однако этого оказалось недостаточно. Первое, что бросилось в глаза незваному гостю – аккуратный коричневый блокнот, куда Киршнер записывал все, что следовало запомнить. Желтолицый бандит немедленно раскрыл блокнот и начал его листать.
– Так-так, – сказал он, – оцень интелесно.
Само собой, Артур Иванович, записывая адрес, не написал, чей он. Но беда состояла в том, что в блокноте его было совсем мало адресов и только один из них – московский.
– Никитский бульвал, дом Глебенсикова, – прочитал желтолицый и бросил на Киршнера быстрый взгляд.
Тот сделал безразличное лицо, но бандита, разумеется, не обманул. Желтолицый осклабился и сказал, что убивать Киршнера не будет, поскольку тот проявил себя верным слугой. Однако придется его связать и оставить в комнате под присмотром Прошки, чтобы он не сбежал и не попытался предупредить Загорского.
Так они и сделали. Желтолицый связал Киршнеру руки и велел Прошке следить, чтобы тот не выходил из комнаты до завтрашнего вечера.
– Не беспокойся, товарищ, все сделаем как надо, – бодро отвечал ему бывший кучер.
После этого желтолицый исчез, прихватив с собой блокнот Киршнера.
– Ну, что, Артур Иванович, говорил же я – пора тебя разбуржуинить? – Прошка насмешлив глядел на дворецкого.
– Да что там меня разбуржуинивать, – отвечал тот нарочито небрежно. – Я же не его превосходительство, нет у меня полных закромов. Так, может, накопил пару тысяч золотыми десятками на старость – а больше и нет ничего.
Глаза Прошки загорелись жадным огнем: ишь ты, пару тысяч! И где ж ты их хранишь?
– Так я тебе и сказал, – отвечал Киршнер. – Попробуй, отыщи.
И неприятно рассмеялся в лицо негодяю. Тот злобно оскалился: рано смеешься. Времени у нас много, я тут все вверх дном переверну. А когда найду – уж не взыщи, Артур Иванович, расстанемся мы с тобой не по-хорошему. Две тысячи золотыми десятками стоят того, чтобы рискнуть.
И он начал методично обыскивать комнату Киршнера, совершенно не боясь, что тот попытается сопротивляться – да и что он может со связанными-то руками? И действительно, со связанными руками ни один боксер ничего не может, будь он даже мировой чемпион. Однако мы, кажется, забыли сказать, что Эрнест Иванович Лусталло, у которого занимался когда-то Киршнер, был не только тренером английского бокса, но и французского сава́та. А французский сава́т, как всем известно, есть такой бокс, который для драки использует не только руки, но и ноги. И надо же такому случиться, что Артур Иванович все-таки взял у Лусталло несколько уроков того самого французского бокса.
– Ты чего встал, гидра? – через плечо, не глядя, кинул Киршнеру Прошка, сосредоточенно роясь в его бумагах. – Сядь взад, не доводи до греха…
– Дурак ты, Прошка, – сказал Артур Иванович. – Ноги тоже надо было связать.
И от души влепил кучеру тяжелым ботинком по уху.