Читать книгу "Жизнь Гогена"
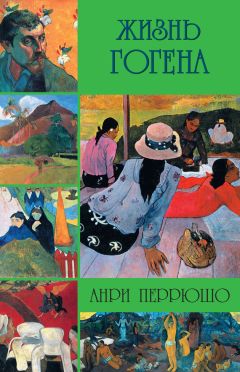
Автор книги: Анри Перрюшо
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Добрейшая душа, Шуффенекер, который так неосторожно связал себя «на радость и на горе» браком, оказался куда более осмотрительным, когда дело коснулось живописи. Он противился Гогену, который пытался вырвать его из-под влияния академической живописи и связать с импрессионистами. «Вы глухи к убеждениям, Шуфф».
Но таким ли убежденным импрессионистом был сам Гоген? Что бы он сам ни думал в эту пору, его родство с импрессионистами оставалось чисто поверхностным – оно не затрагивало глубин его души. Воспроизводить реальный мир таким, каким его видит глаз, запечатлевать на холсте зрительное восприятие в его первозданном виде, посвятить себя передаче внешних явлений – того, что происходит вне художника, – разве мог признать это конечной целью искусства Гоген, для которого существовал внутренний мир, и только он один?

Поль Гоген. Обнаженная.
Гоген писал на улочках района Вожирар. Он написал церковь Сен-Ламбер, высившуюся на участке рядом с его домом[46]46
Писали, будто в этой церкви с 1807 года покоились останки дона Мариано де Тристан Москосо. Трогательная, но, к сожалению, неточная подробность. Дон Мариано был погребен не в этой церкви Сен-Ламбер, которую построили только в 1853 году, а в первой церкви Сен-Ламбер, расположенной значительно южнее и снесенной в 1854 году. Погребенные в ней были эксгумированы и перенесены на кладбище Вожирар.
[Закрыть]. Написал свой сад и написал обнаженную женщину («Обнаженная») – позировала ему служанка Жюстина.
В этой обнаженной Гоген как нельзя более полно выразил то, что отличало его от импрессионистов. В самом деле, трудно найти что либо общее между этой женщиной, сидящей на краю дивана и склонившей безрадостное лицо над тканью, которую она штопает, и обнаженными женщинами Ренуара, с их цветущей и сверкающей плотью!
Кисть Ренуара ласкает поверхность кожи. Под кистью Гогена сквозь формы тела проступает душа. Ренуар и другие импрессионисты пишут зримое, Гоген, сознательно или нет, пытается писать то, что находится за пределами зримого, то, что это зримое в какой-то мере отражает.
Эта обнаженная[47]47
В настоящее время картина находится в Новой Глиптотеке Карлсберга в Копенгагене.
[Закрыть] настолько выделялась на фоне других произведений самого Гогена и его товарищей, что на 6-й Выставке импрессионистов в апреле 1881 года в доме номер 35 по бульвару Капуцинок, где висела эта картина, она надолго приковала к себе внимание писателя-натуралиста Гюисманса.
«В прошлом году, – писал Гюисманс, – господин Гоген выставил… серию пейзажей – этакий разжиженный, неокрепший Писсарро.
В этом году г-н Гоген представил произведение воистину самостоятельное, полотно, которое свидетельствует о неоспоримом темпераменте современного художника. Картина называется «Этюд обнаженной натуры…». Осмелюсь утверждать, что ни у одного из современных художников, работавших над обнаженной натурой, с такой силой не звучала правда жизни… Эта плоть вопиет. Нет, это не та ровная, гладкая кожа, без пупырышек, пятнышек и пор, та кожа, которую все художники окунают в чан с розовой водицей и потом проглаживают горячим утюгом. Это красная от крови эпидерма, под которой трепещут нервные волокна. И вообще, сколько правды в каждой частице этого тела – в толстоватом животе, свисающем на ляжки, в морщинах под отвислой грудью, обведенной бистром, в узловатых коленных суставах, в костлявых запястьях!.. За долгие годы г-н Гоген первый попытался изобразить современную женщину… Ему это полностью удалось, и он создал бесстрашную, правдивую картину».
После чего Гюисманс бегло упомянул семь остальных картин, деревянную «готически современную» статуэтку и медальон из крашеного гипса, которыми Гоген был представлен на выставке. «Но в пейзажах индивидуальность г-на Гогена пока еще с трудом вырывается из объятий его наставника г-на Писсарро», – писал Гюисманс с легким презрением[48]48
«Выставка независимых в 1881 году» в «Ар модерн». Шарпантье, Париж, 1883.
[Закрыть].

Жорис-Карл Гюисманс.
Похвалы Гюисманса избавили Гогена от сомнений: он художник, настоящий художник, а не любитель. Но эти похвалы должны были и смутить его. Гюисманс в общем-то хвалил его за реализм, а Гоген безусловно испытывал по отношению к реализму то же инстинктивное сомнение, что и по отношению к импрессионизму. По сути, импрессионизм был наследником реализма. И в том и в другом случае речь шла о том, чтобы изображать «видимые предметы»[49]49
Курбе.
[Закрыть], правда, различными средствами. Гораздо позже, когда Гогену станет ясен смысл его собственных исканий и он поймет, к чему они ведут, он не случайно скажет об импрессионистах, что они вели свои поиски «вокруг видимого глазу, а не в таинственном центре мысли». Обнаженная, восхитившая Гюисманса, с ее тяжелым, непривлекательным телом, с ее выражением печали вовсе не была героиней натуралистического «среза жизни». Она была вестницей внутреннего мира Гогена, того неведомого мира, первым неожиданным проявлением которого и было это полотно.
Семья биржевика снова увеличилась. 12 апреля Метте произвела на свет четвертого ребенка, мальчика, Жана-Рене. У Метте было много хлопот с четырьмя детьми – Эмилем, которому было шесть с половиной лет, трехлетней Алиной, двухлетним Кловисом и новорожденным, и она еще меньше, чем прежде, интересовалась «живописной блажью» Поля, хотя и нелегко смирилась с тем, чтобы «одолжить» ему Жюстину: что за неприличная фантазия – заставить девушку позировать голой!
Шли месяцы, друзьям Метте Гоген казался все более чудаковатым. На бирже продолжался вихрь безумных спекуляций: акции Суэца, стоившие два года назад семьсот франков, теперь стоили три тысячи, акции «Всеобщего союза» с тысячи поднялись до тысячи двухсот, потом до тысячи трехсот, наконец до полутора тысяч… Гоген по-прежнему зарабатывал огромные деньги – ему бы радоваться, а он, наоборот, все мрачнел. Из него нельзя было вытянуть ни слова.
Однажды Гоген с женой отправился в гости к свояку, Фрицу Таулову, где встретил другого норвежского художника, Скредсвига, которому в этом году жюри Салона присудило медаль третьей степени. Польщенный этой честью, Кристиан Скредсвиг, человек и вообще-то любезный и добродушный, восхищался Салоном 1881 года, говорил, что он был «великолепен», что там были выставлены замечательные полотна. «А как по-вашему, господин Гоген?» – любезно спросил он биржевого маклера. «Я видел в Салоне только одну картину – Мане[50]50
«Портрет Петрюнзе, охотника на львов» – за него сорокадевятилетний Мане удостоился медали второй степени.
[Закрыть]» – ледяным тоном отрезал Гоген. Чуть позже Скредсвиг увидел, как Гоген, схватив канделябр, отправился в мастерскую Таулова посмотреть его работы и там расхаживал от одной к другой, пожимая плечами[51]51
Пола Гоген, цит. произв.
[Закрыть]. Странная личность этот молчун маклер!
И даже еще более странная, чем предполагал Скредсвиг! Этот человек нигде не чувствовал себя на своем месте, всюду оставался чужаком. Он остался чужим миру дельцов, кругу, где меж тем блистательно преуспел. Чужим парижскому обществу с принятыми в нем обычаями и любезностями. Чужим даже своей эпохе, европейскому буржуазному и материалистическому миру Европы конца XIX века, который так увлекся наукой, что стал отрицать духовное, субъективное начало, власть мечты и чувства. Вот почему Гогену было не по себе и среди импрессионистов: если Золя, написавший за год до этого «Нана», стремился создать «экспериментальный» роман, то и импрессионисты не избежали общего поветрия. Именно стремясь к объективному наблюдению, они писали не предметы, а их видимость, и возражали против того, чтобы разум вклинивался между глазом и рукой, когда художник анализирует и передает на холсте мимолетную игру света.
Да, странная личность этот маклер, ищущий собственную душу, – всюду чужой, нигде не способный ужиться. С глубоким душевным волнением прочтет он однажды стихи, написанные никому не известным преподавателем английского языка, другом Мане, Стефаном Малларме:
Тоскует плоть, увы! К чему листать страницы?
Все книги прочтены! Я чувствую, как птицы
От счастья пьяны там, меж небом и водой.
Бежать, бежать! Ни сад, заросший лебедой
Пусть отражался он так часто в нежном взоре,
Не исцелит тоски души, вдохнувшей море.
О ночь! Ни лампы свет, в тиши передо мной
Ложащийся на лист, хранимый белизной,
Ни молодая мать, кормящая ребенка.
Уходим в плаванье! Мой стимер, свистни звонко
И в мир экзотики, в лазурь чужих морей,
Качая мачтами, неси меня скорей![52]52
Перевод В. Левика.
[Закрыть]
Гоген потому так страстно отдавался живописи, что видел в ней путь к освобождению. Еле сдерживая нетерпение, он начал роптать против повинностей, которые налагала на него его профессия. Часы, которые он отдавал бирже, это были часы смерти, а не жизни, безвозвратно потерянное время. Ах, если бы ремесло биржевика не обкрадывало его, отнимая у него время, если бы он мог писать изо дня в день, он узнал бы во всей его полноте счастье быть наконец самим собой. Только с кистью в руке Гоген чувствовал, что живет.
Гоген ходил на выставки, в галереи, в музеи, изучал, размышлял. Все давало ему пищу для раздумий – и колючее искусство Дега, столь далекое от импрессионизма во вкусе Клода Моне, и стилизованное, рассудочное искусство Пюви де Шаванна, и гравюры великих японцев, и азиатская скульптура. Восток притягивал его. Вдохновляясь восточными мотивами, он работал над деревянной скульптурой. У папаши Мори, француза, когда-то жившего в Лиме, он увидел индейские украшения, керамические изделия инков. Короткий, щемящий всплеск тоски по далекой стране – на весенней выставке Гоген представил «Маленького юнгу». Искусство необъятна, как сама жизнь. Из поколения в поколение искусство оплодотворяют великие самцы человеческого стада: «королевский тигр» – Веласкес или Рембрандт, «грозный лев, который отваживался на все». Гоген, импрессионист, отнюдь не ортодоксальный в своих вкусах, восхищался Энгром и, подобно Дега, непрерывно возвращался к этому художнику, в котором чувствуется «внутренняя жизнь» и под «внешней холодностью… таится глубокий жар, кипучая страсть».

Эдуар Мане. Портрет Стефана Малларме.
В Салоне, который так расхваливал Скредсвиг, Гоген обменялся несколькими словами с Пюви де Шаванном, который выставил там своего «Бедного рыбака».
– Ну почему же они не понимают? – воскликнул Пюви, обращаясь к маклеру и намекая на какого-то злобствующего критика. – Ведь картина совершенно проста!
– А с этими людьми надо говорить загадками, потому что все равно они смотрят и не видят, слушают и не слышат! – отозвался Гоген.
Уж не притягивало ли Гогена в «Бедном рыбаке» именно то, что не нравилось некоторым критикам, в том числе Гюисмансу, упрекавшему Пюви в «наивной жестокости» и «нарочитой неумелости примитива»?..
Летом, как только пришло время его летнего отпуска, Гоген вернулся в Понтуаз, к Писсарро. С мая в Понтуазе жил также друг Писсарро Сезанн. За истекшие годы искусство Сезанна претерпело большие изменения. И для этого художника импрессионизм не был конечной целью. Его не удовлетворяли чисто зрительные ощущения. Они – только элемент, который художник должен преобразовать, «осмыслить», чтобы «скомпоновать». Гоген с таким интересом наблюдал за работой художника из Экса («Ну и художник этот чертов Сезанн! Все время играет на большом органе!»), что подозрительный провансалец стал беспокоиться: уж не собирается ли этот маклер, чего доброго, воспользоваться его восприятием, «стянуть у него мотивы». Недоверие это несколько смягчалось явным уважением маклера к живописи Сезанна – сам Сезанн, человек грубый и зачастую неприятный в обращении, нравился Гогену значительно меньше. Но вот удивился бы художник из Экса, если бы узнал, как воспринимает его Гоген. Сезанн, говорил Гоген, напоминает «древнего левантинца», от него веет каким-то восточным мистицизмом.
Недели отдыха пролетели быстро. Гоген нехотя вернулся на улицу Карсель. «Я слышал, как вы однажды высказывали одну теорию, – писал он в письме к Писсарро. – Заниматься живописью надо, мол, непременно в Париже, чтобы обмениваться мыслями. А что же происходит на деле? Мы, бедные, жаримся в «Новых Афинах», а вы, ни о чем не помышляя, живете себе отшельником… Надеюсь, что вы вернетесь в ближайшие дни».
А курс акций на бирже продолжал повышаться. Акции «Всеобщего союза» поднялись до тысячи семьсот, тысячи восьмисот, двух тысяч франков… Католический банк переживал эпоху расцвета. Его деятельность распространилась уже на всю Центральную Европу, в особенности на Австрию, где открылся его филиал – Земельный банк. Банк финансировал много других предприятий, в частности предоставил сербам заем в сто миллионов франков. Эти бесчисленные операции требовали непрерывного притока капиталов. В ноябре, чтобы увеличить свой капитал, банк выбросил на рынок новые ценные бумаги на сумму сто тысяч франков. Ходили слухи, что ради того, чтобы повысить их курс, Католический банк через подставных лиц приобрел большой пакет собственных акций.

Пюви де Шаванн. Бедный рыбак.
Покупайте, продавайте!.. Счастливцы Писсарро и Сезанн! Они могут в любую минуту заниматься живописью, неуклонно, настойчиво продолжать свои поиски! А он, Гоген, должен то и дело от нее отрываться. Недовольный тем, что он пишет, мучительно преодолевая трудности, по многу раз переделывая картины, он с каждым днем все сильнее раздражался против своего биржевого ремесла. Живописью нельзя заниматься на досуге! Он устал, ему надоело разрываться между искусством и биржей, он вконец измучен. На исходе 1881 года он написал Писсарро, что не хочет оставаться художником-дилетантом и решил бросить финансовую деятельность. К тому же, добавлял он, дела идут неважно. Может быть, Гоген проиграл на бирже.
Гоген подолгу молчал, потом вдруг внезапно изливал свои задушевные чувства. Он доверил свои планы Шуффенекеру. «Да, но семью-то кормить надо!» – возражал ему Шуфф. Гоген покачивал головой. Он только что продал свою картину проезжему датскому коммерсанту, который «намерен отстаивать импрессионизм перед своими соотечественниками». Гоген быстро добьется успеха в живописи, как добился успеха на бирже. Разве он не доказал, что он человек практический?
– Шуфф – буржуа, – говорил Гоген.
И бледная мимолетная улыбка освещала его резко очерченное лицо с горькой складкой губ и тяжелыми зеленоватыми веками, из-под которых искоса смотрели глаза, подернутые дымкой грезы…

Поль Гоген. Сад Писсарро. 1881 г.
III. Датское Королевство
Он пошел за нею, как вол идет на убой…
Книга Притч. VII, 22
Никогда еще в группе импрессионистов не было такого разлада. Тем из них, кто, как Писсарро и Гюстав Кайботт, пытался весной 1882 года организовать новую, 7-ю Выставку импрессионистов, пришлось убедиться, что злая воля, упрямство, непримиримость и обидчивость быстро разобщили людей, которых недолгое время объединяли общие интересы, общие идеи или общие антипатии.
«Дега внес раскол в наши ряды», – говорил Кайботт. Отчасти он был прав: Дега пытался навязать импрессионистам художников, которым он покровительствовал (как, например, Раффаэлли), но которых другие члены группы терпели скрепя сердце. Однако Дега был не единственной причиной несогласия. Ренуар и Моне стали выступать особняком. Сезанн («Я достоин одиночества!») с 1877 года не участвовал в выставках импрессионистов.
В декабре художники пытались договориться с Дега. Напрасный труд. 13 декабря Дега встретил Гогена и раздраженно заявил ему, что «скорее уйдет сам, чем позволит устранить Раффаэлли». За это время вера Гогена в собственные силы окрепла, сообщая об этой встрече Писсарро, он решительно заявлял:
«Хладнокровно обдумывая положение, сложившееся за те десять лет, что вы пытаетесь устраивать эти выставки, я вижу, что импрессионистов стало больше, а их талант, как и их влияние, возрос. Но зато из-за Дега, и только по его воле, наметилась и усиливается дурная тенденция: каждый год один из импрессионистов уходит, чтобы уступить место какому-нибудь ничтожеству или ученику Школы. Еще года два, и вы останетесь один среди худшего сорта ловкачей. Все ваши усилия потерпят крах, а с ними и Дюран-Рюэль. При всем моем желании, – добавлял Гоген, – я не могу служить посмешищем для господина Раффаэлли и иже с ним. Поэтому благоволите принять мою отставку. Отныне я ни в чем не участвую… Гийомен, кажется, настроен так же, как и я, но я не собираюсь оказывать на него давление».
Пришлось Писсарро, несмотря на все его уважение к Дега («Это ужасный человек, но искренний и честный»), признать, что Гоген прав. Раз Дега не хочет отказаться от своих обременительных «учеников», придется обойтись без него. «Вы скажете, что я слишком нетерпелив и всегда порю горячку, – писал Гоген в очередном письме к Писсарро, – но согласитесь, что мои расчеты оказались верными. Никто не разуверит меня, что для Дега Раффаэлли лишь предлог для разрыва. В этом человеке живет дух противоречия, который все разрушает. Не забывайте об этом, и прошу вас, будем действовать».

Эдгар Дега. Автопортрет.

Жан-Франсуа Рафаэлли. Портрет Эдмона де Гонкура.
Это письмо датировано 18 января. Можно ли поверить, читая его, что Гоген – тот самый Гоген, который «разыгрывает диктатора», как писал Мане Берте Моризо после разговора с Писсарро, – непосредственно затронут важными событиями, разыгравшимися на бирже? 11 января в результате краха Лионского банка и Луары повышение курса акций внезапно застопорилось. А 18 января, в тот самый день, когда Гоген написал свое письмо Писсарро, акции «Всеобщего союза», которые еще совсем недавно котировались дороже трех тысяч франков, упали до тысячи трехсот.
Пока Гоген обсуждал проблемы, связанные с будущей выставкой импрессионистов, биржа переживала все более драматические часы. «Вчерашний день был неудачен для Франции, – читаем мы в «Фигаро» от 20 января. – И дело не только в том, что разорены биржевые спекулянты, что подорваны многие репутации… На сей раз речь идет об общественном кредите, надо защищать национальное достояние от безумия распродажи, от паники, охватившей рынок».
28 января акции «Всеобщего союза» упали до шестисот франков. Два дня спустя банк официально приостановил платежи. 1 февраля его директор Федер и президент Административного совета Бонту были арестованы. На другой день коммерческий суд официально объявил о банкротстве банка.
Отзвуки этого краха разнеслись очень далеко. В маленьких деревушках и в больших городах он затронул тысячи мелких вкладчиков – рабочих, слуг, торговцев, крестьян, батраков, служащих, которые, внимая уговорам своих хозяев, богатых местных землевладельцев или агентов «Всеобщего союза», доверили свои сбережения Католическому банку. В Париже перед закрытыми дверями банка толпились длинные очереди – вопреки здравому смыслу хмурые, взволнованные люди надеялись, что банк возвратит им их вклады.
Гоген должен был потерять на этом деле много денег. Но, несомненно, это его беспокоило куда меньше, чем выставка импрессионистов. Так или иначе, отныне возможность биржевых спекуляций была сведена к нулю. Крах вызвал такое потрясение, отголоски его были столь ощутимы, даже за границей в Лондоне, Брюсселе, Амстердаме и Вене, что было совершенно ясно – оживление в делах теперь настанет не скоро. Восторженное возбуждение сменилось страхом. Большой зал биржи почти совсем опустел. Теперь собрания протекали в угрюмой, гнетущей тишине. Какой зловещий контраст с шумом, царившим здесь в минувшие недели! Однако крах дал Гогену возможность вволю размышлять о живописи.
А Кайботт продолжал добиваться своего. Он запросил Моне и Ренуара, согласятся ли они участвовать в задуманной выставке. Моне ответил уклончиво. Ренуар, заболевший в Эстаке, где он жил вместе с Сезанном, также не дал прямого ответа.
Выставка, наверное, никогда бы не состоялась, если бы Дюран-Рюэль, который все эти годы покупал полотна импрессионистов и защищал членов группы, не решился убедить колеблющихся. Он объяснил им, что выставка в их общих интересах, потому что крах Всеобщего союза затронет и его, Дюран-Рюэля, а через него и художников, его подопечных. Дюран-Рюэль был ярым католиком, и Федер, директор Генерального союза, его кредитовал.
Препирательства продолжались почти целый месяц. Ренуар и Моне виляли. Последний не скрывал, как мало его привлекает участие в выставке рядом с господами Гогеном и Гийоменом. А первый ставил в вину Писсарро его политические убеждения. «Выставляться вместе с Писсарро, Гогеном, Гийоменом, – писал он не без раздражения Дюран-Рюэлю, – это все равно, как если бы я выставился с какой-нибудь социалистической группировкой. Еще немного, и Писсарро пригласит участвовать в выставке русского Лаврова (Лавров был анархистом. – А. П.) или еще какого-нибудь революционера. Публика не любит того, что пахнет политикой, а я в мои годы не желаю становиться революционером… А оставаться с евреем Писсарро – это и есть революция».
Наконец, после многотрудных усилий и объемистой переписки Дюран-Рюэлю удалось добиться примирения. Моне и Ренуар уступили. 1 марта выставка открылась на улице Сент-Оноре, 251. Гоген представил на нее двенадцать живописных работ и пастелей и один бюст.
Трудно представить, чтобы до Гогена не дошли отголоски недоброжелательных отзывов о нем Ренуара и Моне, и вряд ли они доставили ему удовольствие. Впрочем, очень многие сошлись на том, что в этом году он был представлен на выставке «весьма посредственными»[53]53
Такое мнение высказано в письме Эжена Мане к его жене Берте Моризо.
[Закрыть] произведениями. Но хуже всего было то, что Гюисманс, так горячо расхваливший его, теперь воздержался от похвал по его адресу.
«Увы, – писал он, – г-н Гоген не сделал успехов! В прошлом году этот художник показал нам отличный этюд обнаженной натуры, в этом году – ничего стоящего. Упомяну разве что удавшийся более, чем все остальное, новый «Вид церкви в Вожираре». Что же касается картины «В мастерской художника», то колорит ее грязный и глухой…»
Выступление Гюисманса привело Гогена в ярость. «Грязный колорит»! Он не мог примириться с этой оценкой. Слишком прямолинейный, чтобы выбирать слова и действовать с оглядкой, он тотчас заявил, что Гюисманс ничего не понимает. Все критики стоят друг друга! Имя Альберу Вольфу – легион. И подумать только, что в продаже картин художники зависят от этих недоумков!
Теперь Гоген видел мир только сквозь призму живописи. Тяга к ней разрасталась в нем, как раковая опухоль. Другой на его месте «с отчаянием», «в смятении» (именно такими выражениями пестрела газетная хроника) следил бы за роковым развитием событий на финансовом рынке, как его коллеги и все завсегдатаи биржи. Но он даже не подумал сократить свои расходы (а Метте тем более). То, что отныне операции на бирже заглохли, что его заработки резко уменьшились, не отвращало Гогена от его мечты, наоборот, она завладевала им все сильнее. «Грязный и глухой колорит»! Чего ради тратить время на биржу, если этот рабский труд даже не оплачивается как следует? И Гоген внезапно решает, что все встанет на свои места, если он избавится от биржевой повинности.
Финансовый кризис тяжело отозвался на торговле картинами. В частности, положение Дюран-Рюэля, на которого Гоген возлагал большие надежды, стало очень шатким. Долги торговца, по которому сильно ударило банкротство «Всеобщего союза», измерялись сотнями тысяч франков. «Он продержится не больше недели», – говорили о нем его собратья. И художники, которых он поддерживал, снова почувствовали мучительную тревогу о завтрашнем дне. Но все это не останавливало Гогена. Он жил не в реальном мире, а в мире своих грез. Став профессиональным художником, убеждал он себя, он будет писать, сколько захочет, будет продавать картины и будет счастлив. Он подгонял действительность к своим мечтам. Его надежды были химеричны, но его грезы не могли существовать без надежды, а он – без своих грез.

Огюст Ренуар. Портрет Дюран-Рюэля.
Гоген шел к далекому горизонту, пристально вглядываясь в миражи.
* * *
Жизнь Гогена достигла критической точки.
В конце 1882 года Шуффенекер – его маленькое предприятие по производству накладного золота процветало – решил уйти от Галишона и заняться другим ремеслом, более соответствующим его вкусам и менее рискованным. Биржевой крах, несомненно, его напугал. Но хотя с 1877 года Шуффенекер регулярно выставлялся в официальном Салоне, он был слишком осторожен, чтобы по примеру Гогена очертя голову подвергнуть себя превратностям карьеры художника. Он рассчитывал всего-навсего получить должность учителя рисования при муниципальных школах Парижа. Ближайший конкурс на эту должность должен был состояться в июле.
Уход Шуффа был как бы последним толчком для «пресытившегося биржей»[54]54
Шуффенекер. Заметки о Гогене.
[Закрыть] Гогена.
Однажды январским вечером 1883 года, вернувшись домой, на улицу Карсель, Гоген рассказал жене, что он объявил Галишону и Кальзадо о своем уходе. Метте онемела. «Я уволился от них, – невозмутимо повторил Гоген. – Отныне я каждый день буду заниматься живописью».
Метте глядела на мужа совершенно потрясенная. Что говорит Поль? Не лишился ли он рассудка?
Метте глядела на мужа, с которым прожила бок о бок почти десять лет и которого совсем не знала.
Метте пыталась успокоить себя. Она не могла допустить, что решение Поля бесповоротно – это было бы настолько страшно, что она отвергала такое предположение. Она считала, что Поль просто переживает одну из тех минут, когда человек из-за усталости, нервного истощения или приступа внезапно открывшейся душевной болезни на какое-то время перестает быть самим собой и делает глупости. А потом все входит в обычную колею. Как правило, причиной таких потрясений бывают женщины. Женщина – главный враг женщины. Но живопись! Метте не могла поверить в такую нелепость. Тщетно билась она над загадкой этой необычной страсти, перед которой чувствовала себя безоружной. Поль, расчетливый биржевой маклер, за десять лет добившийся самого завидного положения, образумится. Метте не могла допустить, что в биржевике, за которого она вышла замуж, в дельце, который приносил столько денег в дом, кроется безумец. Рассчитывать на продажу картин в период, когда импрессионисты, почти совсем лишившиеся помощи Дюран-Рюэля, снова должны, по выражению Писсарро, «готовить нищенскую суму», в самом деле было чистейшим безумием, и Писсарро, хотя он и укорял Гийомена за то, что тот снова поступил на службу, первый это признавал. Правда, в Гогене Писсарро терял возможного покупателя. И так ли уж он верил в его талант, в будущность своего друга? Не был ли биржевой маклер в его глазах чем-то вроде второго Кайботта – богатого художника-любителя, к которому импрессионисты в трудную минуту всегда могли обратиться за помощью?

Поль Гоген. Мадам Гоген в вечернем платье.
Гоген и сам вскоре убедился, что все обстоит далеко не так просто, как ему казалось. Ему ничего не удавалось продать. А сбережения, на которые он думал просуществовать по меньшей мере год, таяли куда быстрее, чем он рассчитывал. Он мог вернуться к Галишону. Кальзадо заявил, что в любую минуту возьмет его обратно, но Гоген не собирался отказываться от обретенного права свободно заниматься живописью. Отказываться от своего безумия! Оно было слишком нерасторжимо связано с чем-то самым для него заветным, чтобы он мог уступить. Мысль о том, чтобы сдаться, вернуться в будничную колею, приводила его в ужас. Однако перед лицом участи, которую он избрал, его одолевала тревога. В эти дни 1883 года Гоген написал свой автопортрет за мольбертом. Холст этот – красноречивая исповедь: лицо у Гогена мрачное, смятенное, взгляд ускользающий – неизвестность со всех сторон обступила этого человека, и он ее страшится. Как сладка была уверенность в завтрашнем дне! Как сладка и как ненавистна! «Да, я таков, иначе я поступить не могу».
Никогда еще Гоген не был так одинок, как в эти месяцы. Помощи ждать было не от кого. Не считать же помощью бесплодные советы тех, кто, подобно Метте, превратно судя о нем, уговаривал его вернуться к прежней работе, снова стать тем, кем он никогда не был. Незаурядность всегда влечет за собой одиночество – поступок, который совершил Гоген и который все окружающие осуждали, должен был бы открыть ему глаза на эту истину. Но Гоген, несомненно, был далек от того, чтобы уяснить эту грустную мысль.
Гоген пытался найти какой-то компромисс – способ заработать деньги, не теряя приобретенной свободы. Он поступил в страховое агентство к мэтру Альфреду Томро, на улице Амбуаз, 1[55]55
Сведения о деятельности Гогена в этой фирме у нас самые скудные. По-видимому, он пытался оформлять какие-то полисы. Во всяком случае, он застраховал или продлил страховку Писсарро.
[Закрыть]. Но там он оставался недолго. Ведь, по сути, он искал работу если не художественную, то хотя бы близкую к искусству. В июне, побывав вместе с Шуффенекером в Салоне, он пришел в восторг от замечательной коллекции выставленных там настенных ковров. Его воображение тотчас стало нашептывать ему, какие широкие возможности открываются на этом поприще для импрессионистов. Это был первый из множества бесчисленных проектов, задуманных Гогеном под давлением обстоятельств. «Верю, потому что хочу верить». Его чуждый реальности ум все время создавал иллюзии – они были для него не просто необходимостью, а чем-то большим: он защищался ими от щемящего душу страха.
С прошлой зимы Писсарро покинул Понтуаз и перебрался в расположенную поблизости деревню Они. Гоген, в начале года уже навещавший его в этой деревушке, 15 июня вновь приехал туда на три недели. Находясь там, Гоген поспешил поделиться с другом мыслью об импрессионистских коврах. Писсарро очень понравилась идея Гогена, он даже пообещал ему сам сделать наброски для ковров. Но проект так и остался проектом.
Писсарро, находившийся в ту пору «в глубоком душевном упадке»[56]56
Письмо Писсарро к Моне от 12 июня 1883 г.
[Закрыть], несомненно, предупреждал Гогена о том, какие трудности его ждут. Гоген не должен надеяться на Дюран-Рюэля, дела которого идут все хуже. Торговец не захотел взять на себя организацию очередной выставки импрессионистов, хотя его просил об этом сам Моне. Персональные выставки, которые он устроил поочередно – в марте Моне, в апреле Ренуару, в мае Писсарро и в июне Сислею, – не дали практических результатов. «Моя выставка совсем не принесла денег, – жаловался Писсарро. – А с выставкой Сислея и того хуже – ни гроша, ни гроша!»
Как видно, между Гогеном и Писсарро уже не было прежнего согласия. Писсарро все меньше понимал Гогена. В том, что Гоген так спешил продать картины, извлечь из них деньги, он видел склонность к торгашеству. Происшедшие события не раскрыли ему глаза на рассудительного биржевика. Он не понимал, что Гогену не терпится, потому что он лихорадочно жаждет успокоить себя – доказать себе, что он поступил правильно. «Он тоже отъявленный торгаш, во всяком случае, в своих замыслах, – писал вскоре Писсарро. – Я не решаюсь сказать ему, как это неправильно и как мало приносит пользы. У него большие потребности, семья привыкла к роскоши, все это верно, но это причинит ему большой вред.
Я вовсе не считаю, что не надо стремиться продавать, но, на мой взгляд, думать только об этом – значит тратить время попусту. Начинаешь терять из виду искусство и переоцениваешь себя».
В эту пору в Гогене уже прорисовывается новая личность. Мало того что ему нужны иллюзии, чтобы мужественно переносить положение, в котором он очутился после шага, совершенного в январе. Его поступок имеет смысл только если он «великий Гоген». И человек, который изобразил себя за мольбертом во всей неподдельности своего страха, расправляет плечи, выпрямляется, деревенеет в показной позе – и эта поза тоже самозащита против тоскливого страха, головокружительной бездны будущего.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































