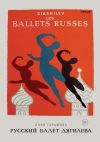Текст книги "Балерина из Санкт-Петербурга"

Автор книги: Анри Труайя
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
– Вы понимаете, Людочка, – причитала она, – чем больше молчишь о любви, тем больше возрастает чувство. Все поэты только о том и поют! Не потому ли так крепки наши с Василием чувства, что мы так никогда и не признались в ниx друг другу? И вот теперь его переводят в Москву – и все погибло, все рухнуло!
– Да, это, конечно, ужасно, – ответила я без большого в том убеждения.
– А вы… вы-то кого обожаете? – неожиданно спросила она. Застигнутая врасплох, я на мгновение заколебалась, но тут же обронила кончиками губ:
– Никого!
– В это невозможно поверить! Сколько же вам лет?
– Скоро двенадцать!
– В эти годы пробуждается сердце… Я в эти годы уже начала обожать! Но, может быть, вы просто холодна, как льдышка…
Меня это оскорбительное подозрение точно кнутом хлестнуло.
– Я не льдышка! – с негодованием пробормотала я. – Напротив… Я обжигаю всякого, к кому приближаюсь… Или, лучше сказать, я сама горю для них.
– Ну, а теперь для кого вы горите?
Я отыскала в полутьме взгляд Татьяны и произнесла на одном дыхании:
– Для мосье Мариуса Петипа!
Татьяна вздрогнула и чуть не упала на мою постель, на которой сидела.
– Это невозможно! – пробормотала она.
– Отчего же?
– Да оттого… что он стар!
Это был вызов, на который я не могла не дать ответ. Я почувствовала, как в моей спине прорастают крылья. Я внезапно сделалась мятежным ангелом.
– Это ничего не меняет! – ответила я. – Может быть, я его так обожаю именно потому, что он не юн!
Милосердная, как и положено «маленькой маме», Татьяна попыталась меня вразумить:
– Берегитесь, Людмила! Эта красивая мечта заведет вас в никуда! Очевидно, мосье Петипа еще красивый мужчина, но вам-то нет еще и двенадцати!
– Не ваша печаль мне о том напоминать!
– А если даже так… Бедняжка!.. Поразмыслите хорошенько! Мосье Петипа женат, он преданно любит свою жену… У него уже взрослые дети! У вас не сложится жизнь с ним, помяните мое слово!
– Так ведь вовсе не обязательно с кем-то жить и целовать кого-то, чтобы посвятить ему свою жизнь! – заявила я.
Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь… Я испугалась, что мои слова услышит весь дортуар, а может быть, и сама надзирательница. Но в спальне по-прежнему стояла гробовая тишина, и у меня отлегло от сердца.
– У вас, конечно, есть и другие мотивы, о которых мне не хочется знать. Все сентиментальные безумства достойны уважения! – заключила Татьяна, крепко обняв меня. – Помолчим об этом…
Еще какой-то миг мы побыли в объятиях друг друга; затем Татьяна отправилась к себе в постель, находившуюся в противоположном конце дортуара, а я свернулась клубочком в своей. Удивляясь, как это я могла поведать Татьяне о своих чувствах к Мариусу Петипа, я тем не менее ничуть не сожалела об этом. Я даже почувствовала, что это признание сбросило c души моей камень: с этой минуты я твердо знала, что самый важный в моей жизни персонаж – этот марселец с элегантной бородкой и живым взглядом, этот бог сцены, которого все ученицы нашей школы, даже выпускного класса, обожали не иначе как с трепетом. Я бессознательно сравнивала его с отцом – но тот был злоcчacтным комедиантом, топившим горе в вине, а герой моих мыслей был любимчиком всего Санкт-Петербурга. Я горевала о первом и восхищалась вторым. И засыпала с утопающей уверенностью, что была вдвойне права, посвящая свою жизнь танцу, а свое сердце – Мариусу Петипа.
III
Изо дня в день я все более предавалась хореографической экзальтации. Чем больше играла во мне амбиция сравниться с самыми знаменитыми европейскими балеринами, тем больше я теряла интерес ко всему, что не относилось к танцу. В моих глазах чарующий иллюзорный сценический мир и был доподлинным, настоящим миром, тогда как тот, что простирался за стенами балетной школы, со всеми его пошлостями и очевидностями, был не более чем миром ирреальным. Подвергая свое тело каждое утро методическим истязаниям экзерсисами, я требовала от него все новых подвигов, приближавших меня к безупречному мастерству. Голова моя, сердце и мускулы постоянно пребывали в поиске совершенства; работа у станка была для меня самоизнурением и молитвою одновременно. Я поздравляла себя с тем, что могла правильно исполнять арабески и аттитюды, гордилась своей прекрасной элевацией[4]4
Элевация – природная способность танцовщика исполнять высокие прыжки с пролетом и фиксацией в воздухе той или иной позы. (Прим. пер.)
[Закрыть], мечтала достичь виртуозности какой-нибудь звезды, знаменитой тем, что может исполнять четыре раза за спектакль три тура на пуантах, или заграничной знаменитости, лихо крутящей тридцать два фуэте[5]5
В ту пору исполнение 32 фуэте было в большую новинку в хореографическом искусстве, впервые в России 32 фуэте исполнила итальянка Пьерина Леньяни в партии Одиллии («Лебединое озеро», Мариинский театр, 1895 г.). Еще Анна Павлова в 1920-е годы считала этот вполне обыденный ныне элемент трюкачеством, достойным цирка. (Прим. пер.)
[Закрыть] подряд, не переставая улыбаться публике. Правда, если цель моя оставалась неизменною, то педагоги менялись от года к году, от класса к классу. Из рук мадам Стасовой я перешла в не менее чуткие руки Льва Иванова, Христиана Иогансона, Павла Гердта, не упоминая уже о других, не столь именитых наставниках, но хотя каждый из них имел свою методику преподавания, все они в большей или меньшей степени повиновались директивам Мариуса Петипа.
Великий маэстро теперь уже регулярно наведывался к нам на занятия, констатируя наш прогресс и указывая на недочеты. Его появления я каждый раз ожидала с нетерпением и в то же время боязливо. Чем старше классом я становилась, тем больше ощущала потребность в его наблюдении и суждении. Конечно же, это была жажда одобрения сродни той, которую благочестивые души испытывают к своему исповеднику. И в том и в другом случае – поиск поддержки свыше, но в еще большей степени – желание достичь посредством суровой дисциплины определенной цели, ибо я жаждала добиться пластического совершенства точно так же, как алчут достичь совершенства духовного благочестивые души. А впрочем, может быть, союз этих двух целей, на взгляд противоречивых, формирует единый лучезарный союз мысли и плоти? Не хочу показаться нескромной, но, хотя на меня порою нападала неуверенность, я ни разу не удостоилась от маэстро нелестного замечания. Его отеческие покачивания головой и снисходительные гримасы помогали мне обрести уверенность в себе до его следующего визита.
Вполне естественно, время от времени пансионерки получали разрешение повидаться с семьей – обыкновенно по воскресеньям. Ну, а с кем мне было еще повидаться, кроме родного отца? Но наши встречи всякий раз заканчивались разочарованием. Он говорил мне о людях, которых я не знала, а я пыталась заинтересовать его хореографическими представлениями, которые он был не в состоянии понять. Сами того не осознавая, мы становились чуждыми друг другу. Вместо того, чтобы соединить, танец разделял нас. После каждого свидания с отцом я возвращалась в Театральное училище с таким же облегчением, с каким изгнанник возвращается на родную землю.
Впрочем, бывали в моем замкнутом в четырех стенах школы бытии события еще более волнующие, чем даже визиты к нам в класс Мариуса Петипа, дающие мне возможность продемонстрировать ему мои достижения. Каждая из учениц горела желанием принять участие, пусть и в качестве фигурантки, в каком-нибудь спектакле на императорской сцене. Мне вскоре должно было стукнуть тринадцать, когда я была назначена вместе с пятью моими одноклассницами для краткого выхода на сцену в балете Людвига Минкуса «Дон Кихот», хореографом которого был Мариус Петипа. Мне оказывалась честь представлять символических ангелочков, этаких воздушных купидонов, неожиданно возникающих в саду Дульцинеи. Это будет моим сценическим крещением! От репетиции к репетиции голова моя переполнялась гордостью, а сердце сжималось со страху. Забывая об исключительной ничтожности своей роли, я воображала себе то как публика горячо рукоплещет мне стоя, то как я удираю в кулисы, преследуемая насмешками и свистками раздраженной толпы. В последние три ночи перед своим восхождением на театральный престол я едва могла сомкнуть глаза. В назначенный день надзирательница собрала нас и ровно в шесть часов усадила в большой крытый экипаж, который отвез нас в Александринский театр. Вообще-то театр находился в такой близости от училища, что нам ничего бы не стоило дойти пешком. Но таков был извечно заведенный порядок, что нас держали почти что за монахинь… Еще одна новость: в первый раз в жизни мое место было не в зале, среди зрителей, а на сцене, среди тех, чье ремесло – развлекать и очаровывать публику. Эта внезапная перемена местоположения явилась мне как знак решительного перелома в моем жизненном пути. Перейдя по другую сторону рампы, я была уже не той. Теперь мне достаточно было бросить взгляд на своих товарок, чтобы догадаться по их горделивому виду, что они разделяют мое веселое настроение, слегка окрашенное страхом. Когда нас отвели в общую артистическую уборную, гримерша причесала нас, как посчитала нужным, и наложила на наши щеки немного румян. Затем костюмерша принесла нам костюмы. Правда, нам уже приходилось облачаться в них, а также держать в руках аксессуары на последних репетициях, но сейчас мне казалось, что я открываю их в новом освещении. Это были короткие тюники из серебристой ткани, с прозрачными крылышками за спиною. Я находила этот костюм, при всей его странности, идущим мне к лицу, но сожалела, что приходилось держать в руках в качестве атрибута моей власти картонный лук со стрелами, – опасалась, что он будет стеснять мои движения.
Но, как только я выпорхнула на сцену, окруженная другими маленькими херувимчиками, мои опасения улетучились. Бросив взгляд в темную нору партера, наполненную скоплением лиц, я почувствовала в своей груди биение утоленной любви. Поглощаемая сотнями алчных взглядов, я почувствовала себя обнаженной и торжествующей одновременно. Это произошло на втором этапе, когда я вместе с другими купидончиками исполняла те элементарные па, которые нам были поручены. По окончании вариации на нас обрушился гул рукоплесканий, доставивший мне самое опьяняющее и самое эгоистическое удовольствие, которое я когда-либо знала. Потрясенная этим откровением, я вместе с другими купидончиками упорхнула со сцены – жаль было только оставлять другим, настоящим балеринам счастье слушать рукоплескания еще более бурные, чем те, которых удостоились мы. Когда я вернулась в кулисы, мне казалось, что у меня были настоящие крылья за спиною. Когда спектакль закончился, нас снова вызвали на сцену – приветствовать публику, стоя у самого задника, я снова услышала громовые аплодисменты. В этот миг я поняла, что от сегоднешнего дня мне никуда не уйти. Конечно, я знала, что этот оглушительный восторг адресован прежде всего первым танцовщицам и первым танцовщикам, но я вкушала честь пусть скромного, но участия в их апофеозе. Петипа был доволен нами: поздравив сперва звезд, он поблагодарил кордебалет, в том числе и шестерых купидончиков, за достойный вклад в успех спектакля. Покидая нашу артистическую, он отозвал меня в сторонку и прошептал:
– Браво, Людмила! Никогда не расслабляйся! Я убежден, что тебя ждет прекрасное будущее!
Я была так потрясена, что не знала, что и ответить. Ослепленная слезами радости, я пробормотала в ответ:
– Обещаю вам… Я не дам слабины… Спасибо, спасибо…
Тут я прочла во взглядах других амурчиков такое завистливое презрение, будто я у них что-то украла. Ничего не расслышав, они обо всем догадались. Моя «маленькая мама» Татьяна Власова, покровительница моих дебютов, и та пробурчала кисловатым тоном:
– Ну что ж, по-моему, твоя стрела Амура попала прямо в цель!
Эта ремарка вызвала общий смех. Я притворилась, что меня это тоже позабавило. По правде сказать, я была скорее смущена, чем польщена. К счастью, разговор на этом и закончился, и я возвратилась на грешную землю. Конечно, назавтра пришлось вместо серебристой тюники амурчика облачиться в повседневную школьную форму. Но и в неброском коричневом платье я уже не была прежней – пусть для других я оставалась все той же безымянной ученицей, но в мыслях я своею властью зажигала огни рампы, пробуждала оркестр, уснувший в своей оркестровой яме, зачаровывала толпы, накручивая без усилий не тридцать два, а целых тридцать четыре фуэте… Теперь я пребывала в уверенности, что балетная школа не то что не была тюрьмой, но стала – по крайней мере для меня – преддверием славы. Мне доставляло удовольствие размышлять о том, что я – любимая ученица Мариуса Петипа. Эта иллюзия была столь сильной, что я частенько забывала, сколько мне лет, и злилась, что дни рождения случаются так редко.
Конечно, я и в дальнейшем участвовала во многочисленных спектаклях – и не только в Александринке и Мариинке, но в летнюю пору еще и в спектаклях в Царском Селе и в Петергофе; но даже эти выходы в гала-представлениях для важных особ не вызывали во мне такого опьянения, как те шалости Купидона, истерзавшего сердце Рыцарю печального образа; я всe ждала нового, еще большего потрясения – оно не приходило, и это только подхлестывало меня. Это нетерпение, заодно с прилежанием, сделали свое дело: уже в мае 1889 года я посчитала себя готовой к выпускному экзамену[6]6
Видимо, закончить курс обучения в балетной школе за такой короткий срок – и впрямь признак особой одаренности. В более близкую к нам эпоху Рудольф Нуреев закончил Вагановское училище за неполные четыре года, но его взяли туда уже взрослым. (Прим. пер.)
[Закрыть]! И я получила возможность продемонстрировать все, на что способна, перед ареопагом знатоков… Да, это был чистый успех! Председательствовавший Мариус Петипа поздравил меня на глазах моих не столь удачливых учениц и подчеркнул тот факт, что годы учебы оказались для меня тем более плодотворными, что, обретая технику, достойную самых великих имен, мне удалось сохранить свою grâce naturelle[7]7
Природную грацию (фр.) – это было его излюбленным выражением!
[Закрыть].
Итак, со дня на день моя почти что монашеская жизнь в Театральном училище должна была закончиться. Еще немного, и я вырвусь из опекающей тени монастыря, где нас будил густой звон колокола, в суматоху нового мира, полного соблазнов, где сама моя свобода заключала в себе угрозу. Я подпишу контракт с дирекцией Императорских театров – точнее говоря, подпись под документом начертает мой отец, а я, как несовершеннолетняя, осторожненько нацарапаю свое имечко под его каллиграфически четким автографом.
Получая вполне достойное жалованье, я, конечно, предпочла бы нанять уютную квартиру только для себя; но отец рассчитывал на меня, борясь за жизнь посреди своих скорбей, слабостей и долгов. Могла ли я бросить его на произвол судьбы, отказавшись быть рядом с ним? Teм более что меня – скажу об этом прямо, без утайки – несколько страшила мысль о том, чтобы остаться наедине с собою. И я согласилась вернуться к нему, в нашу скромную квартиру на Полтавской улице, где прошло мое не слишком уж безоблачное детство. Старая кормилица моя, Аннушка, приняла меня, как будто я заново явилась в свет и своим вторым рождением осветила небогатое жилище. Свои балетные туфли я уложила в шкаф, где обитал мой давний утешитель в детских обидах – плюшевый мишка с оторванным ухом и изъеденной молью мордой. Сосуществование на одной полке мечтаний моего нежного возраста и свидетельств триумфа моего отрочества символизировали в моих мыслях неукротимую страсть к покорению вершин.
В первые месяцы, проведенные рядом с отцом, я убедилась, до какой стадии ущербности он докатился за те годы, что я провела в стенах Театрального училища. Он пил по-прежнему, но становился все менее стойким к воздействию алкоголя; его хмельные бредни, за которыми следовали продолжительные периоды уныния, усиливали во мне сознание моей ответственности и в то же время бессилия. Чередуя отвращение с жалостью, я не могла найти утешения даже в обществе Аннушки, c таким же бессилием взиравшей на то, как спивался с круга этот некогда талантливый человек, уделом которого были теперь старость и безволие. Одна лишь любовь к танцу да моральная привязанность к Maриусу Петипа (не ему ли я обещала быть достойной доверия, которое он мне постоянно выказывал?) удерживали меня от отчаяния.
Стремясь к совершенству на избранном поприще, я и через годы после окончания Театрального училища регулярно посещала класс даровитого педагога Энрико Чеккетти[8]8
Чеккетти Энрико (1850–1928) – итальянский артист, балетмейстер, педагог. В 1887 г. стал первым танцовщиком, с 1890-го балетмейстером, с 1892-го – репетитором Мариинского театра. В 1911–1921 гг. – педагог-репетитор Русского балета Дягилева; снискал славу как наставник великой Анны Павловой. (Прим. пер.)
[Закрыть]. Ежедневные упражнения у палки на время отвлекали меня от грустных мыслей о родителе. Подвергая члены своего тела изо дня в день все более строгим требованиям хореографии, я получала возможность изменить свою жизнь, свою среду, свою судьбу, свое положение, наконец, я не ведала иного желания, кроме как развиваться, вечер за вечером, у огней рампы, под звуки музыки, каждая нота которой находит отзыв в движениях моего тела. Когда порою мерзости и пошлости жизни приводили меня на грань отчаяния, я повторяла фразу маэстро Петипа: «Браво, Людмила! Никогда не расслабляйся! Я убежден, что тебя ждет прекрасное будущее!» Было ли это с моей стороны чудовищным эгоизмом? Не думаю. Пытаясь скрасить серость повседневности, батюшка мой прикладывался к бутылке, я же выкладывалась на сцене.
Вскоре после того, как я получила диплом об окончании Театрального училища, дирекция Императорских театров поручила мне три небольшие роли в спектакле «Спящая красавица». В первом акте я выступала в партии феи Кандид, во втором – изображала Маркизу, а в последнем – Красную Шапочку, пытающуюся обхитрить злого Волка. Ну, а главную партию – принцессы Авроры – танцевала итальянская прима-балерина Карлотта Брианца, о достоинствах которой говорил весь Петербург. Изысканная фантазия Мариуса Петипа являлась в каждой сочиненной им балетной фигуре. Едва начались репетиции, я загоралась от самой мысли, что я занята, пусть и на вторых ролях, в таком великолепном спектакле. Возвращаясь по вечерам к себе домой после репетиций, за которыми наблюдал сам французский маэстро, я твердила, что, даже если сломаю ногу после того, как единственный раз станцую перед публикой в этой чудесной «Спящей красавице», то и тогда у меня не будет права сетовать на судьбу, потому что и этот неполный час, что я проведу на сцене, озарит всю мою оставшуюся жизнь.
Исполненный бравуры эпизод из третьего акта – танец Красной Шапочки и Серого Волка – был отделан Мариусом Петипа с редкой изысканностью; на фоне могучих прыжков партнера юная женственная грация танцовщицы представала особо утонченной. По мере приближения даты спектакля я все более проникалась бесхитростною нежностью своей героини; игра в прятки между детскою чистотою Красной Шапочки и хитростью злого Волка, алчущего свежей плоти, меня до того забавляла, что я видела в ней наглядную иллюстрацию иных любовных приключений, слухи о которых доходили до меня в школе. Впрочем, что касалось вашей покорной слуги, то мальчики-одногодки ничуть не соблазняли меня, как и прежде, они интересовали меня потому, что выходили со мною на сцену в па-де-де либо в четверке, но не более того. Пока иные из моих подруг влюблялись в какого-нибудь из танцовщиков, чтобы иметь причину для мечтаний и страданий, я была поглощена исключительно мыслями о своей работе и о мосье Петипа, который был ее воплощением. Маэстро присутствовал на всех репетициях «Спящей красавицы»; его непреклонность в отношении нас диктовалась его всепоглощающею страстью к танцу. Он не спускал нам ни малейшей ошибки в положении ног или наклоне головы, заставлял раз за разом повторять па, которое казалось ему исполненным наспех, сам вскакивал на подмостки, чтобы продемонстрировать нам те или иные жесты рук или движения с покачиванием корпуса, которые могли ускользнуть от нашего внимания. Несмотря на возраст маэстро, его тело оставалось по-прежнему гибким. Наблюдая, как он управляет нашей труппой, я прониклась чувством, что он моделирует наши аттитюды, вдохновляясь той же волей, какой вдохновляется ваятель, который лепит из глины.
Время от времени к нам в театр наведывался сам Петр Ильич Чайковский и, усевшись в первый ряд партера, внимательно и безмолвно наблюдал за ходом репетиции. Он производил на меня впечатление, и не только благодаря своему громадному таланту, но и благодаря легенде, которая окутывала его имя в течение стольких лет. Седеющий, с короткой бородкой и пылкостью во взгляде, он выказывал столько же нервозности в манере держаться, сколько строгой элегантности в манере одеваться. В своем черном, наглухо застегнутом сюртуке, при накрахмаленном воротничке и аккуратно завязанном галстуке он походил бы на какого-нибудь высокопоставленного функционера, если бы глаза его порою не озарялись мистическим сиянием, которое, впрочем, тут же сменялось выражением взгляда загнанного в ловушку зверя. Я знала, что на своем шестом десятке он находился на вершине славы и от концерта к концерту по всей Европе опьянялся рукоплесканиями и меланхолией. В театральных кулисах перешептывались о «странностях» его интимной жизни, кое о каких вещах, о коих «не пристало говорить», и о том, что он выпивает, дабы забыть про все про это. Я задавалась вопросом, какого же еще утешения он ищет, ибо он, по-моему, достиг всяческого мыслимого и немыслимого счастья. Но то, что он, если верить любителям сплетен, имел некую склонность к хмельному, пробуждало во мне сочувствие: в этой слабости истинного гения я словно видела извинение жалкому существованию своего отца, топившего в рюмке печаль-тоску. Кстати, от меня не укрылось, что во время наших репетиций красивое, но озабоченное лицо Чайковского светлело и на нем возникало чувство облегчения – словно его околдовывала не только сочиненная им музыка, но и пластическое воплощение, которое мы сообщали ей. Наш язык столь точно соответствовал его языку, что он порою бил в ладоши после той или иной ловко выполненной вариации. Когда, искусно выстроив enchaînement, возвращался в зал Мариус Петипа, оба великих маэстро предавались тихим перешептываниям, прерываемым восклицаниями и смехом. Они были точно два старых лицедея, счастливых при виде удавшегося фарса. По всему было заметно, что согласие между ними выходило за рамки взаимного уважения, становясь неким веселым сговором. Колдуя над спектаклем, они пребывали в таком взаимопонимании, что, украдкою бросая на них взгляды, я порою путалась, кто из них сочинил музыку, а кто приспосабливал ее к действу на театральных подмостках.
* * *
Генеральная репетиция состоялась 2 января 1890 года. То там, то здесь носились слухи, что сам Государь Император Александр III с семейством изволит почтить событие своим присутствием. Такая перспектива подогрела во мне амбицию показать себя на высоте, достойной столь знаменательного события, и в то же время вселила в меня страх, что я окажусь технически не способной к этому. Еще задолго до поднятия занавеса все мы – от примы-балерины до последней девчушки из кордебалета – пребывали в состоянии транса. Из одной ложи в другую слышались все те же перешептывания:
– Вы действительно убеждены, что Государь изволит пожаловать?
– А то как же! Мне об этом только что сказал господин Петипа!
– Иван Всеволожский так не считает. По его словам, Его Величество в последнюю минуту может прислать вместо себя Великого князя Николая Александровича…
– Ну и что ж из этого? Это наш царевич… Рано или поздно он будет нашим Государем!
– Да, но он еще не стал им. Вот почему я предпочел бы, чтобы сам Государь оказал спектаклю честь своим присутствием! Да гляньте… Так и есть! Это Он! Он! Спасибо тебе, Боже…
Да, это действительно был обожаемый Государь! Когда он появился в зале, оркестр торжествующе грянул «Боже, Царя храни», от чего смолкли последние шептания. Находясь за занавесом, вся наша труппа слушала гимн, стоя навытяжку. Когда вновь воцарилась тишина, я слышала, как сердце мое колотится втрое чаще обычного. Первые такты музыки Чайковского удивили меня, как будто я слышала их в первый раз. Хоть я сотни раз репетировала самые простые фигуры моих танцев, я находилась под впечатлением, что у меня все вылетело вон из головы и что мне все придется сымпровизировать. Когда настал мой черед выходить на сцену, я истово «перекрестила грудь» и, будучи на грани остолбенения от эмоций, шагнула навстречу огням рампы… И тут же все мои волнения как рукой сняло! Не знаю, как это получилось, но я чувствовала себя на сцене как рыба в воде! Словно я сама написала ноты, которые командовали моими движениями. Мне казалось, что сквозь застилавшую мои глаза дымку я различала в глубине зала, в увенчанной двуглавым орлом Императорской ложе самого Государя, Императрицу и нескольких лиц в пышных мундирах. Да, там находились самые великие имена России – и моей задачей было развлекать их. Вот будет позор, если сорву пируэт или потеряю равновесие при выполнении арабеска! Но, танцуя партию феи Кандид, я держалась с уверенностью. И то сказать, не Государю, не членам Августейшей семьи посвящала я эту элегантную вариацию – одному лишь Мариусу Петипа, который, устроившись у себя в уголке позади занавеса, приглядывался к каждому из моих жестов с требовательностью, которую я, впрочем, почитала благосклонной. Его мнение было для меня куда важнее, чем мнение Императора. Последний властвовал одною лишь Россией, а первый властвовал танцем! Россия имеет границы, а у Танца их нет! Конечно, все это смутно перемешалось в моей голове, и тем не менее я была убеждена, что не заблуждаюсь в иерархии ценностей. Даже аплодисменты, приветствовавшие мой выход на сцену, не тронули меня так, как слова, которые прошептал мне вслед великий марселец, когда я спешила к себе в артистическую, чтобы сменить наряд феи на костюм Красной Шапочки. Когда же, переодевшись, я вновь пробегала мимо него, возвращаясь на сцену, он добавил:
– Если танец с Волком пройдет столь же успешно – обещаю тебе большую роль в следующем балете!
Мысль о таком продвижении наэлектризовала меня. Я с таким прилежанием изображала обезоруживающую наивность Красной Шапочки перед посягательствами Серого Волка, что по завершении номера удостоилась самой лестной овации. Вся Императорская ложа била в ладоши! После генеральной репетиции труппа в полном составе вышла приветствовать публику со всею учтивостью и почтительностью. Нас вызывали на поклоны шесть раз!
Император, Императрица и Его Высочество Великий князь Николай Александрович лично явились поздравить нас. Мы собрались в фойе, куда доступ остальной публике был закрыт. Александр III показался мне еще старше, задумчивее и благодушнее, чем на официальном портрете, который украшал нашу столовую в Театральном училище. Рослый, широкогрудый, с рыжеватой бородой, по которой пробегали седины, царь казался мне весьма импозантным, но тем не менее он не производил на меня такого впечатления, как Мариус Петипа, который теперь стоял, ссутулившись, опустив плечи и потупя взор. После того, как Его Величество густым басом похвалил хореографию «Спящей красавицы», к нему присоединилась вся великокняжеская компания. Словно смущенный оказываемой ему честью, великий хореограф все благодарил и благодарил высочайших гостей, и за такую скромность я готова была вдвойне ценить и уважать его. Государыню я удостоила лишь рассеянным взглядом – обратив, впрочем, внимание на то, сколько благородства было в ее манере держаться, – и быстро перевела глаза на царевича, столь прекрасного в своем мундире офицера Преображенского полка. Я знала, что все балерины были в большей или меньшей степени влюблены в него. Пройдет совсем немного времени, и по всему Петербургу только и разговоров будет, как настойчиво Великий князь ухлестывает за моей подругой по ремеслу – хорошенькой Матильдой Кшесинской, которая, конечно, никак не могла устоять перед обольстительным наследником Российской короны[9]9
Кшесинская Матильда (1872–1971) окончила Театральное училище в марте 1890 г.; на выпускном акте и состоялась ее первая встреча с наследником, будущим Императором Николаем II. С 1890 по 1917 г. – в Мариинском театре, в 1920 г. уехала во Францию. О романе балерины с наследником российского престола см. в ее книге «Воспоминания» (М., 1992 г.) См. об этом также в книге Анри Труайя «Николай II». (Прим. пер.)
[Закрыть]. Ну, а меня, клянусь честью, подобная галантная интрига не соблазнила бы вовсе. Зато я не упускала ни слова из тех комплиментов, коих удостоились истинные герои триумфального вечера. И Чайковский, сидевший на представлении своего шедевра в директорской ложе, по праву стяжал свою порцию похвал со стороны Государя и Августейшей семьи. Он принял их с меньшим раболепием, чем великий марселец, – понятно, ведь многочисленные успехи, которые он одерживал во многих странах, приучили его к наслаждению восхищением и поздравлениями. Кстати, по слухам, он опять собирался в заграничное путешествие – в Берлин и во Флоренцию, и царь изволил любезно задать ему вопрос, сколь долго собирался он оставаться за рубежом. Потом, не дожидаясь ответа, Государь повернулся к Мариусу Петипа и с улыбкой вопросил его:
– А откуда эта очаровательная Красная Шапочка?
Мой славный наставник небрежно бросил: мол, эта Красная Шапочка – одна из его недавних учениц. Но Государь не отступал:
– У нее ведь должно быть имя, как мне кажется.
На сей раз Петипа сделал знак мне, чтоб я ответила. Ошеломленная, я должна была восстановить дыхание, прежде чем смогла пролепетать:
– Меня зовут Людмила Арбатова, Ваше Величество.
– Мне приходилось знавать актера с такой фамилией…
– Это мой отец, Ваше Величество, – Иван Павлович Арбатов.
– Да, да. Что-то о нем больше не слышно…
– Он в отставке…
– Очень жаль! Он был так забавен в своих мимических номерах!
Потом, обратившись к Мариусу Петипа, Государь молвил отчетливо, чтобы слышали все:
– Эта Красная Шапочка – истинный продукт вашего обучения, мой милый Петипа! Мне ли не знать, с каким рвением вы делаете все во имя славы русской сцены!
Само собою разумеется, государевых похвал удостоились Карлотта Брианца и другие первые танцовщицы, которых Петипа по очереди представлял ему. Но, по правде говоря, после всего того, что царь высказал по моему поводу, я едва могла воспринимать похвалы, адресованные Его Величеством моим подругам по сцене. Когда же Его Величество со свитою собрались нас покинуть, мы всей труппой отдали знатным гостям глубокий поклон с реверансом. После этого, толкая друг друга и смущенно что-то бормоча, мы перешли в соседнюю комнату, где дирекция угостила нас традиционным шампанским по случаю генеральной репетиции.
Многочисленные зрители, коим пришлось постоять в почтительном отдалении, пока нас приветствовала царская семья, собрались в зале и под гул разговоров потягивали шампанское. Среди них я увидела своего отца. Ему страшно хотелось попасть на генеральную репетицию, и вот теперь он, слегка подшофе, о чем-то весело разглагольствовал с бокалом в руке среди группы неизвестных лиц. Опасаясь, как бы он не перебрал шампанского, я шагнула навстречу ему, намереваясь порекомендовать соблюдать умеренность. Увидев меня, родитель улыбнулся, подмигнул и изрек, подняв бокал:
– Пью за твой успех, крошка! И, между нами, ты заслуживаешь большего. Бокал шампанского – это за здравие других… А ты заслуживаешь благополучия, славы и кавалера у твоих ног! Трудись, дочурка! Слушай своих учителей, и ты станешь выше всех тех, кем восхищаешься! Но будь чутка, внимай голосу собственного сердца! Не попади в тенета, расставляемые судьбою! Часто бывает – соблазнишься знатным именем, пышным мундиром, споткнешься да сломаешь себе нос!
…Я много слышала о непростой судьбе великой Истоминой. Нелепое стечение обстоятельств разом лишило ее знатного покровителя при блестящем мундире, любимого человека и доброго, остроумного друга.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?