Читать книгу "Дама с собачкой"
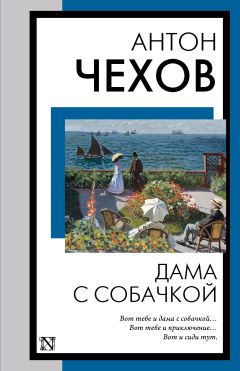
Автор книги: Антон Чехов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Полчаса сидела она, не шевелясь и не мешая себе думать об Ильине, потом лениво встала, поплелась в спальню. Андрей Ильич уж был в постели. Она села у открытого окна и отдалась желанию. «Путаницы» в голове уже не было у нее, все чувства и мысли дружно теснились около одной ясной цели. Попробовала она было бороться, но тотчас же махнула рукой… Ей теперь понятно было, как силен и неумолим враг. Чтобы бороться с ним, нужна сила и крепость, а рождение, воспитание и жизнь не дали ей ничего, на что бы она могла опереться.
«Безнравственная! Мерзкая! – грызла она себя за свое бессилие. – Так вот ты какая?»
До того возмущалась этим бессилием ее оскорбленная порядочность, что она обозвала себя всеми ругательными словами, какие только знала, и наговорила себе много обидных, унижающих истин. Так, она сказала себе, что она никогда не была нравственной, не падала раньше только потому, что предлога не было, что целодневная борьба ее была забавой и комедией…
«Допустим, что и боролась, – думала она, – но что это за борьба! И продажные борются, прежде чем продаться, а все-таки продаются. Хороша борьба: как молоко, в один день свернулась! В один день!»
Уличила она себя в том, что не чувство тянет ее из дому, не личность Ильина, а ощущения, которые ждут ее впереди… Дачная, гулящая барыня, каких много!
– «Как ма-ать убили у ма-алого птенца»{111}111
«Как мать убили у малого птенца» – песня Вани из III действия оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» (1836).
[Закрыть], – пропел кто-то за окном сиплым тенором.
«Если идти, так пора уж», – подумала Софья Петровна. Сердце ее вдруг забилось с страшной силой.
– Андрей! – почти крикнула она. – Послушай, мы… мы поедем? Да?
– Да… Я уже сказал тебе: поезжай сама!
– Но послушай… – выговорила она, – если ты со мной не поедешь, то рискуешь потерять меня! Я, кажется, уж… влюблена!
– В кого? – спросил Андрей Ильич.
– Для тебя должно быть всё равно, в кого! – крикнула Софья Петровна.
Андрей Ильич поднялся, свесил ноги и с удивлением поглядел на темную фигуру жены.
– Фантазия! – зевнул он.
Ему не верилось, но он все-таки испугался. Подумав и задав жене несколько неважных вопросов, он высказал свой взгляд на семью, на измену… поговорил вяло минут десять и лег. Сентенция его не имела успеха. Много на этом свете взглядов, и добрая половина их принадлежит людям, не бывавшим в беде!
Несмотря на позднее время, за окнами еще двигались дачники. Софья Петровна набросила на себя легкую тальму, постояла, подумала… У нее хватило еще решимости сказать сонному мужу:
– Ты спишь? Я иду пройтись… Хочешь со мной?
Это была последняя ее надежда. Не получив ответа, она вышла. Было ветрено и свежо. Она не чувствовала ни ветра, ни темноты, а шла и шла… Непреодолимая сила гнала ее, и, казалось, остановись она, ее толкнуло бы в спину.
– Безнравственная! – бормотала она машинально. – Мерзкая!
Она задыхалась, сгорала со стыда, не ощущала под собой ног, но то, что толкало ее вперед, было сильнее и стыда ее, и разума, и страха…
Тина{112}112
Впервые: Новое время. 1886. № 3832. 29 октября. С. 2–3. Подпись: Ан. Чехов.
«Тина» была встречена некоторыми читателями и критиками неприязненно. Уже вскоре после публикации Чехов получил от своей хорошей знакомой, детской писательницы М. В. Киселевой, письмо с сожалением о том, что «писатель… не обделенный от Бога» показывает «одну „навозную кучу“», не пытаясь найти в ней «жемчужное зерно». На это Чехов отвечал: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда безусловная и честная. Суживать ее функции такою специальностью, как добывание „зерен“… для нее смертельно. ‹…› Литератор должен быть так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые…»
И. А. Бунин включил «Тину» в список лучших, по его мнению, произведений Чехова.
[Закрыть]
IВ большой двор водочного завода «наследников М. Е. Ротштейн», грациозно покачиваясь на седле, въехал молодой человек в белоснежном офицерском кителе. Солнце беззаботно улыбалось на звездочках поручика, на белых стволах берез, на кучах битого стекла, разбросанных там и сям по двору. На всем лежала светлая здоровая красота летнего дня, и ничто не мешало сочной молодой зелени весело трепетать и перемигиваться с ясным, голубым небом. Даже грязный, закопченный вид кирпичных сараев и душный запах сивушного масла не портили общего хорошего настроения. Поручик весело спрыгнул с седла, передал лошадь подбежавшему человеку и, поглаживая пальцем свои тонкие черные усики, вошел в парадную дверь. На самой верхней ступени ветхой, но светлой и мягкой лестницы его встретила горничная с немолодым, несколько надменным лицом. Поручик молча подал ей карточку.
Идя в покои с карточкой, горничная могла прочесть: «Александр Григорьевич Сокольский». Через минуту она вернулась и сказала поручику, что барышня принять его не может, так как чувствует себя не совсем здоровой. Сокольский поглядел на потолок и вытянул нижнюю губу.
– Досадно! – сказал он. – Послушайте, моя милая, – живо заговорил он, – подите и скажите Сусанне Моисеевне, что мне очень нужно поговорить с ней. Очень! Я задержу ее только на одну минуту. Пусть она извинит меня.
Горничная пожала одним плечом и лениво пошла к барышне.
– Хорошо! – вздохнула она, вернувшись немного погодя. – Пожалуйте!
Поручик прошел за ней пять-шесть больших, роскошно убранных комнат, коридор и в конце концов очутился в просторной квадратной комнате, где с первого же шага его поразило изобилие цветущих растений и сладковатый, густой до отвращения запах жасмина. Цветы шпалерами тянулись вдоль стен, заслоняя окна, свешивались с потолка, вились по углам, так что комната походила больше на оранжерею, чем на жилое помещение. Синицы, канарейки и щеглята с писком возились в зелени и бились об оконные стекла.
– Простите, пожалуйста, что я вас здесь принимаю! – услышал поручик сочный женский голос, не без приятности картавящий звук р. – Вчера у меня была мигрень и, чтобы она сегодня не повторилась, я стараюсь не шевелиться. Что вы хотите?
Как раз против входа, в большом стариковском кресле, откинувши голову назад на подушку, сидела женщина в дорогом китайском шлафроке{113}113
Шлафрок (шлафор) – домашняя одежда, просторный халат без пуговиц, подпоясанный шнуром с кистями.
[Закрыть] и с укутанной головой. Из-за вязаного шерстяного платка виден был только бледный длинный нос с острым кончиком и маленькой горбинкой да один большой черный глаз. Просторный шлафрок скрывал ее рост и формы, но по белой красивой руке, по голосу, по носу и глазу ей можно было дать не больше 26–28 лет.
– Простите, что я так настойчив… – начал поручик, звякая шпорами. – Честь имею представиться: Сокольский! Приехал я по поручению моего кузена, а вашего соседа, Алексея Ивановича Крюкова, который…
– Ах, знаю! – перебила Сусанна Моисеевна. – Я знаю Крюкова. Садитесь, я не люблю, если передо мной стоит что-нибудь большое.
– Мой двоюродный брат поручил мне просить вас об одном одолжении, – продолжал поручик, еще раз звякнув шпорами и садясь. – Дело в том, что ваш покойный батюшка покупал зимою у брата овес и остался ему должен небольшую сумму. Срок векселям будет только через неделю, но брат убедительно просил вас, не можете ли вы уплатить этот долг сегодня?
Поручик говорил, а сам искоса поглядывал в стороны.
«Да никак я в спальне?» – думал он.
В одном из углов комнаты, где зелень была гуще и выше, под розовым, точно погребальным, балдахином стояла кровать с измятой, еще не прибранной постелью. Тут же на двух креслах лежали кучи скомканного женского платья. Подолы и рукава, с помятыми кружевами и оборками, свешивались на ковер, по которому там и сям белели тесемки, два-три окурка, бумажки от карамели… Из-под кровати глядели тупые и острые носы длинного ряда всевозможных туфель. И поручику казалось, что приторный жасминный запах идет не от цветов, а от постели и ряда туфель.
– А на какую сумму векселя? – спросила Сусанна Моисеевна.
– На две тысячи триста.
– Ого! – сказала еврейка, показывая и другой большой черный глаз. – А вы говорите – немного! Впрочем, всё равно, что сегодня платить, что через неделю, но у меня в эти два месяца после смерти отца было так много платежей… столько глупых хлопот, что голова кружится! Прошу покорнейше, мне за границу нужно ехать, а меня заставляют заниматься глупостями. Водка, овес… – забормотала она, наполовину закрывая глаза, – овес, векселя, проценты, или, как говорит мой главный приказчик, «прученты»… Это ужасно. Вчера я просто прогнала акцизного{114}114
Акцизный – чиновник, контролировавший поступление в казну акциза – косвенного налога на некоторые товары (алкоголь, табак, сахар).
[Закрыть]. Пристает ко мне со своим Траллесом{115}115
Траллес – спиртометр; изобретен немецким физиком И.-Г. Траллесом (1763–1822); применялся в России с 1863 г.
[Закрыть]. Я ему и говорю: убирайтесь вы к черту с вашим Траллесом, я никого не принимаю! Поцеловал руку и ушел. Послушайте, не может ли ваш брат подождать месяца два-три?
– Жестокий вопрос! – засмеялся поручик. – Брат может и год ждать, но я-то не могу ждать! Ведь это я, надо вам сказать, ради себя хлопочу. Мне нужны во что бы то ни стало деньги, а у брата, как нарочно, ни одного свободного рубля. Приходится поневоле ездить и собирать долги. Сейчас был у арендатора-мужика, теперь вот у вас сижу, от вас еще куда-нибудь поеду и так, пока не соберу пяти тысяч. Ужасно нужны деньги!
– Полноте, на что молодому человеку деньги? Прихоть, шалости. Что, вы прокутились, проигрались, женитесь?
– Вы угадали! – засмеялся поручик и, слегка приподнявшись, звякнул шпорами. – Действительно, я женюсь…
Сусанна Моисеевна пристально поглядела на гостя, сделала кислое лицо и вздохнула.
– Не понимаю, что за охота у людей жениться! – сказала она, ища вокруг себя носовой платок. – Жизнь так коротка, так мало свободы, а они еще связывают себя.
– У всякого свой взгляд…
– Да, да, конечно, у всякого свой взгляд… Но, послушайте, разве вы женитесь на бедной? По страстной любви? И почему вам нужно непременно пять тысяч, а не четыре, не три?
«Какой, однако, у нее длинный язык!» – подумал поручик и ответил:
– История в том, что по закону офицер не может жениться раньше 28 лет. Если угодно жениться, то или со службы уходи, или же взноси пять тысяч залога{116}116
…по закону офицер не может жениться раньше 28 лет. Если угодно жениться, то или со службы уходи, или же взноси пять тысяч залога. – По приказу военного министра от 6 января 1867 г. армейским офицерам моложе 23 лет запрещалось вступать в брак, а офицер моложе 28 лет, желавший создать семью, должен был предоставить доказательства материальной состоятельности.
[Закрыть].
– Ага, теперь понимаю. Послушайте, вот вы сейчас сказали, что у каждого свой взгляд… Может быть, ваша невеста какая-нибудь особенная, замечательная, но… я решительно не понимаю, как это порядочный человек может жить с женщиной? Не понимаю, хоть убейте. Живу я уже, слава тебе господи, 27 лет, но ни разу в жизни не видела ни одной сносной женщины. Все ломаки, безнравственные, лгуньи… Я терплю только горничных и кухарок, а так называемых порядочных я к себе и на пушечный выстрел не подпускаю. Да, слава богу, они сами меня ненавидят и не лезут ко мне. Коли ей нужны деньги, так она мужа пришлет, а сама ни за что не поедет, не из гордости, нет, а просто из трусости, боится, чтоб я ей сцены не сделала. Ах, я отлично понимаю их ненависть! Еще бы! Я откровенно выставляю на вид то, что они всеми силами стараются спрятать от Бога и людей. Как же после этого не ненавидеть? Наверное, вам про меня уж с три короба наговорили…
– Я так недавно сюда приехал, что…
– Но, но, но… по глазам вижу! А разве жена вашего брата не снабдила вас напутствием? Отпускать молодого человека к такой ужасной женщине и не предостеречь – как можно? Ха-ха… Но что, как ваш брат? Он у вас молодец, такой красивый мужчина… Я его несколько раз в обедне видела. Что вы на меня так глядите? Я очень часто бываю в церкви! У всех один Бог. Для образованного человека не так важна внешность, как идея… Не правда ли?
– Да, конечно… – улыбнулся поручик.
– Да, идея… А вы совсем не похожи на вашего брата. Вы тоже красивы, но ваш брат гораздо красивее. Удивительно, как мало сходства!
– Немудрено: ведь мы не родные, а двоюродные.
– Да, правда. Так вам непременно сегодня нужны деньги? Почему сегодня?
– На днях кончается срок моего отпуска.
– Ну, что ж с вами делать! – вздохнула Сусанна Моисеевна. – Так и быть уж, дам вам денег, хотя и знаю, что будете бранить меня. Поссоритесь после свадьбы с женой и скажете: «Если б та пархатая жидовка не дала мне денег, так я, может быть, был бы теперь свободен, как птица!» Ваша невеста хороша собой?
– Да, ничего…
– Гм!.. Все-таки лучше хоть что-нибудь, хоть красота, чем ничего. Впрочем, никакой красотой женщина не может заплатить мужу за свою пустоту.
– Это оригинально! – засмеялся поручик. – Вы сами женщина, а такая женофобка!
– Женщина… – усмехнулась Сусанна. – Разве я виновата, что Бог послал мне такую оболочку? В этом я так же виновата, как вы в том, что у вас есть усы. Не от скрипки зависит выбор футляра. Я себя очень люблю, но когда мне напоминают, что я женщина, то я начинаю ненавидеть себя. Ну, вы уйдите отсюда, я оденусь. Подождите меня в гостиной.
Поручик вышел и первым делом глубоко вздохнул, чтобы отделаться от тяжелого жасминного запаха, от которого у него уже начинало кружить голову и першить в горле. Он был удивлен.
«Какая странная! – думал он, осматриваясь. – Говорит складно, но… уж чересчур много и откровенно. Психопатка какая-то».
Гостиная, в которой он стоял теперь, была убрана богато, с претензией на роскошь и моду. Тут были темные бронзовые блюда с рельефами, виды Ниццы и Рейна на столах, старинные бра, японские статуэтки, но все эти поползновения на роскошь и моду только оттеняли ту безвкусицу, о которой неумолимо кричали золоченые карнизы, цветистые обои, яркие бархатные скатерти, плохие олеографии{117}117
Олеография – цветное воспроизведение картин, написанных маслом, с рельефным тиснением, имитирующим поверхности холста и рельефные мазки.
[Закрыть] в тяжелых рамах. Безвкусицу дополняли незаконченность и лишняя теснота, когда кажется, что чего-то недостает и что многое следовало бы выбросить. Заметно было, что вся обстановка заводилась не сразу, а частями, путем выгодных случаев, распродаж.
Поручик сам обладал не бог весть каким вкусом, но и он заметил, что вся обстановка носит на себе одну характерную особенность, какую нельзя стереть ни роскошью, ни модой, а именно – полное отсутствие следов женских, хозяйских рук, придающих, как известно, убранству комнат оттенок теплоты, поэзии и уютности. Здесь веяло холодом, как в вокзальных комнатах, клубах и театральных фойе.
Собственно еврейского в комнате не было почти ничего, кроме разве одной только большой картины, изображавшей встречу Иакова с Исавом{118}118
…картины, изображавшей встречу Иакова с Исавом. – Согласно Библии, братья Иаков и Исав оспаривали друг у друга право первородства. После многолетнего пребывания Иакова в Месопотамии братья встретились и примирились (Быт. 33: 1–16).
[Закрыть]. Поручик оглядывался кругом и, пожимая плечами, думал о своей новой, странной знакомке, о ее развязности и манере говорить. Но вот раскрылась дверь и на пороге появилась она сама, стройная, в длинном черном платье, с сильно затянутой, точно выточенной талией. Теперь уж поручик видел не только нос и глаза, но и белое худощавое лицо, черную кудрявую, как барашек, голову. Она не понравилась ему, хотя и не показалась некрасивой. Вообще к нерусским лицам он питал предубеждение, а тут к тому же нашел, что к черным кудряшкам и густым бровям хозяйки очень не шло белое лицо, своею белизною напоминавшее ему почему-то приторный жасминный запах, что уши и нос были поразительно бледны, как мертвые или вылитые из прозрачного воска. Улыбнувшись, она вместе с зубами показала бледные десны, что тоже ему не понравилось.
«Бледная немочь… – подумал он. – Вероятно, нервна, как индюшка».
– А вот и я! Пойдемте! – сказала она, идя быстро впереди его и обрывая на пути с цветов желтые листки. – Сейчас я дам вам деньги и, если хотите, покормлю завтраком. Две тысячи триста рублей! После такого хорошего гешефта вы с аппетитом покушаете. Нравятся вам мои комнаты? Здешние барыни говорят, что у меня пахнет чесноком. Этой кухонной остротой исчерпывается всё их остроумие. Спешу вас уверить, что чесноку я даже в погребе не держу, и когда однажды ко мне приехал с визитом доктор, от которого пахло чесноком, то я попросила его взять свою шляпу и ехать благоухать куда-нибудь в другое место. Пахнет у меня не чесноком, а лекарствами. Отец лежал в параличе полтора года и весь дом продушил лекарствами. Полтора года! Мне жаль его, но я рада, что он умер: так он страдал!
Она провела офицера через две комнаты, похожие на гостиную, через залу и остановилась в своем кабинете, где стоял женский письменный столик, весь уставленный безделушками. Около него, на ковре, валялось несколько раскрытых загнутых книг. Из кабинета вела небольшая дверь, в которую виден был стол, накрытый для завтрака.
Не переставая болтать, Сусанна достала из кармана связку мелких ключей и отперла какой-то мудреный шкап с гнутой, покатой крышкой. Когда крышка поднялась, шкап прогудел жалобную мелодию, напомнившую поручику Эолову арфу{119}119
Эолова арфа – музыкальный инструмент, состоящий из деревянного ящика, в котором натянуты 8–12 струн, которые издают гармоничные созвучия от движения воздуха.
[Закрыть]. Сусанна выбрала еще один ключ и вторично щелкнула.
– У меня здесь подземные ходы и потайные двери, – сказала она, доставая небольшой сафьяновый портфель. – Смешной шкап, не правда ли? А в этом портфеле четверть моего состояния. Посмотрите, какой он пузатенький! Ведь вы меня не придушите?
Сусанна подняла на поручика глаза и добродушно засмеялась. Поручик тоже засмеялся.
«А она славная!» – подумал он, глядя, как ключи бегают между ее пальцами.
– Вот он! – сказала она, выбрав ключик от портфеля. – Ну-с, г. кредитор, пожалуйте на сцену векселя. В сущности, какая глупость вообще деньги! Какое ничтожество, а ведь как любят их женщины! Знаете, я еврейка до мозга костей, без памяти люблю Шмулей и Янкелей, но что мне противно в нашей семитической крови, так это страсть к наживе. Копят и сами не знают, для чего копят. Нужно жить и наслаждаться, а они боятся потратить лишнюю копейку. В этом отношении я больше похожа на гусара, чем на Шмуля. Не люблю, когда деньги долго лежат на одном месте. Да и вообще, кажется, я мало похожа на еврейку. Сильно выдает меня мой акцент, а?
– Как вам сказать? – замялся поручик. – Вы говорите чисто, но картавите.
Сусанна засмеялась и сунула ключик в замочек портфеля. Поручик достал из кармана пачечку векселей и положил ее вместе с записной книжкой на стол.
– Ничего так не выдает еврея, как акцент, – продолжала Сусанна, весело глядя на поручика. – Как бы он ни корчил из себя русского или француза, но попросите его сказать слово пух, и он скажет вам: пэххх… А я выговариваю правильно: пух! пух! пух!
Оба засмеялись.
«Ей-богу, она славная!» – подумал Сокольский.
Сусанна положила портфель на стул, сделала шаг к поручику и, приблизив свое лицо к его лицу, весело продолжала:
– После евреев никого я так не люблю, как русских и французов. Я плохо училась в гимназии и истории не знаю, но мне кажется, что судьба земли находится в руках у этих двух народов. Я долго жила за границей… даже в Мадриде прожила полгода… нагляделась на публику и вынесла такое убеждение, что, кроме русских и французов, нет ни одного порядочного народа. Возьмите вы языки… Немецкий язык лошадиный, английский – глупее ничего нельзя себе представить: файть-фийть-фюйть! Итальянский приятен, только когда говоришь на нем медленно, если же послушать итальянских чечеток, то получается тот же еврейский жаргон. А поляки? Боже мой, господи! Нет противнее языка! «Не пепши, Петше, пепшем вепша, бо можешь пшепепшитсь вепша пепшем». Это значит: не перчи, Петр, перцем поросенка, а то можешь переперчить поросенка перцем. Ха-ха-ха!
Сусанна Моисеевна закатила глаза и засмеялась таким хорошим, заразительным смехом, что поручик, глядя на нее, весело и громко расхохотался. Она взяла гостя за пуговицу и продолжала:
– Вы, конечно, не любите евреев… Я не спорю, недостатков много, как и у всякой нации. Но разве евреи виноваты? Нет, не евреи виноваты, а еврейские женщины! Они недалеки, жадны, без всякой поэзии, скучны… Вы никогда не жили с еврейкой и не знаете, что это за прелесть!
Последние слова проговорила Сусанна Моисеевна протяжно, уже без воодушевления и смеха. Она умолкла, точно испугалась своей откровенности, и лицо ее вдруг исказилось странным и непонятным образом. Глаза, не мигая, уставились на поручика, губы открылись и обнаружили стиснутые зубы. На всем лице, на шее и даже на груди задрожало злое, кошачье выражение. Не отрывая глаз от гостя, она быстро перегнула свой стан в сторону и порывисто, как кошка, схватила что-то со стола. Все это было делом нескольких секунд. Следя за ее движениями, поручик видел, как пять пальцев скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад…
А она, не сводя с него испуганных, пытливых глаз, водила сжатым кулаком себя по бедру и искала кармана. Кулак судорожно, как пойманная рыба, бился около кармана и никак не попадал в щель. Еще мгновение, и векселя исчезли бы в тайниках женского платья, но тут поручик слегка вскрикнул и, побуждаемый больше инстинктом, чем разумом, схватил еврейку за руку около сжатого кулака. Та, еще больше оскалив зубы, рванулась изо всех сил и вырвала руку. Тогда Сокольский одной рукой плотно обхватил ее талию, другою – грудь, и у них началась борьба. Боясь оскорбить женственность и причинить боль, он старался только не давать ей двигаться и уловить кулак с векселями, а она, как угорь, извивалась в его руках своим гибким, упругим телом, рвалась, била его в грудь локтями, царапалась, так что руки его ходили по всему ее телу и он поневоле причинял ей боль и оскорблял ее стыдливость.
«Как это необыкновенно! Как странно!» – думал он, не помня себя от удивления, не веря себе и чувствуя всем своим существом, как его мутит от запаха жасмина.
Молча, тяжело дыша, натыкаясь на мебель, они переходили с места на место. Сусанну увлекла борьба. Она раскраснелась, закрыла глаза и раз даже, не помня себя, крепко прижалась своим лицом к лицу поручика, так что на губах его остался сладковатый вкус. Наконец, он поймал кулак… Разжав его и не найдя в нем векселей, он оставил еврейку. Красные, с встрепанными прическами, тяжело дыша, глядели они друг на друга. Злое, кошачье выражение на лице еврейки мало-помалу сменилось добродушной улыбкой. Она расхохоталась и, повернувшись на одной ноге, направилась в комнату, где был приготовлен завтрак. Поручик поплелся за ней. Она села за стол и, всё еще красная, тяжело дыша, выпила полрюмки портвейна.
– Послушайте, – прервал молчание поручик, – вы, надеюсь, шутите?
– Нисколько, – ответила она, запихивая в рот кусочек хлеба.
– Гм!.. Как же прикажете понять всё это?
– Как угодно. Садитесь завтракать!
– Но… ведь это нечестно!
– Может быть. Впрочем, не трудитесь читать мне проповедь. У меня свой собственный взгляд на вещи.
– Вы не отдадите?
– Конечно, нет! Будь вы бедный, несчастный человек, которому есть нечего, ну, тогда другое дело, а то – жениться захотел!
– Но ведь это не мои деньги, а брата!
– А брату вашему на что деньги? Жене на моды? А мне решительно всё равно, есть ли у вашей belle-soeur[43]43
Невестки (фр.).
[Закрыть] платья или нет.
Поручик уже не помнил, что он в чужом доме, у незнакомой дамы, и не стеснял себя приличием. Он шагал по комнате, хмурился и нервно теребил жилетку. Оттого, что еврейка своим бесчестным поступком уронила себя в его глазах, он чувствовал себя смелее и развязнее.
– Черт знает что! – бормотал он. – Послушайте, я не уйду отсюда, пока не получу от вас векселей!
– Ах, тем лучше! – смеялась Сусанна. – Хоть жить здесь оставайтесь, мне же будет веселее.
Возбужденный борьбою, поручик глядел на смеющееся, наглое лицо Сусанны, на жующий рот, тяжело дышащую грудь и становился смелее и дерзче. Вместо того, чтобы думать о векселях, он почему-то с какою-то жадностью стал припоминать рассказы своего брата о романических похождениях еврейки, о ее свободном образе жизни, и эти воспоминания только подзадорили его дерзость. Он порывисто сел рядом с еврейкой и, не думая о векселях, стал есть…
– Вам водки или вина? – спрашивала со смехом Сусанна. – Так вы останетесь ждать векселя? Бедняжка, столько дней и ночей придется вам провести у меня в ожидании векселей! Ваша невеста не будет в претензии?









































