Текст книги "Герман: Интервью. Эссе. Сценарий"
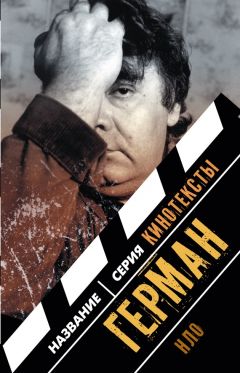
Автор книги: Антон Долин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В армию мы тоже попали вместе с Сударушкиным. Оказалось, что мы с нашими бумажками совершенно никому не нужны. Все нас отсылали к кому-то. Служили мы в Выборге – город тогда был закрытый, никуда не денешься. Тогда я, у которого были от папы деньжата, повел Сударушкина в военторг на территории части. Никакие документы там не требовались; я купил себе и Витьке гимнастерку офицерскую, погоны, штаны, сапоги, фуражки и звездочки. В таком виде явились… И все изменилось! Нам стали предлагать работу за работой. Так и живем: офицеры – и офицеры, никто ни о чем не спрашивает, никакого документа. Витька только иногда ко мне в каптерку забегал и говорил: «Слушай, когда выяснится – ебать будут страшно!» Я отвечал: «Но мы же действительно младшие лейтенанты, и никто не говорил нам, что мы не имеем права форму покупать».
Витька был человек невероятной наивности. Например, я над ним подшутил, сказав, что нам в пшенную кашу специально кладут черненькие зерна, чтобы член не стоял. А он тогда только что женился. Так я потом клялся и на коленях стоял – он не ел ничего, он из каши выковыривал черненькое!
История с формой закончилась достаточно трагически. Мы с Витькой в Выборге наткнулись на пьяного полковника. А в Выборге полковник – как в Москве маршал. Витька так испугался, что замахал руками и отдал ему честь левой рукой! Полковник пошел за нами. Долго шел, потом сказал: «Стоять!» Витька встал, я ушел дальше, но потом вернулся. «Вы поляки?» – «Нет, мы студенты…» – «Польские?» «Русские…» – «А почему честь левой рукой отдаете?» Полковник вызвал машину и отправил нас в гарнизонную тюрьму, как шпионов. Витька устраивал мне истерику за истерикой. Говорил, что нас посадят на восемь лет. Папа тогда поехал к командиру дивизии с ящиком коньяка, и довольно быстро нас выпустили.
Другими словами, из армии вы вернулись живым и невредимым?
К разговору о травмах: в Выборге я поймал триппер. Причем девушка, вылитая Гретхен, эдакая немецкая кукла, пыталась мне что-то объяснить, но я ее не слушал. И с этим, с трудом выбравшись из части, пришел к папе. Рассказал ему все. А тот мне ответил: «Какая ты сволочь! У тебя же девушка в Киеве». – «Так это в Киеве, а я в Выборге…» – «Ну, тоже логика есть». Папа тогда позвонил доктору Путерману, к которому я отправился с толстенной папиной книжкой «Россия молодая»; туда был вложен гонорар. Меня лечили-лечили, всю задницу искололи. А в армии об этом растрепали всем офицерам. И на экзамене мне подсунули билет «Посадка экипажа машины в кузов»: я должен был стремительно бежать и садиться на все места моего взвода! Все помирали от счастья. Но потом мне поставили пятерку.
И еще один травматический случай. От армии у меня осталась фотография – за мгновение до катастрофы. Я фотографируюсь с лошадью, которая на территории воинской части убирала снег. Лошадь уже подняла ногу, а я стою с улыбкой идиота. Через одну сотую долю секунды эта очень злая лошадь засадила мне между ног копытом так, что меня оттащили в лазарет – я был почти в обмороке. А пока стою, дурак дураком. Больше ничего не могу вспомнить об армии, кроме всеобщей и своей прелестной наивности.
А психологические травмы?
Скорее впечатления. Первое впечатление от армии было довольно ярким. Я вошел в столовую, где меня должны были покормить. Солдат сделал нечто вроде стойки и той же шваброй, которой он чистил страшный, грязный, заплеванный бетонный пол, почистил нам стол и сказал: «Садитесь!» Были в армии ребята, которые никогда в жизни не видели белья и никогда не наедались досыта – поэтому в армии им очень нравилось. А я стал командиром взвода связи. В связи я ничего не понимал, знал только, что в нормальной жизни бывает телефон-автомат, а в армии отдельно, телефон и автомат. Зато я быстро пронюхал, что связисты ездят на грузовиках, а остальные ходят на лыжах. Поэтому туда и устроился, сказав, что очень люблю связь.
Помню, рядом было несколько заправленных пустых коек, на которые мы не обращали внимания. Это были койки погибших солдат, которые на БТРе поехали не по толстому льду, указанному флажками, а напрямик, – и ушли под лед.
Как-то этот опыт пригодился вам впоследствии, когда вы снимали кино о войне?
Я подружился в части со странным человеком по фамилии Чапай. Он был внук или правнук Чапаева, офицер кремлевской роты. Папа и мама у него были секретари обкома. Из Кремля его сняли после того, как он что-то натворил с какими-то французскими манекенщицами и чуть не женился на дочке профессора. Отправили в Выборг. Мама у него была та еще штучка: донесла на сына, что он завербован разведкой, после того как ему по телефону позвонил какой-то Кранке – как потом выяснилось, вполне безобидный офицер из ГДР. Впоследствии этот Чапай стал помощником министра среднего машиностроения – то есть атомных дел. Мы с ним в армии дружили, оба подыхали от скуки. Много лет спустя, когда я запускался с «Проверкой на дорогах», какой-то дурак написал на студии воинскую заявку не на тот год. Войск нет, без них фильм не снимешь! Тогда я позвонил Чапаю. Уже к вечеру у нас были назначены встречи с несколькими генералами и маршалами из Генштаба. Он нам добыл консультантов мгновенно. Свой мир – другие возможности! Мир римских патрициев, который никогда до того с нашим миром не соприкасался. Мы были ему очень благодарны.
Театральный институт не помешал вам прикоснуться во время учебы и к кинематографу. Опять с подачи отца?
Папа меня все приобщал и приобщал к искусству, поскольку очень боялся, что я все-таки уйду в медицинский институт. Он договорился с Хейфицем, что тот возьмет меня ассистентом на съемки фильма «Дорогой мой человек». Но мест для ассистентов уже не было. Тогда папа внес деньги на мою зарплату и содержание в экспедиции. Я должен был получать их в кассе – только от меня скрывалось, что это деньги папы. Иосифа Ефимовича Хейфица я очень уважал и чтил, но мне очень не нравилось работать на картине «Дорогой мой человек». Они все время что-то изобретали с папой, были очень увлечены, а я все время чувствовал какой-то фальшак. И до сих пор смотреть не могу. Фальшивый текст, фальшивые актеры – почему? Папа никогда не писал фальшивые тексты…
Ко мне в экспедиции замечательно относились после того, что случилось в первые дни съемок. Баталов ужасно боялся белых мышей (потом их заменили на морских свинок), потому что они кусались. Он тут же начинал подпрыгивать. И камера снимала мою руку, которую изъедали белые мыши. За это меня очень полюбили.

На военных сборах. 1950-е годы

Юрий Герман. 1950-е годы

Татьяна Риттенберг
Работал я ассистентом на площадке – встречал, провожал. Помню, как к нам приехал генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Осликовский – из «золотой роты». Работал он в основном консультантом на фильмах, всегда был пьян. Он помогал нам ставить сцену атаки на город. На протяжении недели в Калининграде закладывали пиротехнику для взрывов и кучу дымов, из которых должна была получиться картина горящего города. По команде должны были пролететь самолеты и проехать новенькие, только что покрашенные полуторки, – а там должны были сидеть с лицами идиотов солдаты и смотреть в камеру. Это должен был быть второй план, а на первом Баталов и Мансурова ходили.
Осликовский сидел, курил и рассказывал о своих военных подвигах. Все ждали команды: он должен был махнуть рукой, а потом – самолеты, залпы орудий, дым, бомбы. Вдруг с вышки светотехник уронил на генерала стул. На Героя Советского Союза и кавалера всех орденов, да еще пьяного, стулья ронять не надо! Осликовский взревел и погрозил кулаком. Адъютант понял это как сигнал и выстрелил из ракетницы. И все пошло! А у нас даже не заряжена камера, Баталов не загримирован… Мы стоим, мимо нас летят самолеты, рушатся дома, зажигаются немыслимые костры из шин, едут солдаты с лицами идиотов. Хейфиц куда-то ушел, закрывшись подушками, а Осликовский стоит и курит: «Никак нельзя снять опять?» Можно себе представить мощь этой страны – ведь ничего не произошло! В этот же день вечером начали загружать новые баллоны и бомбы, подкрашивать полуторки.
Выступая в качестве ассистента на съемочной площадке, в институте вы уже сами ставили спектакли?
Да, на втором курсе я поставил первый акт «Обыкновенного чуда» Шварца с Сережей Юрским в роли Короля. Меня тогда мой ближайший друг на всю жизнь, хитрый Аркадий Кац, научил выгнать Юрского за то, что тот мотает репетиции. Просто ему Юрский тоже был нужен, в его отрывке он играл Сирано де Бержерака! Я последовал совету – и взял очень смешного артиста Сазонова. Тут же все посыпалось. Это был первый урок: типаж – мгновение, а актерский талант – это навсегда. Я извинялся перед Сережкой, ползал на коленях и вернул его обратно… Потом «Обыкновенное чудо» даже показывали по телевидению, меня сильно славили.
Хоть я и работаю очень много с типажами в кино, при этом знаю: типаж не может играть в кадре перемену состояния. Если может – значит, он не типаж, а большой артист. Вне зависимости от того, высшее ли у него образование, среднее или вообще нет образования. У артиста всегда интересное лицо и упругий взгляд. У тех артистов, которые снимаются в российских фильмах, дряблый взгляд. Даже у ведущих актеров. Особенно у знаменитых артистов из сериалов. Что они там играют? Что-то свое. Например, Пороховщиков играет «Обратите внимание, я – дворянского происхождения». Бывает еще хуже. А вот американцы – у них даже когда массовка на пляже собирается, у всех упругий взгляд… Голливуд я в большинстве своем не люблю и презираю, но актерское мастерство у них – на очень высоком уровне. В отличие от России.
С «Обыкновенным чудом» связано еще одно воспоминание. Однажды сцену закрыли и объявили срочное партийное собрание. А я знал свои декорации и спрятался за камином; была там дырка. Что такое – всех выметают, все бегают? Это был доклад Хрущева на двадцатом съезде. В декорациях шварцевского камина, среди углей и газет, я сидел – на корточках, весь перепачканный, боясь пошевельнуться – и слушал весь этот ужас. Потом я сразу побежал к папе и рассказал ему. Он ничего не знал! Не помню, как он отреагировал. Но запомнил другое. Когда Сталин умер, папа ходил по кабинету и говорил: «Сдох, сдох, сдох. Хуже не будет, хуже не будет, хуже не будет. Сдох, сдох, сдох…» И это папа, который Сталина в 1930-х годах обожал!
Вы в институте придерживались тех же взглядов?
В конце обучения мы сыграли капустник – не в институте, а в моей квартире. Капустник, из-за которого мы все должны были бы вылететь не только из института, но и из Ленинграда. У нас там был Сталин, был Берия. Все сидели в маминой комнате, там все и игралось. Точно за такой капустник вылетели из ВГИКа Валуцкий и Медведев – а наш капустник был еще злее! Но на нашем курсе не было доносчика. Единственная такая ячейка на весь Советский Союз. А может, был, но на нас махнули рукой, поскольку все происходило на квартире у Германа?
Вообще праздники все происходили у меня. Студенты были бедные, и мы покупали на рынке самое дешевое разливное вино, а еще лимоны и яблоки. После чего шли к папе и говорили: «Юрий Павлович, вы один умеете делать глинтвейн». Папа покупался, как младенец. Он ехал в магазин и приобретал там еще восемь бутылок коньяка, две бутылки водки, бутылку виски – а потом по рецепту варил огромную бадью глинтвейна, которой могло хватить на весь институт.
Политической фронды в моем поведении не было. Но, например, так совпало, что я работал только с двумя художниками. Один – Эдик Кочергин, второй – Олег Целков. Он жил напротив сортира, и над ним все смеялись. А мне почему-то было не смешно. Совсем недавно я нашел томик его абсолютно реалистических эскизов к моему спектаклю «Офицер флота». Интересно, почему я выбирал именно Кочергина, с которым я до сих пор дружу, или «дегенерата» Целкова, над которым хохотал весь курс, но который оказался мощным художником?
Закончили институт с хорошими оценками?
С пятерками. Наш выпускной экзамен происходил в танцклассе, и все билеты были пронумерованы. Мы на марксистско-ленинской философии заранее знали, кто какой билет тянет и отвечает – ведь запомнить это было невозможно! Открылась дверь широко, вошла комиссия, и все наши билеты взлетели в воздух. Я прыгнул за своим билетом так, как никогда не прыгнул бы на баскетболе, – и столкнулся в воздухе с Леней Менакером. Я легко получил свою пятерку, а он – нет: он в финале своего ответа заявил, что у нас диктатура партии. По-моему, ему поставили тройку.
Театральный институт был прекрасным периодом жизни, который я оцениваю только сейчас, на старости лет. Меня не то что любили, но ценили. Я понимал, что то, что я делаю, я делаю хорошо. Передо мной открывались окна в мир, который должен был быть прекрасен – особенно если меня похвалил Музиль или Кацман… Эти оценки были важнее любых других.
А потом в вашей жизни появился другой авторитет – Георгий Товстоногов.
Мне не сложно было бы пойти после института в кино. Ассистентом режиссера, например. Я бы пробился очень быстро – я энергичный, с хорошей головой, легко угадываю, что предложить собеседнику. Но я пошел ассистентом в театр, потому что туда меня позвал сам Товстоногов. Он пригласил меня в БДТ уже после того, как посмотрел «Обыкновенное чудо». Подошел ко мне и сказал: «Послушайте, Герман, не хотите поработать у меня? Посидите рядом, чему-то поучитесь, я у вас чему-то – ха-ха – поучусь… Мне показалось, что надо на молодых ставить». Я говорю: «Большое спасибо, кто ж от такого предложения отказывается!» Он пригласил меня заходить. Я зашел на следующий день. Он спрашивает: «Что же вы сразу не сказали, что вы сын Юрия Павловича?» Я говорю: «Представьте, вы бы мне сделали предложение, а я бы ответил – вы совершено правы, Георгий Александрович, потому что я не просто молодой человек, а сын вашего приятеля Юрия Германа, с которым вы накануне были в кавказском ресторане!» Он захохотал, и на какое-то время у нас установились хорошие отношения.
Когда я работал с Товстоноговым, сначала мне было очень уютно, потом неуютно. Дина Шварц, его завлит, которую я очень любил – прекрасная женщина, – думала не обо мне, а о выпускниках. Они меня то фарцовщиком называли, то говорили, что я не живу интересами театра. Так было до тех пор, пока в один прекрасный день в театре не началось бурное киноснимание. Все артисты должны были куда-то уезжать, и на каждом спектакле надо было их кем-то заменять. Тогда я из категории мальчиков при Товстоногове перешел в иную: стал человеком, от которого зависело, например, будет Копелян сниматься, или нет. У меня было по две-три репетиции в день.
Тогда же я получил единственную благодарность в трудовую книжку – так там у меня и осталось три увольнения и одна благодарность: за то, что я придумал, как в «Карьере Артуро Уи» в отсутствие артиста Корна все будут обращаться к пустому креслу, а его реплики раздал другим актерам.
Как скоро вы получили возможность поставить самостоятельный спектакль?
Первый спектакль я поставил в Смоленске. Правда, раньше Товстоногов предлагал мне поставить спектакль вместе с Игорем Владимировым. Но я уже понимал, что если спектакль будет хорошим, то будет считаться спектаклем Владимирова, которому помогал какой-то хрен. А если плохим – значит, Владимиров не смог помочь Герману. Я предпочел поехать в Смоленск. Очень интересное было путешествие. Чудовищная нищета, – какой-то двор объедков! – спутанная с огромным количеством секса в маленьком городе. Там первый секретарь обкома, бывший посол в Польше, вышел вечером прогуляться с женой, и комсомольский патруль тут же разрезал ему брюки. Гостиница была довольно шикарная, но только на вид. Когда туда въезжали иностранцы, сначала в номер вносили специальную банку: она взрывалась, заволакивала все густым дымом, и заходить можно было только минут через пятнадцать. Так травили клопов и вшей. Театр, в котором мы работали, был огромным. В полуподвале были комнаты для артистов, и там пахло так скверно, что надо было продышаться прежде, чем туда нырнуть. Но была интеллигенция, которая ходила в театр и его поддерживала.
Я поставил детскую сказку под названием «Мал, да удал». Мы сами рисовали светящейся краской на декорациях мышей, и от этого у нас с художником в темноте светились потом зубы и ногти. Там было бог знает что. Люди становились на электрические провода и рубились на мечах, а на мечах были электроды, и с них сыпались искры… Немыслимый спектакль. До сих пор горжусь тем, как я поставил там спектакль с огромным количеством трюков.
И это оценили?
Ко мне замечательно относились! Товстоногов прислал мне туда сначала поздравление с днем рождения, потом – официальную бумагу о том, что я зачислен в штат БДТ, и с тех пор у меня в Смоленске не было конкурентов. Местная пресса писала, что я поставил сказку, в которой «народ Африки расправляет свое стройное мускулистое тело». На премьеру приезжали папа и мама – но я их в театр не пустил, потому что мне самому спектакль не нравился. А афишу «Мал, да удал» я потом повесил над своей кроватью. Подошел папа и спросил: «Леша, тебе не кажется, что это нескромно?»
В Смоленске я очень дружил с директором театра Леонтием Чемезовым. Он снимал мне в гостинице специальный номер с двумя входами – один из коридора, другой через ресторан. Номер был двухкомнатный. Одна комната была Леонтия, другая моя. В комнате Леонтия всегда должен был быть шоколад и шампанское, потому что у него была мечта – когда-нибудь овладеть артисткой. Зачем? Не знаю. У меня такой мечты не было, потому что ко мне артистки ходили каждый день. Я все время выпивал его шампанское и сжевывал шоколадку, а потом покупал ему новые.
Уехал я из Смоленска ужасно больной. Вечером накануне ко мне должна была прийти дама и принести книжку: ходили слухи, что ее муж импотент, а она была красивой женщиной, актрисой. Она должна прийти – а я вдруг понял, что не могу ничего с ней сделать. Тогда я пошел и купил хвойный экстракт, который должен был меня подбодрить как самца. Я принял ванну, поставил шампанское и фрукты. Полез к ней, осознал полное свое бессилие и попросил ее сходить за градусником. У меня была температура тридцать девять! Мы отмечали мой отъезд, я себя плохо чувствовал, но мне наливали все время водку. Все острили, выпивали, веселились – а я умирал.
Чем же таким вас отравила провинция?
Когда приехала «Скорая помощь», мне не глядя диагностировали вирусный грипп. По дороге я потерял сознание: на самом деле у меня была вирусная желтуха, при которой нельзя пить водку. Меня привезли в Ленинград, и в доме уже было четыре или пять генералов медицины. Все были нетрезвы, все пили коньяк. Они поставили мне несколько жутких диагнозов – тиф, малярия, – а потом мама отдернула занавеску и сказала: «Товарищи генералы, он же желтый!» Генералы удалились на цыпочках, а меня отвезли в желтушную клинику.
Больница была одним из самых веселых впечатлений в моей жизни – особенно дня через три, когда перестала носом идти кровь. Я там был любимцем публики. Мне было скучно, и я придумывал всякое. Например, рано утром поставить капельницу рядом с кроватью человека, которому капельницу не назначали, – и дождаться, пока он не пойдет качать права у врачей. В одном углу палаты лежал однорукий прокурор, а в другом стоял стул с вертухаем, который охранял вора из «Крестов»: у них инфекционного отделения не было. Через всю палату они обсуждали вопросы права и нашей пенитенциарной системы. Было очень интересно.
Еще был в палате сексуально озабоченный человек, который ходил трахать медсестер на верхний этаж, и оттуда раздавались крики: «Ну, больной! Ах, больной! Ну какой же ты больной! Ой, больно-о-ой!» Было смешно. Кстати, рядом было женское отделение «Крестов», и там женщины часами висели на решетках, показывая, как в обезьяннике, попки и пипки. А ведь при желтухе тебя накачивают глюкозой, и ты ощущаешь себя мужчиной… А еще в больнице был замечательный врач, который мне тогда сказал: «Леша, запомните. Новорожденный спит с кормилицей, потом – с мамой, потом – с нянькой, потом – с барышней, потом – с женой, потом – с грелкой. Так вот, вы должны начинать с обратного: вы должны всегда спать с грелкой. А остальное – уже ваше дело».
Можно ли сказать, что Товстоногов научил вас чему-то важному – профессии или отношению к жизни?
От Товстоногова я не научился ничему. Но я пожил в стакане с очень высокой концентрацией нравственности, идейности и таланта. Главным образом таланта. На каком-то этапе я недолюбливал Георгия Александровича. Несправедливо. Я считал, что он из меня выпивает только то, что во мне на поверхности. Например, я часто переписывал пьесы известных драматургов, а театр за это давал мне премию 300 рублей. Однажды Товстоногов дал мне сцену переписать. Я принес ее наутро в его кабинет – там сидел Алешин, и Товстоногов, не читая, показал ему эту страницу: «Так вот, я тут прикинул…» То же самое повторилось и с Верой Пановой…
Писательские способности, которые во мне воспитывал папа, мне очень помогли в БДТ. Когда Хрущев обрушился на всех «пидарасов», Товстоногов был в Париже. Попало ему за эпиграф к спектаклю «Горе от ума»: «Догадал меня черт родиться в России с умом и талантом». Собрали собрание в Смольном, всех нас туда притащили. Что там несли наши корифеи, не поддается описанию! Товстоногов, например, вышел и сказал, что весна для него началась не по календарю, а с выступлением Никиты Сергеевича. А писатель Виктор Конецкий, с которым мы потом очень подружились, полез на трибуну и произнес такое, что потом, когда я ему это воспроизводил во дворе Смольного, клялся и божился, будто не произносил, и хохотал. Он, видишь ли, тонул на корабле, и когда все уже было безнадежно и соленая морская вода захлестывала рот, он подумал: «Почему я не коммунист?» В эту минуту он оторвался от палубы и был спасен. С тех пор он – коммунист.
Товстоногову надо было срочно что-то делать. Тогда он начал ставить «Поднятую целину», где я был уже не ассистент, а режиссер. Они с Диной Шварц поручали мне писать под Шолохова то, что было нужно! Пашка Луспекаев, который меня очень любил, говорил: «Ты пишешь так, что я не могу разобрать, где ты, а где Шолохов! Зачем тебе этот театр? Ты будешь лауреатом Нобелевской премии!» Там было много моих текстов. Но именно из-за этого потом мне стало скучно с Товстоноговым. Из-за этого я ушел. Я понял, что превращаюсь в человека, который не рождает что-то внутри, а угадывает, что понравится Георгию Александровичу – что приводило его в безумный восторг. Я знал, где он будет смеяться, а где встанет и скажет: «Так вот почему я работаю с молодыми!» Хотя с молодыми он не работал.
А с «Горем от ума» история вот как кончилась. Через какое-то время Товстоногов вызвал меня к себе и сказал: «Леша, я этого сделать не могу – а вы можете. Цитату нужно снять, но договоритесь со светотехниками, чтобы светилось желтое пятно, на котором раньше была цитата. Можете?» Я это сделал, и я этим горжусь. Так же, как, наверное, гордятся светотехники. Товстоногов говорил: «Люди придут, и кто-то будет знать, что здесь была цитата».
Что позволяет вам всегда вспоминать о БДТ с таким теплом? Атмосфера? Артисты? Полученный там опыт?
Там постоянно случались какие-то головокружительно прелестные или смешные вещи. Например, такой случай: начинается спектакль, гаснет свет, и вдруг по проходу идет женщина на высоких каблуках – цок-цок-цок-цок – так, что все обращают на нее внимание. Подходит к какой-то застывшей паре, снимает туфлю и со страшной силой бьет по голове сидящего лысого мужчину. Тот заливается кровью. Она надевает туфлю, разворачивается и – цок-цок-цок-цок – выходит из зала. Под бешеные аплодисменты.
Или, помню, в спектакле «Не склонившие головы» по сюжету одной цепью были скованы белый и негр. Весь сюжет был в том, что они не могут расковаться, хоть и не любят друг друга. А в результате полюбили. На одном спектакле, где я сижу как дежурный режиссер, они для наглядности пытаются порвать эту цепь… и она вдруг лопается! Что делать? Они не любят друг друга, а цепь лопнула – надо бежать в разные стороны! Ефим Копелян, игравший белого, погружается в пораженчество: сгибается, отходит в сторону и начинает тихо хихикать. Павел Луспекаев, игравший негра, поднимает цепь над головой и говорит: «Видишь, я свободен! Скоро и ты будешь свободен тоже». Хватает Копеляна и выбегает с ним за кулисы. Ни один человек в зале ничего не понял – но все решили, что так и должно быть.
Помню Луспекаева. Он обожал Товстоногова и работал самоотверженно. Пример для меня на всю жизнь. Иногда он разбивал голову в кровь – бился головой об стенку перед тем, как выйти на сцену в «Варварах». В Паше была какая-то необыкновенная мудрость. В ужасном спектакле «Четвертый» он играл Боннара, и на груди у него был медальон. Ни один человек не видел, кто в медальоне, но все знали, что там – женщина. Это был артист такой чувственности: ему было нужно, чтобы в медальоне был портрет кого-то, о ком он стал бы думать, умирая.
Я видел своими глазами, как Товстоногов на репетиции, как в стихотворении Пушкина, «рассек грудь» средне-хорошего артиста Стржельчика, вложил десницей кровавой другое сердце, и возник тот Стржельчик, который и есть Стржельчик. Товстоногов дал ему такую мощную краску, что мозги могли не выдержать! Я видел и как Товстоногов расправлялся с Дорониной. Она ушла из театра – ушла, потому что влюбилась, никто ее не осудит. Когда она решила вернуться, Товстоногов назначил ей в три часа дня встречу у своего кабинета. Она приходит, вокруг артисты: «Танечка, ты решила вернуться!» Но Товстоногов не приехал. Позвонил, извинился, перенес все на завтра. И так – три дня. Доронина уехала ни с чем… Товстоногов умел давать сдачи.
Могли ли в БДТ существовать рядом с Товстоноговым другие режиссеры? Каково им было?
Скажем, Аркадий Кацман, мой преподаватель в театральном институте, очень хотел быть режиссером. Он поставил в БДТ спектакль «Трасса». И на этом спектакле упал в оркестр. Оркестровая яма не была закрыта – над ней были мостки. Стржельчик рассказывал: «Шеф мне что-то говорит, Аркаша что-то говорит, но потом я перестаю его слышать: он упал в оркестр». Дальше надо было как-то выпутываться, как мужчине. А упал Кацман на виолончелистку, страшно толстую. Встал и спросил: «Ну что, играете? Ну, играйте, играйте хорошо» – и ушел, дико хромая. После этого его уволили. Я прибежал к Товстоногову: «Георгий Александрович, за что же Аркадия Иосифовича?» Он сказал мне: «Леша, человек, который упал в оркестр, не может быть режиссером в театре, я вас уверяю!» Я ответил: «Уверяю вас, талантливый человек может упасть в тарелку с супом или провалиться в говно, но остаться отличным режиссером. За что вы его убиваете – за преданность вам?» И Аркадия оставили!
Довольно часто жизнь сама вносила коррективы в план режиссера. На спектакле «Идиот» на сцену, где Рогожин вот-вот зарежет Настасью Филипповну, выходит кот. Огромный театральный кот садится и начинает смотреть спектакль. Какой Смоктуновский, какой Лебедев! Публика смотрит только на кота. Он хвостом в эту сторону – зрители ложатся от счастья; в ту сторону – опять ложатся. Еще Чехов писал, что, если бы театр состоял из одних накладок, публика бы платила в два раза дороже. Привели Товстоногова. Он шипит: «Что делать, что делать? Занавес!» Опускают занавес, все бросаются ловить кота, но кота нет. Ждут пять минут, поднимают занавес: кот опять на месте. Ужас! Товстоногов говорит: «Ведите снайпера». Спорить с ним бесполезно, люди устремляются за снайпером. Антракт. Снайперу показывают кота, которого опять нету. Снайпер говорит: «Вы с ума сошли? А если я промахнусь? А если срикошетит? Первые десять рядов освободить, светотехников убрать!»
Между тем начинается следующее действие. Кот, естественно, сидит. А у нас была в театре такая суфлерша Тамара – толстая тетка с обвисшими руками, которую Товстоногов сильно не любил: она подсказывала реплики громче артистов. Она же страстно любила театр, где работала с двенадцати лет. И вот, когда действие уже началось, а публика отвлекается от кота и начинает искоса поглядывать на Смоктуновского, открывается на авансцене люк, и оттуда тихо появляется рука Тамары – вся в фальшивых бриллиантах. Рука ползет к хвосту кота. Доползает, кот убирает хвост. Рука снова ползет, кот опять убирает хвост. Актеры вынуждены произносить тексты Достоевского. Зрители счастливы, как младенцы. Один уткнулся в подол супруги и отказывается поднять голову. Наконец рука хватает кота за хвост, тот вцепляется в руку когтями – брызжет натуральная кровь, кот цепляется за хвост, тянет на себя электрическую лампу, они исчезают в люке. Все в обмороке…
К чему сводились ваши обязанности сначала ассистента, а затем «дежурного режиссера»?
Должностью дежурного режиссера я очень гордился. Помню, как сижу на прекрасном спектакле «Лиса и виноград» и понимаю: либо меня надо сдать в психушку, либо все, что происходит на сцене, – полная и законченная фигня. Что несет на сцене Виталий Полицеймако – это только в артиллерийской песне можно спеть! «Лиса, съев виноград с ветки, сказала, что он еще зелен!» Публика замирает от восторга. Как вы понимаете, на самом деле лиса не могла дотянуться до винограда и поэтому сказала, что он зелен. И так – все до одной басни. Что происходило в тяжелой, неповоротливой, бешено талантливой голове? Я не знаю. Про него много чего рассказывали. Например, о том, как он в окне купе проезжающего поезда увидел Сталина и закричал «Ура-а-а-а!», а Сталин только вынул трубку и плюнул в его сторону.
Итак, после спектакля «Лиса и виноград» я к нему подхожу и говорю: «Виталий Павлович, у меня к вам разговор. Вы произносите со сцены не тот текст». Он говорит: «Ты фашист! Смотри – публика и не шевелилась!» Я отвечаю: «Это – талант, но только текст ваш не тот, это больничный бред». Потом иду к Товстоногову и требую снять меня со спектакля или изменить этот шизофренический бред. «Леша, а вы непьющий? Дыхните…» Я им рассказываю басню о лисе и винограде в версии Полицеймако. «Ну?», – говорит Товстоногов. Я повторяю. Говорю: «Это басня о чем – о кислотности желудочного сока лисы или о чем-то другом? Лиса не смогла достать виноград и поэтому назвала его зеленым – вот в чем мудрость! Кстати, лисы виноград не едят». Берут сценарий, понимают, что я прав. Зовут Виталия Павловича. Он приходит: «Вот это – молодые фашисты, они нас растопчут…» Товстоногов говорит: «Нет, вы басню расскажите!» Тот говорит, и они начинают спорить – лиса съела виноград или не съела… Меня даже никто не поблагодарил, а Полицеймако перестал со мной здороваться. И только когда я пригрозил, что уволюсь из театра, опять стал здороваться.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































