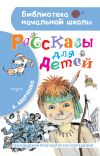Текст книги "Весёлые рассказы для детей"

Автор книги: Аркадий Аверченко
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
Славный ребёнок
I
Проснувшись, мальчик Сашка повернулся на другой бок и стал думать о промелькнувшем, как сон, вчерашнем дне.
Вчерашний день был для Сашки полон тихих детских радостей: во-первых, он украл у квартиранта полкоробки красок и кисточку, затем пристав описывал в гостиной мебель и, в-третьих, с матерью был какой-то припадок удушья… Звали доктора, пахнущего мылом, приходили соседки; вместо скучного обеда все домашние ели ветчину, сардины и балык, а квартиранты пошли обедать в ресторан – что было тоже неожиданно-любопытно и не похоже на ряд предыдущих дней.

Припадок матери, кроме перечисленных весёлых минут, дал Сашке ещё и практические выгоды: когда его послали в аптеку, он утаил из сдачи двугривенный, а потом забрал себе все бумажные колпачки от аптечных коробочек и бутылочек и коробку из-под пилюль.
Несмотря на кажущуюся вздорность увлечения колпачками и коробочками, Сашка – прехитрый мальчик. Хитрость у него чисто звериная, упорная, непоколебимая. Однажды квартирант Возженко заметил, что у него пропал тюбик с краской и кисть. Он стал запирать ящик с красками в комод и запирал их таким образом целый месяц. И целый месяц, каждый день после ухода квартиранта Возженко, Сашка подходил к комоду и проверял, заперт ли он? Расчёт у Сашки был простой – забудет же когда-нибудь Возженко запереть комод…
Вчера как раз Возженко забыл сделать это. Сашка, лёжа, даже зажмурился от удовольствия и сознания, сколько чудес натворит он этими красками. Потом Сашка вынул из-под одеяла руку и разжал её: со вчерашнего дня он всё носил в ней аптекарский двугривенный и спать лёг, раздевшись одной рукой.
Двугривенный, влажный, грязный, был здесь.
II
Налюбовавшись двугривенным, Сашка вернулся к своим утренним делишкам.
Первой его заботой было узнать, что готовит мать ему на завтрак. Если котлеты – Сашка поднимет капризный крик и заявит, что, кроме яиц, он ничего есть не может. Если же яйца – Сашка поднимет такой же крик и выразит самые определённые симпатии к котлетам и отвращение к «этим паршивым яйцам».
На тот случай, если мать, расщедрившись, приготовит и то, и другое, Сашка измыслил для себя недурную лазейку: он потребует оставшиеся от вчерашнего пира сардины.
Мать он любит, но любовь эта странная – полное отсутствие жалости и лёгкое презрение.
Презрение укоренилось в нём с тех пор, как он заметил в матери черту, свойственную всем почти матерям: иногда за пустяк, за какой-нибудь разбитый им бокал, она поднимала такой крик, что можно было оглохнуть. А за что-нибудь серьёзное, вроде позавчерашнего дела с пуговицами, она только переплетала свои пухлые пальцы (Сашка сам пробовал сделать это, но не выходило – один палец оказывался лишним) и восклицала с лёгким стоном:
– Сашенька! Ну что же это такое? Ну как же это можно? Ну как же тебе не стыдно?
Даже сейчас, натягивая на худые ножонки чулки, Сашка недоумевает, каким образом могли догадаться, что история с пуговицами – дело рук его, Сашки, а не кого-нибудь другого?
История заключалась в том, что Сашка, со свойственным ему азартом, увлёкся игрой в пуговицы… Проигравшись дотла, он оборвал с себя всё, что было можно: штанишки его держались только потому, что он всё время надувал живот и ходил, странно выпячиваясь. Но когда фортуна решительно повернулась к нему спиной, Сашка задумал одним грандиозным взмахом обогатить себя: встал ночью с кроватки, обошёл, неслышно скользя, все квартирантские комнаты и, вооружившись ножницами, вырезал все до одной пуговицы, бывшие в их квартире.

На другой день квартиранты не пошли на службу, а мать долго, до обеда, ходила по лавкам, подбирая пуговицы, а после обеда сидела с горничной до вечера и пришивала к квартирантовым брюкам и жилетам целую армию пуговиц. «Не понимаю… Как она могла догадаться, что это я?» – думал Сашка, натягивая на ногу башмак и положив по этому случаю двугривенный в рот.
Отказ есть приготовленные яйца и требование котлет заняло Сашкино праздное время на полчаса.
– Почему ты не хочешь есть яйца, негодный мальчишка?
– Так.
– Как – так?
– Да так.
– Ну, так знай же, котлет ты не получишь!
– И не надо.
Сашка бьёт наверняка. Он с деланой слабостью отходит к углу и садится на ковёр.
«Бледный он какой-то сегодня», – думает сердобольная мать.
– Сашенька, милый, ну, скушай же яйца! Мама просит.
– Не хочу! Сама ешь.
– А, чтоб ты пропал, болван! Вот вырастила идиота…
Мать встаёт и отправляется в кухню.
Съев котлету, Сашка с головой окунается в омут мелких и крупных дел.
Озабоченный, идёт он прежде всего в коридор и, открыв сундучок горничной Лизаветы, плюёт в него. Это за то, что она вчера два раза толкнула его и пожалела замазки, оставшейся после стекольщиков.
Свершив акт правосудия, идёт на кухню и хнычет, чтобы ему дали пустую баночку и сахару.
– Для чего тебе?
– Надо.
– Да для чего?
– Надо!
– Надо, надо… А для чего надо? Вот – не дам.
– Дай, дура! А то матери расскажу, как ты вчера из графина для солдата водку отливала… Думаешь, не видел?
– На, чтоб ты пропал!
Желание кухарки исполняется: Сашка исчезает. Он сидит в ванной и ловит на пыльном окне мух. Наловив в баночку, доливает водой, высыпает сахар и долго взбалтывает эту странную настойку, назначение которой для самого изобретателя загадочно и неизвестно.
До обеда ещё далеко. Сашка решает пойти посидеть к квартиранту Григорию Ивановичу, который находится дома и что-то пишет.
– Здравствуйте, Григориваныч, – сладеньким тонким голоском приветствует его Сашка.
– Пошёл, пошёл вон. Мешаешь только.
– Да я здесь посижу. Я не буду мешать.
У Сашки определённых планов пока нет, и всё может зависеть только от окружающих обстоятельств: может быть, удастся, когда квартирант отвернётся, стащить перо или нарисовать на написанном смешную рожицу, или сделать что-либо другое, что могло бы на весь день укрепить в Сашке хорошее расположение духа.
– Говорю тебе – убирайся!
– Да что я вам, мешаю что ли?
– Вот я тебя сейчас за уши да за дверь… Ну?
– Ма-ама-а!!! – жалобно кричит Сашка, зная, что мать в соседней комнате.
– Что такое? – слышится её голос.
– Тш!.. Чего ты кричишь, – шипит квартирант, зажимая Сашке рот. – Я же тебя не трогаю. Ну, молчи, молчи, милый мальчик…

– Ма-ама! Он меня прогоняет!
– Ты, Саша, мешаешь Григорию Ивановичу, – входит мать. – Он вам, вероятно, мешает?
– Нет, ничего, помилуйте, – морщится квартирант. – Пусть сидит.
– Сиди, Сашенька, только смирненько.
«Черти бы тебя подрали с твоим Сашенькой», – думает квартирант, а вслух говорит:
– Бойкий мальчуган! Хе-хе! Общество старших любит…
– Да, уж он такой, – подтверждает мать.
IV
За обедом Сашке – сплошной праздник.
Он бракует все блюда, вмешивается в разговоры, болтает ногами, руками, головой, и, когда результатом соединённых усилий его конечностей является опрокинутая тарелка с супом, он считает, что убил двух зайцев: избавился от ненавистной жидкости и внёс в среду обедающих весёлую, шумную суматоху.
– Я котлет не желаю!
– Почему?
– Они с волосами.
– Что ты врёшь? Не хочешь? Ну, и пухни с голоду.
Сашка, заинтересованный этой перспективой, отодвигает котлеты и, притихший, сидит, ни до чего не дотрагиваясь, минут пять. Потом решив, что наголодался за этот промежуток достаточно, пробует потихоньку живот: не распух ли?
Так как живот нормален, то Сашка даёт себе слово когда-нибудь на свободе заняться этим вопросом серьёзнее – голодать до тех пор, пока не вспухнет, как гора.
Обед окончен, но бес хлопотливости по-прежнему не покидает Сашки.
До отхода ко сну нужно ещё зайти к Григорию Ивановичу и вымазать салом все стальные перья на письменном столе (идея, родившаяся во время визита), а потом не позабыть бы украсть для сапожникова Борьки папирос и вылить баночку с мухами в Лизаветин сундук за то, что толкнула.
Даже улёгшись спать, Сашка лелеял и обдумывал последний план: выждавши, когда все заснут, пробраться в гостиную и отрезать красные сургучные печати, висящие на ножках столов, кресел и на картинах…
Они очень и очень пригодятся Сашке.
Трава, примятая сапогом
– Как ты думаешь, сколько мне лет? – спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая тёмными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом…
– Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.
– Нет, серьёзно. Ну, пожалуйста, скажи.
– Тебе-то? Лет восемь, что ли?
– Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.
– Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось и женишка уже припасла?
– Куда там! (глубокая поперечная морщина сразу выползла на её безмятежный лоб). Разве теперь можно обзаводиться семьёй? Всё так дорого.

– Господи Боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?
– Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдём, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.
– Поцелуй её от меня в лапку. Но как же мы пойдём на речку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.
– Неужели ты боишься? Вот ещё глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдём?
– Ну, раз стих – это дело десятое. Тогда не лень и пойти…
По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:
– Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.
– Слушаю-с. Если я его встречу, я дам ему по морде.
– Знаешь, ты ужасно комичный.
– Ещё бы. На том стоим.
На берегу реки мы преуютно уселись на камушке под развесистым деревцом. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдалённым выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб. Она потёрлась порозовевшей от ходьбы щёчкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:
– Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?
Я испуганно отодвинулся от неё и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:
– Чего, чего?
Она повторила.
Я тихо обнял её за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:
– Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.
– Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:
Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнули Макса
Руки, точно вакса.
Волосы, как швабра,
Чешет их не храбро…
– Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном слове» прочитала.
– Здорово сработано. Ты их маме-то читала?
– Ну, знаешь, ей не до того, прихварывает всё.
– Что же с ней такое?

– Малокровье. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти… азотистые тоже в организм не… этого… не входили. Ну, одним словом – коммунистический рай.
– Бедный ребёнок, – уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.
– Ещё бы не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?
– Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.
– Ну, ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?
– Где там! Всю жизнь мечтал об этом – не удаётся…
– А знаешь, у меня одна знакомая девочка достаёт: очень комично.
С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.
– Вишь ты, как пулемёты работают, – сказал я, прислушиваясь.
– Что ты, братец, – какой же это пулемёт? Пулемёт чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щёлкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.
Ба-бах!
– Ого, – вздрогнул я, – шрапнелью ахнули.
Её серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением.
– Знаешь, если ты не понимаешь – так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трёхдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный заряд воет, как собака. Очень комичный.
– Послушай, клоп, – воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая её розовые пухлые щёчки, вздёрнутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала опустившиеся к башмакам носочки. – Откуда ты всё это знаешь?
– Вот комичный вопрос, ей-Богу! Поживи с моё, ещё не то узнаешь.
А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

– Ты знаешь, какого мне достань котёночка? Чтоб у него был розовенький носик и чёрненькие глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котёнков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!
* * *
По зелёной молодой травке ходят хамы в огромных тяжёлых сапожищах, подбитых гвоздями.
Пройдут по ней, примнут её.
Прошли – полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелёк, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под тёплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своём, о малом, о вечном.