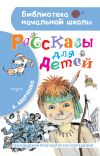Текст книги "Весёлые рассказы для детей"

Автор книги: Аркадий Аверченко
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно – с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании.

Лица всех трёх загорели, голоса от ночёвок на открытом воздухе огрубели, тем более, что всё это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:
– Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Моё ружьё опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!
К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении? Дети успокаивали меня, как могли:
– Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!
– Тысяча громов! – хвастливо кричал Ванька. – А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдёт!
– Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.
– Ничего, Миша! – успокаивал меня Лёлька, хлопая по плечу. – Зато хорошо пожили!
Вечером приехали из города родители, немка и та самая «глупая тётка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.
Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.
Я извлёк их всех из этих мест, ввёл в столовую, где сидело всё общество, закусывая с дороги, и сказал:
– Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашёл путь к их сердцу… Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?
– Тебя! – хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.
– Пошли вы бы со мной на грабёж, на кражу, на лишения, холод и голод?
– Пойдём, – сказали все трое, а Лёлька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.
– Было ли вам эти три дня весело?
– Ого!!
Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с чёрными от загара лицами, облачённые в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопчёнными порохом и дымом костра.
Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лёльке, сонно хлопавшему глазёнками:
– Так ты бы бросил меня и пошёл бы за ним?
– Да! – сказал бесстрашный Лёлька, вздыхая. – Клянусь своей бородой! Пошёл бы.
Лёлькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тётя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.
Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:
– Хохочет… Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили! Дура.
Двуличный мальчик
I
Авторы уголовных романов и их читатели не поняли бы странной двойственной натуры мальчишки Алёшки – натуры, которая в своё время привела меня в восхищение и возмутила меня.
Авторы уголовных романов и их читатели прославились своей прямолинейностью, которая обязывала их не заниматься смешанными типами. Злодеи должны быть злодеями, добрые – добрыми, а если капелька качеств первых попадала на вторых или наоборот – всё кушанье считалось испорченным… Злодей – должен быть злодеем, без всяких увёрток и ухищрений… Он мог раскаяться, но только в самом конце, и то при условии, что, в сущности, он и раньше был симпатичным человеком. Добрый тоже мог стать в конце романа злым, бессердечным, но тоже при условии, что автор опрокинет на него целую гору несчастий, людской несправедливости и тягчайших разочарований, которые озлобят его. Ни в одном из таких романов я не встречал жизненного простого типа, который сегодня поколотил жену, а завтра подаст гривенник нищему, утром прилежно возится у станка, штампуя фальшивые деньги, а вечером вступится за избиваемого еврея.

Человек – более сложный механизм, чем, например, испанский кинжал, вся жизнь которого сводится только к двум чередующимся поступкам: он или режет кому-нибудь горло, или не режет.
Попадись автору уголовных романов Алёшка – он повертел, повертел бы его, понюхал, лизнул бы языком и равнодушно отбросил бы прочь.
– Чёрт знает, что такое!.. Ни рыба ни мясо.
В жизни не так много типов, чтобы ими разбрасываться…
Я подбираю брошенного разборчивым романистом Алёшку и присваиваю его себе. Об Алёшке я сначала думал, как о прекрасном, тихом, благонравном мальчике, который воды не замутит. В этом убеждали меня все его домашние поступки, всё комнатное поведение, за которым я мог следить, не сходя с места.
Мы жили в самых маленьких, самых дешёвых и самых скверных меблированных комнатах. Я – в одной комнате, Алёшка с безногой матерью – в другой.
Тонкая перегородка разделяла нас.
Я так часто слышал мягкий, кроткий Алёшкин голос:
– Мама! Хочешь, ещё чаю налью? Отрезать ещё кусочек колбасы?
– Спасибо, милый.
– Книжку тебе ещё почитать?
– Не надо. Я устала…
– Опять ноги болят? – слышался тревожный голос доброго малютки. – Господи! Вот несчастье, так несчастье!..
– Ну ничего. Лишь бы ты, крошка, был здоров.
– Ну-с, – важно говорил Алёшка, – в таком случае, ты спи, а я напишу ещё кое-какие письма.

Было ему около десяти лет.
Однажды я встретился с ним в коридоре.
– Тебя Алёшкой зовут? – спросил я, вежливо, ради первого знакомства, дёргая его за ухо.
– Алёшкой. А что?
– Да ничего. Ну, здравствуй. У тебя мать больная?
– Да, брат, мать больная. С ногами у неё неладно. Не работают.
– Плохо ваше дело, Алёшка. А деньги есть?
– В сущности, – сказал он, морща лоб, – денег нет. Тем и живём, что я заработаю.
– А чем ты зарабатываешь?
Посмотрев на меня снизу вверх (я был в три раза выше его), он с любопытством спросил:
– Тебе там наверху не страшно?
– Нет. А что?
– Голова не кружится?
Я засмеялся.
– Нет, брат. Всё благополучно.
– Ну, и слава Богу! До свиданья-с.
Он подпрыгнул, ударил себя пятками по спине и убежал в комнату матери.
Эти нелепые замашки в таком благонравном мальчике удивили меня. С матерью он был совсем другим. Я понял, что хитрый мальчишка надевает личину в том или другом случае, и решил при первой возможности разоблачить его.
Но он был дьявольски хитёр. Я несколько раз ловил его в коридоре, подслушивал его разговоры с матерью – всё было напрасно. При встречах со мной он был юмористически нахален, подмигивал мне, хохотал, а сидя с матерью, трогательно ухаживал за ней, читал ей книги и в конце вечера неизменно говорил, с видом заправского молодого человека:
– Ну-с, а мне нужно написать кое-какие письма.
Я приставал к нему несколько раз с расспросами:
– Что это за письма?
Он был непроницаем.
Однажды я решился на жестокость.
– Не хочешь говорить мне, – равнодушно процедил я, – и не надо. Я и сам знаю, кому эти письма…
– Ну? Кому? – тревожно спросил он.
– Разным благодетелям. Ты каждый день с этими письмами пропадаешь на несколько часов… Наверное, таскаешься по благотворителям и клянчишь.
– Дурак ты, – сказал он угрюмо. – Если бы я просил милостыни, то и у тебя просил бы. А я заикнулся тебе хоть раз? Нет.
И добавил с напыщенно-гордым видом:
– Не беспокойся, брат… Я не позволю себе просить милостыни… Не таковский!
Должен признаться: я был крайне заинтересован таинственным Алёшкой. Сказывались мои двадцать два года и двадцать четыре часа свободного времени в сутки.
Я решил выследить Алёшку.
II
Был тёплый летний полдень.
Из-за перегородки слышался монотонный голос Алёшки, читавшего матери «Анну Каренину». Через некоторое время он прервал чтение и заботливо спросил:
– Устала?
– Немного.
– Ну, отдохни. А я пойду. Если захочется без меня кушать, смотри сюда: вот ветчина, холодные котлеты, молоко. Захочется читать – вот книга. Ну, прощай.
В последовательном порядке послышались звуки: поцелуя, хлопнувшей двери и Алёшкиных шагов в коридоре.
Я схватил шляпу и тихонько последовал за Алёшкой.
Через двадцать минут мы оба очутились в Летнем саду, наполненном в это время дня дряхлыми старичками, няньками с детьми и целой тучей девиц с вечными книжками в руках.
Алёшка стал непринуждённо прохаживаться по аллеям, бросая в то же время косые проницательные взгляды на сидевших с книжками девиц и дам и делая при этом такой вид, будто бы весь мир создан был для наслаждений и удовольствий.
Неожиданно он приостановился.
На скамейке, полускрытой зелёным кустом, сидела сухая девица и, опустив книгу на колени, мечтательно глядела в небо. Думы её, вероятно, витали далеко, отрешившись от всего земного, рассеянный взгляд видел в пространстве его, прекрасного чудесного героя недочитанной книги, обаятельного, гордого красавца, а неспокойное сердце девичье крепко и больно колотилось в своей неприглядной, по наружному виду, клетке.
Алёшка тихо приблизился к мечтательнице, стащил с головы фуражку и почтительно сообщил:
– А вам, барышня, письмецо есть…
– От кого? – вздрогнула девица и обернула к Алёшке своё, ставшее сразу пунцовым лицо.
– От «него», – прошептал Алёшка, щуря глаза, с самым загадочным видом.

– А… кто… он?.. – ещё тише, чем Алёшка, прошелестела девица.
– Не велено сказывать. Ах! – вскрикнул он неожиданно (будто прорвался) с самым простодушным глуповатым восторгом. – Если бы его видели; такой умница, такой красавец – прямо удивительно!
Девица дрожащими руками взяла письмо… на лице её было написано истерическое любопытство. Грудь тяжело вздымалась, а маленькие бесцветные глаза сияли, как алмазы…
– Спасибо, мальчик. Ступай… Впрочем, постой. Вот тебе!
Девица порылась в ридикюле, вынула две серебряных монеты и сунула их в руки доброму вестнику.
Добрый вестник осыпал её благодарностями, отсалютовал фуражкой и сейчас же деликатно исчез, не желая присутствовать при такой интимности, как чтение чужого письма.
Сидя на противоположной скамье, я внимательно следил за девицей. Бледная, как смерть, она лихорадочно разорвала конверт, вынула из него какую-то хитроумно сложенную бумажку, развернула её, впилась в неё глазами и сейчас же с лёгким криком уронила её на пол… Бесцветные глаза девицы метали молнии, но она быстро спохватилась, напустила на себя равнодушный вид, поднялась, забрала свою книгу, сумочку и быстро-быстро стала удаляться.
Когда она скрылась с глаз, я вскочил, поднял брошенное письмо от «него» и прочёл в этом таинственном письме только одно слово:
– Дура!
Второе лицо Алёшки было разгадано.
III
Алёшка выходил из сада, распространив все свои письма и легкомысленно позвякивая серебром в растопыренном кармане.
У входа я поймал его, крепко схватил за руку и прошипел:
– Ну-с, Алёшенька… Теперь мы знаем ваши штуки!..
– Знаешь? – сказал он цинично, нисколько не испугавшись. – Ну, и на здоровье.
– Кто это тебя научил? – суровым тоном спросил я, еле удерживаясь от смеха.
– Сам, – улыбнулся он с очаровательной скромностью. – Надо же чем-нибудь семье помогать.
– Но ведь если ты когда-нибудь попадёшься – знаешь, что с тобой сделают? Изрядно поколотят!
Он развёл руками, будто соглашаясь с тем, что всякая профессия имеет шипы.
– До сих пор не колотили, – признался он. – Да вы не смотрите, что я маленький. О-о… Я хитрый, как лисица… Вижу: где, как и что.
– Всё-таки, – решительно заявил я, – твоя профессия не совсем честная…
– Ну да! Толкуйте.
– Да, конечно. Ведь ты же обманываешь девиц, сообщая им, что письмо – от красивого, умного молодого человека, в то время, как оно написано тобой.

Мальчишка прищурился. Мальчишка этот был скользок, как угорь.
– А почему, скажите пожалуйста, я не могу быть умным молодым человеком? А?
– Да уж ты умный, – согласился я. – Уж такой умный, что беда. Только почему ты, умный молодой человек, пишешь такие резкие письма? Почему «дура», а не что-нибудь другое?
И он ответил мне тоном такого превосходства, что я сразу почувствовал к нему невольное уважение.
– А разве же они – не дуры?
Вечером я лежал на диване и слушал тоненький, нежный голосок:
– Мамочка, дать ещё цыплёнка?
– Спасибо, милый, я сыта.
– Так я тебе почитаю.
– Не надо. Ты, вероятно, устал, продавая эти противные газеты. Отдохни лучше.
– Спасибо, мамочка. Мне ещё надо написать кое-какие письма!.. Охо-хо.
С тех пор прошло несколько лет… И до настоящего дня этот проклятый двуличный мальчишка не выходил у меня из головы.
Теперь он вышел.
Человек за ширмой
– Небось теперь-то на меня никто не обращает внимания, а когда я к вечеру буду мёртвым – тогда небось наплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал, так задержали бы меня, извинились… Но лучше нет! Пусть смерть… Надоели эти вечные попрёки, притеснения из-за какого-нибудь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте! Вспомните когда-нибудь раба божьего Михаила. Недолго я и прожил на белом свете – всего восемь годочков!

План у Мишки был такой: залезть за ширмы около печки в комнате тёти Аси и там умереть. Это решение твёрдо созрело в голове Мишки.
Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без желе за разбитую чашку, а сегодня мать так толкнула его за разлитые духи в золотом флаконе, что он отлетел шагов на пять. Правда, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать: он уже нарочно, движимый не внешней силой, а внутренними побуждениями, сам по себе полетел к шкафу, упал на спину и, полежав немного, стукнулся головой о низ шкафа.
Подумал:
«Пусть убивают!»
Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызвала судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый плач, полный предсмертной тоски и страдания.
– Пожалуйста, не притворяйся, – сердито сказала мать. – Убирайся отсюда!
Она схватила его за руку и, несмотря на то, что он в последней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату.
Униженный и оскорблённый, он долго лежал на диване, придумывая самые страшные кары своим суровым родителям…
Вот горит их дом. Мать мечется по улице, размахивая руками, и кричит: «Духи, духи! Спасите мои заграничные духи в золотом флаконе». Мишка знает, как спасти эту драгоценность, но он не делает этого. Наоборот, скрещивает руки и, не двигаясь с места, разражается грубым, оскорбительным смехом: «Духи тебе? А когда я нечаянно разлил полфлакона, ты сейчас же толкаться?..»

Или может быть так, что он находит на улице деньги… сто рублей. Все начинают льстить, подмазываться к нему, выпрашивать деньги, а он только скрещивает руки и разражается изредка оскорбительным смехом… Хорошо, если бы у него был какой-нибудь ручной зверь – леопард или пантера… Когда кто-нибудь ударит или толкнёт Мишку, пантера бросается на обидчика и терзает его. А Мишка будет смотреть на это, скрестив руки, холодный, как скала… А что, если бы на нём ночью выросли какие-нибудь такие иголки, как у ежа?.. Когда его не трогают, чтоб они были незаметны, а как только кто-нибудь замахнётся, иголки приподымаются и – трах! Обидчик так и напорется на них. Узнала бы нынче маменька, как драться. И за что? За что? Он всегда был хорошим сыном: остерегался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот поступок по поверью, распространённому в детской, грозил смертью матери… Никогда не смотрел на лежащую маленькую сестрёнку со стороны изголовья – чтобы она не была косая… Мало ли что он делал для поддержания благополучия в их доме. И вот теперь…
Интересно, что скажут все, когда найдут в тётиной комнате за ширмой маленький труп… Подымется визг, оханье и плач. Прибежит мать: «Пустите меня к нему! Это я виновата!» – «Да уж поздно!» – подумает его труп и совсем, навсегда умрёт…
Мишка встал и пошёл в тёмную комнату тёти, придерживая рукой сердце, готовое разорваться от тоски и уныния… Зашёл за ширмы и присел, но сейчас же, решив, что эта поза для покойника не подходяща, улёгся на ковре. Были сумерки: от низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нарушали чьи-то заглушённые двойными рамами далекие крики с улицы:

– Алексей Иваныч!.. Что ж вы, подлец вы этакий, обе пары уволокли… Алексей Ива-а-аныч! Отдайте, мерзавец паршивый, хучь одну пару!
«Кричат… – подумал Мишка. – Если бы они знали, что тут человек помирает, так не покричали бы».
Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, мимолётный вопрос: «Отчего ж, в сущности, он умирает? Просто так – никто не умирает… Умирают от болезней».
Он нажал себе кулаком живот. Там что-то зловеще заурчало.
«Вот оно, – подумал Мишка, – чахотка. Ну и пусть! И пусть. Всё равно».
В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффектнее, поживописнее. Ему вспомнилась картинка из «Нивы», изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав ноги. Голова немного склонена набок, и глаза закрыты.
Поза была найдена.
Мишка лёг на спину, разбросал руки, ноги и стал понемногу умирать…
II
Но ему помешали.
Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тёти Аси с знакомым офицером Кондрат Григорьевичем.
– Только на одну минутку, – говорила тётя Ася, входя. – А потом я вас сейчас же выгоню.
– Настасья Петровна! Десять минут… Мы так с вами редко видимся, и то всё на людях… Я с ума схожу.
Мишка, лёжа за ширмами, похолодел. Офицер сходит с ума!.. Это должно быть ужасно. Когда сходят с ума, начинают прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и кусать всех за ноги! Что, если сумасшедший найдёт Мишку за ширмами?..

– Вы говорите вздор, Кондрат Григорьич, – совершенно спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тётя. – Не понимаю, почему вам сходить с ума?
– Ах, Настасья Петровна… Вы жестокая, злая женщина…
«Ого! – подумал Мишка. – Это она-то злая? Ты бы мою маму попробовал – она б тебе показала».
– Почему ж я злая? Вот уж этого я не нахожу.
– Не находите? А мучить, терзать человека – это вы находите?
«Как она там его терзает?»
Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате всё было спокойно: он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов – этих необходимых спутников терзания.
Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы – ничего подобного. Никого не терзали… Тётя преспокойно сидела на кушетке, а офицер стоял около неё, опустив голову, и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике.
«Вот уронишь ещё баночку – она тебе задаст», – злорадно подумал Мишка, вспомнив сегодняшний случай с флаконом.
– Я вас терзаю? Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорьевич?
– Чем? И вы не догадываетесь?
Тётя взяла зеркальце, висевшее у неё на длинной цепочке, и стала ловко крутить, так что и цепочка и зеркальце слились в один сверкающий круг.
«Вот-то здорово! – подумал Мишка. – Надо бы потом попробовать».

О своей смерти он стал понемногу забывать; другие планы зародились в его голове… Можно взять коробочку от кнопок, привязать её к верёвочке и тоже так вертеть – ещё почище тёткиного верчения будет.
III
К его удивлению, офицер совершенно не обращал внимания на ловкий приём с бешено мелькавшим зеркальцем. Офицер сложил руки на груди и звенящим шёпотом произнёс:
– И вы не догадываетесь?!
– Нет, – сказала тётя, кладя зеркальце на колени.
– Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете!
«Вот оно… Уже начал с ума сходить, – подумал со страхом Мишка. – На колени стал. С чего, спрашивается?»
– Я день и ночь о вас думаю… Ваш образ всё время стоит передо мной. Скажите же… А вы… А ты? Любишь меня?
«Вот ещё, – поморщился за ширмой Мишка, – на «ты» говорит. Что же она ему, горничная, что ли?»
– Ну, скажи мне! Я буду тебя на руках носить, я не позволю на тебя пылинке сесть…
«Что-о такое?! – изумлённо подумал Мишка, – Что он такое собирается делать?»
– Ну, скажи – любишь? Одно слово… Да?
– Да, – прошептала тетя, закрывая лицо руками.
– Одного меня? – навязчиво сказал офицер, беря её руки. – Одного меня? Больше никого?
Мишка, распростёртый в тёмном уголку за ширмами, не верил своим ушам.
«Только его? Вот тебе раз!.. А его, Мишку? А папу, маму? Хорошо же… Пусть-ка она теперь подойдёт к нему с поцелуями – он её отбреет».
– А теперь уходите, – сказала тётя, вставая. – Мы и так тут засиделись. Неловко.
– Настя! – сказал офицер, прикладывая руки к груди. – Сокровище моё! Я за тебя жизнью готов пожертвовать.
Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил всё героическое, пахнущее кровью, а слова офицера нарисовали в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую картину: у офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на коленях, и палач, одетый в красное, ходит с топором.
«Настя! – говорит мужественный офицер. – Сейчас я буду жертвовать за тебя жизнью…» Тётя плачет: «Ну, жертвуй, что ж делать». Трах! И голова падает с плеч, а палач по Мишкиному шаблону в таких случаях скрещивает руки на груди и хохочет оскорбительным смехом.

Мишка был честным, прямолинейным мальчиком и иначе дальнейшей судьбы офицера не представлял.
– Ах, – сказала тётя, – мне так стыдно… Неужели я когда-нибудь буду вашей женой…
– О, – сказал офицер. – Это такое счастье! Подумай – мы женаты, у нас дети…
«Гм… – подумал Мишка, – дети… Странно, что у тёти до сих пор детей не было».
Его удивило, что он до сих пор не замечал этого… У мамы есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а одна тётя без детей.
«Наверно, – подумал Мишка, – без мужа их не бывает. Нельзя. Некому кормить».
– Иди, иди, милый.
– Иду. О, радость моя! Один только поцелуй!..
– Нет, нет, ни за что…
– Только один! И я уйду.
– Нет, нет! Ради бога…
«Чего там ломаться, – подумал Мишка. – Поцеловалась бы уж. Будто трудно… Сестрёнку Труську целый день ведь лижет».
– Один поцелуй! Умоляю. Я за него полжизни отдам!
Мишка видел: офицер протянул руки и схватил тётю за затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться.
Мишке сделалось немного неловко. Чёрт знает что такое. Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху: высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник: – «Вы чего тут делаете?!»
Но тётя уже оторвалась от офицера и убежала.
IV
Оставшись в одиночестве, обречённый на смерть Мишка встал и прислушался к шуму из соседних комнат.
«Ложки звякают, чай пьют… Небось меня не позовут. Хоть с голоду подыхай…»
– Миша! – раздался голос матери. – Мишутка! Где ты? Иди пить чай.
Мишка вышел в коридор, принял обиженный вид и боком, озираясь, как волчонок, подошёл к матери.
«Сейчас будет извиняться», – подумал он.
– Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с молоком?
«Эх, – подумал добросердечный Миша. – Ну и бог с ней! Если она забыла, так и я забуду. Всё ж таки она меня кормит, обувает».
Он задумался о чём-то и вдруг неожиданно громко сказал:
– Мама, поцелуй-ка меня!
– Ах ты, поцелуйка. Ну, иди сюда.
Мишка поцеловался и, идя на своё место, в недоумении вздёрнул плечами:
«Что тут особенного? Не понимаю… Полжизни… Прямо – умора!»