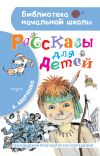Текст книги "Московское гостеприимство"

Автор книги: Аркадий Аверченко
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
IV
Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал стащенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром.
Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением.
Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания вглядом глядел мне в лицо.
Неожиданно Ванька расхохотался.
– Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?
– Хи-хи! – запищал голый Гришка. – Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.
– А все Михаил Петрович, – сказал Лелька, почтительно целуя мою руку.
– Мы вас не выдадим!
– Можно называть вас Мишей? – спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой. – Ой, горячо!
– Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?
– Превосхитительно!
Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.
– Давайте ночевать тут, – предложил кто-то.
– Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, – возразил я.
– Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.
– Не простудимся?
– Нет, – оживился Ванька. – Накажи меня Бог, не простудимся!!!
– Ванька! – предостерег Лелька. – Божишься? А что немка говорила?
– Божиться и клясться нехорошо, – сказал я. – В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы… Например: «Клянусь своей бородой!», «Тысяча громов!», «Проклятие неба!».
– Тысяча небов! – проревел Гришка. – Пойдем собирать сухие ветки для костра.
Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший.
Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.
V
Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие… Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно – с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании.
Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:
– Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?… Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!
К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении? Дети успокаивали меня, как могли:
– Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!
– Тысяча громов! – хвастливо кричал Ванька. – А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!
– Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.
– Ничего, Миша! – успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу. – Зато хорошо пожили!
Вечером приехали из города родители, немка и та самая «глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.
Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.
Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал:
– Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу… Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?
– Тебя! – хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.
– Пошли вы бы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?
– Пойдем, – сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.
– Было ли вам эти три дня весело?
– Ого!!
Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра.
Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:
– Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?
– Да! – сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. – Клянусь своей бородой! Пошел бы.
Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.
Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:
– Хохочет… Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили! Дура.
Яд
(Ирина Сергеевна Рязанцева)
Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хватали неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какую-то ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.
«Милые руки, – с умилением подумал я. – Милые, дорогие мне глаза!» И неожиданно я сказал вслух:
– Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю!
Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятиях.
– Наконец-то! – сказала она, слабо смеясь. – Ведь я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?
– Молчи! – сказал я.
Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:
– Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», которая – помнишь? – тоже так, со слабо сорвавшимся криком «наконец-то» бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвавшимся голоском… О, как я люблю тебя.
На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.
* * *
Жизнь наша была красива и безоблачна.
Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего материала.
Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.
Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:
– Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?
– Видишь ли, – сконфуженно объяснила она, – ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию.
– Как… должен? – изумился я. – Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама…
– Да, такого правила, конечно, нет… но как-то странно, когда обвивают женскую шею.
Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.
Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея – узаконенный способ) и сказала, целуя меня в усы:
– Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека… И потом… (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того – хотела бы сама завоевать для тебя славу.
Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня. Или что она понимала под словом «вдохновительница»? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: «Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер прогоняет его».
И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу «Без просвета», где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал себе самое высокое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей».
– Странно, – сказал я сам себе.
А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех.
* * *
С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.
Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы «Лучше поздно, чем никогда»… А Ирину я и не чувствовал.
Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-кокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-кокетским способом.
Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то – ха-ха! – висело напротив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:
– Я тебя не обвиняю… Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека… Но я вижу далеко, далеко… – Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: – Нет! Ближе… совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть…
– Замолчи! – нервно говорил я. – Кашалотов, «Погребенные заживо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Петровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов – Базаровского… Верно?
Она болезненно улыбалась.
– Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, – сохрани обо мне светлую, весеннюю память.
– Не светлую, – хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, – а «лучезарную». Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», седьмое явление?
Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову.
А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.
* * *
Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:
– Уходишь?
Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), но тотчас же спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.
– Слушай! – сказал я, укоризненно глядя на нее. – Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?… Вот ты сказала одно лишь слово – всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь.
– А кто же его говорит? – испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.
– Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходит полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: «Уходишь?» Вот кто это говорит!
– Неужели? – прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.
– Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись… Будем говорить откровенно… На сцене, – пойми ты это, – такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами собой!
На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:
– Я люблю тебя! Ты опять вернулся!
Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ непринятый), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «Ты опять вернулся», – пропустил я мимо ушей.
* * *
Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду.
Ирина была неузнаваема.
Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: «Володька пришел!» – выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).
А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пребольшой нос и, подмигнув, сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок!»
Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это нравилось больше прежнего: «О свет моей жизни! О солнце, освещающее мой путь!» Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось.
Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в душевных порывах ребенку.
Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она «Воробушек».
Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:
– Здравствуй, старый, толстый дурачок!
Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.
* * *
Теперь я счастливый человек.
Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.
И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины.
Она говорила кому-то, очевидно прачке:
– Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны. Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете – не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили.
Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой.
– Ирина, – шептал я, – настоящая Ирина.
* * *
А впрочем… Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?…
Магнит
I
Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с напускной небрежностью сказал жене:
– Если мне будут звонить, – спроси кто и запиши номер.
Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:
– Если мне будут звонить, – спросите кто и запишите номер.
– Слушаю-с, барин!
– Хорошо, папа!
И я вышел с сознанием собственного достоинства и солидности, шагал по улицам так важно, что нисколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:
– Смотрите, какой он важный!
– Да, у него такой дурацкий вид, как будто он только что обзавелся собственным телефоном.
II
Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня пальцем.
– Что такое?
– Барин, барин, – шептала она, давясь от смеха. – Подите-ка, что я вам скажу! Как бы только барыня не услыхала…
Первой мыслью моей было, что она пьяна; второй – что я вскружил ей голову своей наружностью и она предлагает вступить с ней в преступную связь.
Я подошел ближе, строго спросив:
– Чего ты хочешь?
– Тш… барин. Сегодня к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому ихний муж не едет в Москву.
Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равнодушна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия и она говорит первое, что взбрело ей на ум.
Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне на шею и заплакала.
– Что случилось? – обеспокоился я.
– Бедный папочка! Мне жалко, что ты будешь слепой… Папочка, лучше ты брось эту драную кошку, Бельскую.
– Какую… Бельс-ку-ю? – ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.
– Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка. Клеманс сказала, что, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза кислотой, а потом она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к ней в шантан. Я мамочке не говорила, чтобы ее не расстраивать, о глазах-то.
Вне себя я оттолкнул Китти и бросился к жене.
Жена сидела в моем рабочем кабинете и держала в руках телефонную трубку. Истерическим, дрожащим от слез голосом она говорила:
– И это передать… Хорошо-с… Можно и это передать. И поцелуи… Что?… Тысячу поцелуев. Передам и это. Все равно уж заодно.
Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:
– В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно. Муж, кажется, проследил.
– Это дом сумасшедших! – вскричал я. – Ничего не понимаю.
Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:
– Ты… мерзавец!
– Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние новости.
– Ты смеешься? Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?
Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:
– Номер 349-27 – «Мечтаю тебя увидеть хоть одним глазком сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй».
Номер 259-09 – «Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?»
Номер 317-01 – «Я на тебя сердита… Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!»
Номер 102-12 – «Ты – негодяй! Надеюсь, понимаешь».
Номер 9-17 – «Мерзавец – и больше ничего!»
Номер 177-02 – «Позвони, как только придешь, моя радость! А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?»
Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.
– Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде? – с дрожью в голосе спросила она. – Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона. Позвони же ей – Номер 177-02, а то придет муж, и вам не удастся условиться о вечере. Подлец!
Я пожал плечами.
Если это была какая-нибудь шутка, то эти шутки не доставили мне радости, покоя и скромного веселья.
Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.
– Центральная, номер 177-02? Спасибо. Номер 177-02?
Мужской голос ответил мне:
– Да, кто говорит?
– Номер 300-05. Позовите к телефону Надю.
– Ах, вы номер 300-05. Я на нем ее однажды поймал. И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что при встрече я надаю вам пощечин… Я знаю, кто вы такой!
– Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите ей, что она сумасшедшая.
– Я ее и не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха-ха! Профессиональные обольстители. Знайте, номер 300-05, что я поколочу вас не позже завтрашнего дня.
Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.
III
Обед прошел в тяжелом молчании.
Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти не отрываясь смотрела в мои глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачивалась, дружески шептала мне:
– Папа, так ты бросишь эту драную кошку – Бельскую? Смотри же! Брось ее!
Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в соусник.
По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.
Зазвонил телефон.
Я вскочил и помчался в кабинет.
– Кто звонит?
– Это номер 300-05?
– Да, что нужно?
Послышался женский смех.
– Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного мною кольца? Куда ты его девал?
– Кольца у меня нет, – отвечал я. – И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!
И повесил трубку.
После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.
Один раз мне сказали, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу «эту драную кошку» – Бельскую.
Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и навсегда.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.