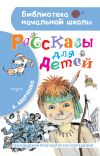Текст книги "Московское гостеприимство"

Автор книги: Аркадий Аверченко
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Хвост женщины
Недавно мне показывали ручную гранату: очень невинный, простодушный на вид снаряд; этакий металлический цилиндрик с ручкой. Если случайно найти на улице такой цилиндрик, можно только пожать плечами и пробормотать словами крыловского петуха: «Куда оно? Какая вещь пустая»…
Так кажется на первый взгляд. Но если вы возьметесь рукой за ручку, да размахнетесь поэнергичнее, да бросите подальше, да попадете в компанию из десяти человек, то от этих десяти человек останется человека три и то – неполных: или руки не будет хватать, или ноги.
Всякая женщина, мило постукивающая своими тоненькими каблучками по тротуарным плитам, очень напоминает мне ручную гранату в спокойном состоянии: идет, мило улыбается знакомым, лицо кроткое, безмятежное, наружность уютная, безопасная, славная такая; хочется обнять эту женщину за талию, поцеловать в розовые полуоткрытые губки и прошептать на ушко: «Ах, если бы ты была моей, птичка моя ты райская». Можно ли подозревать, что в женщине таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разнести, разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки, на жалкие обрывки.
Страшная штука – женщина; а обращаться с ней нужно, как с ручной гранатой.
* * *
Когда впервые моя уютная холостая квартирка огласилась ее смехом (Елена Александровна пришла пить чай), – мое сердце запрыгало, как золотой зайчик на стене, комнаты сделались сразу уютнее, и почудилось, что единственное место для моего счастья – эти четыре комнаты, при условии, если в них совьет гнездо Елена Александровна.
– О чем вы задумались? – тихо спросила она.
– Кажется, что я тебя люблю, – радостно и неуверенно сообщил я, прислушиваясь к толчкам своего сердца. – А… ты?…
Как-то так случилось, что она меня поцеловала – это было вполне подходящим уместным ответом.
– О чем же ты все-таки задумался? – спросила она, тихо перебирая волосы на моих висках.
– Я хотел бы, чтобы ты была здесь, у меня; чтобы мы жили, как две птицы в тесном, но теплом гнезде.
– Значит, ты хочешь, чтобы я разошлась с мужем?
– Милая, неужели ты могла предполагать хоть одну минуту, чтобы я примирился с его близостью к тебе? Конечно, раз ты меня любишь – с мужем все должно быть кончено. Завтра же переезжай ко мне.
– Послушай… но у меня есть ребенок. Я ведь его тоже должна взять с собой.
– Ребенок… Ах, да, ребенок!.. кажется, Марусей зовут?
– Марусей.
– Хорошее имя. Такое… звучное! Маруся. Как это Пушкин сказал? «и нет красавицы, Марии равной»… Очень славные стишки.
– Так вот… Ты, конечно, понимаешь, что с Марусей я расстаться не могу.
– Конечно, конечно. Но, может быть, отец ее не отдаст?
– Нет, отдаст.
– Как же это так? – кротко упрекнул я. – Разве можно свою собственную дочь отдавать? Даже звери и те…
– Нет, он отдаст. Я знаю.
– Нехорошо, нехорошо. А может быть, он втайне страдать будет? Этак в глубине сердца. По-христиански ли это будет с нашей стороны?
– Что же делать? Зато я думаю, что девочке у меня будет лучше.
– Ты думаешь – лучше? А вот я курю сигары. Детям, говорят, это вредно. А отец не курит.
– Ну ты не будешь курить в этой комнате, где она, – вот и все.
– Ага. Значит, в другой курить?
– Ну, да. Или в третьей.
– Или в третьей. Верно. Ну, что ж… (я глубоко вздохнул). Если уж так получается, будем жить втроем. Будет у нас свое теплое гнездышко.
Две нежные руки ласковым кольцом обвились вокруг моей шеи. Вокруг той самой шеи, на которую в этот момент невидимо, незримо – уселись пять женщин.
* * *
Я вбежал в свой кабинет, который мы общими усилиями превратили в будуар Елены Александровны, – и испуганно зашептал:
– Послушай, Лена… Там кто-то сидит.
– Где сидит?
– А вот там, в столовой.
– Так это Маруся, вероятно, приехала.
– Какая Маруся?! Ей лет тридцать, она в желтом платке. Сидит за столом и мешает что-то в кастрюльке. Лицо широкое, сама толстая. Мне страшно.
– Глупый, – засмеялась Елена Александровна. – Это няня Марусина. Она ей кашку, вероятно, приготовила.
– Ня… ня?… Какая ня… ня? Зачем ня… ня?
– Как зачем? Марусю-то ведь кто-нибудь должен нянчить?
– Ах, да… действительно. Этого я не предусмотрел. Впрочем, Марусю мог бы нянчить и мой Никифор.
– Что ты, глупенький! Ведь он мужчина. Вообще, мужская прислуга – такой ужас…
– Няня, значит?
– Няня.
– Сидит и что-то размешивает ложечкой.
– Кашку изготовила.
– Кашку?
– Ну, да, чего ты так взбудоражился?
– Взбудоражился?
– Какой у тебя странный вид.
– Странный? Да. Это ничего. Я большой оригинал… Хи-хи.
Я потоптался на месте и потом тихонько поплелся в спальню.
Выбежал оттуда испуганный.
– Лена!!!
– Что ты? Что случилось?
– Там… В спальне… Тоже какая-то худая, черная… стоит около кровати и в подушку кулаком тычет. Забралась в спальню. Наверное, воровка… Худая, ворчит что-то. Леночка, мне страшно.
– Господи, какой ты ребенок. Это горничная наша, Ульяша. Она и там у меня служила.
– Ульяша. Там. Служила. Зачем?
– Деточка моя, разве могу я без горничной? Ну посуди сам.
– Хорошо. Посудю. Нет, и… что я хотел сказать!.. Ульяша?
– Да.
– Хорошее имя. Пышное такое, Ульяния. Хи-хи. Служить, значит, будет? Так. Послушай: а что же нянька?
– Как ты не понимаешь: нянька для Маруси, Ульяша для меня.
– Ага! Ну-ну.
Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я еще больше осунулся, спрятал голову в плечи и поплелся: хотелось посидеть где-нибудь в одиночестве, привести в порядок свои мысли.
– Пойду на кухню. Единственная свободная комната.
* * *
– Лена!!!
– Господи… Что там еще? Пожар?
– Тоже сидит!
– Кто сидит? Где сидит?
– Какая-то старая. В черном платке. На кухне сидит. Пришла, уселась и сидит. В руках какую-то кривую ложку держит, с дырочками. Украла, наверное, да не успела убежать.
– Кто? Что за вздор?!
– Там. Тоже. Сидит какая-то. Старая. Ей-Богу.
– На кухне? Кому ж там сидеть? Кухарка моя, Николаевна, там сидит.
– Николаевна? Ага… Хорошее имя. Уютное такое. Послушай: а зачем Николаевна? Обедали бы мы в ресторане, как прежде. Вкусно, чисто, без хлопот.
– Нет; ты решительное дитя!
– Решительное? Нет, нерешительное. Послушай: в ресторанчик бы…
– Кто? Ты и я? Хорошо-с. А няньку кто будет кормить? А Ульяну? А Марусе если котлеточку изжарить или яичко? А если моя сестра Катя к нам погостить приедет?! Кто же в ресторан целой семьей ходит?
– Катя? Хорошее имя – Катя. Закат солнца на реке напоминает. Хи-хи.
* * *
Сложив руки на груди и прижавшись спиной к углу, сидел на сундуке в передней мой Никифор. Вид у него был неприютный, загнанный, вызывавший слезы.
Я повертелся около него, потом молча уселся рядом и задумался: бедные мы оба с Никифором… Убежать куда-нибудь вдвоем, что ли? Куда нам тут деваться? В кабинете – Лена, в столовой – няня, в спальне – Маруся, в гостиной – Ульяша, в кухне – Николаевна. «Гнездышко»… хотел я свить, гнездышко на двоих, а потянулся такой хвост, что и конца ему не видно. Катя, вон, тоже приедет. Корабль сразу оброс ракушками и уже на дно тянет, тянет его собственная тяжесть. Эх, Лена, Лена!..
– Ну что, брат Никифор! – робко пробормотал я непослушным языком.
– Что прикажете? – вздохнул Никифор.
– Ну вот, брат, и устроились.
– Так точно, устроились. Вот сижу и думаю себе: наверное, скоро расчет дадите.
– Никифор, Никифор… Есть ли участь завиднее твоей: получишь ты расчет, наденешь шапку набекрень, возьмешь в руки свой чемоданчик, засвистишь, как птица, и порхнешь к другому холостому барину. Заживете оба на славу. А я…
Никифор ничего не ответил. Только нашел в полутьме мою руку и тихо пожал ее.
Может быть, это фамильярность? Э, что там говорить!.. Просто приятно, когда руку жмет тебе понимающий человек.
* * *
Когда вы смотрите на изящную, красивую женщину, – бойко стучащую каблучками по тротуару, – вы думаете: «Какая милая! Как бы хорошо свить с ней вдвоем гнездышко».
А когда я смотрю на такую женщину, я вижу не только женщину – бледный, призрачный тянется за ней хвост: маленькая девочка, за ней толстая женщина, за ней худая, черная женщина, за ней старая женщина с кривой ложкой, усеянной дырочками, а там дальше, совсем тая в воздухе, несутся еще и еще: сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Варя, кузина Меря, Подстега Сидоровна и Ведьма Ивановна… Матушка, матушка, – пожалей своего бедного сына!..
* * *
Невинный, безопасный, кроткий вид имеет ручная граната, мирно лежащая перед вами.
Возьмите ее, взмахните и подбросьте: на клочки размечется вся ваша так уютно налаженная жизнь, и не будете знать, где ваша рука, где ваша нога!
О голове я уже и не говорю.
Душистая гвоздика
I
Иду по грязной, слякотной, покрытой разным сором и дрянью улице, иду злой, бешеный, как цепная собака. Сумасшедший петербургский ветер срывает шляпу, приходится придерживать ее рукой. Рука затекает и стынет от ветра; я делаюсь еще злее! За воротник попадают тучи мелких гнилых капель дождя, чтоб их черт побрал!
Ноги тонут в лужах, образовавшихся в выбоинах дряхлого тротуара, а ботинки тонкие, грязь просачивается внутрь ботинка… так-с! Вот вам уже и насморк.
Мимо мелькают прохожие – звери! Они норовят задеть плечом меня, я – их.
Я ловлю взгляды исподлобья, которые ясно говорят:
– Эх, приложить бы тебя затылком в грязь!
Что ни мужчина встречный, то Малюта Скуратов, что ни женщина, промелькнувшая мимо, – Марианна Скублинская. А меня они, наверное, считают сыном убийцы президента Карно. Ясно вижу.
Все скудные краски смешались на нищенски бедной петроградской палитре в одно грязное пятно, даже яркие тона вывесок погасли, слились с мокрыми ржавыми стенами сырых угрюмых домов.
А тротуар! Боже ты мой! Нога скользит среди мокрых грязных бумажек, окурков, огрызков яблок и раздавленных папиросных коробок.
И вдруг… сердце мое замирает!
Как нарочно: посреди грязного, зловонного тротуара ярким трехкрасочным пятном сверкнули три оброненные кем-то гвоздики, три девственно-чистых цветка: темно-красный, снежно-белый и желтый. Кудрявые пышные головки совсем не запятнаны грязью, все три цветка счастливо упали верхней частью стеблей на широкую папиросную коробку, брошенную прохожим курильщиком.
О, будь благословен тот, кто уронил эти цветы, – он сделал меня счастливым.
Ветер уже не так жесток, дождь потеплел, грязь… ну что ж, грязь когда-нибудь высохнет; и в сердце рождается робкая надежда: ведь увижу я еще голубое жаркое небо, услышу птичье щебетанье, и ласковый майский ветерок донесет до меня сладкий аромат степных трав.
Три кудрявые гвоздики!
* * *
Надо мне признаться, что из всех цветов я люблю больше всего гвоздику; а из всех человеков милей всего моему сердцу дети.
Может быть, именно поэтому мои мысли переехали с гвоздики на детей, и на одну минуту я отождествил эти три кудрявые головки: темно-красную, снежно-белую и желтую – с тремя иными головками.
Может быть, все может быть.
Сижу сейчас за письменным столом, и что же я делаю?
Большой взрослый сентиментальный дурак! Поставил в хрустальный бокал три найденные на улице гвоздики, смотрю на них и задумчиво, рассеянно улыбаюсь.
Сейчас только поймал себя на этом.
Вспоминаются мне три знакомые девочки… Читатель, наклонись ко мне поближе, я тебе на ухо расскажу об этих маленьких девочках… Громко нельзя, стыдно. Ведь мы с тобой уже большие, и не подходящее дело громко говорить нам с тобой о пустяках.
А шепотом, на ухо – можно.
II
Знавал я одну крохотную девочку Ленку.
Однажды, когда мы, большие жестоковыйные люди, сидели за обеденным столом, мама чем-то больно обидела девочку.
Девочка промолчала, но опустила голову, опустила ресницы и, пошатываясь от горя, вышла из-за стола.
– Посмотрим, – шепнул я матери, – что она будет делать?
Горемычная Ленка решилась, оказывается, на огромный шаг: она вздумала уйти из родительского дома.
Пошла в свою комнатенку и, сопя, принялась за сборы: разостлала на кровати свой темный байковый платок, положила в него две рубашки, панталончики, обломок шоколада, расписной переплет, оторванный от какой-то книжки, и медное колечко с бутылочным изумрудом.
Все это аккуратно связала в узел, вздохнула тяжко и с горестно опущенной головой вышла из дому.
Она уже благополучно добралась до калитки и даже вышла за калитку, но тут ее ожидало самое страшное, самое непреодолимое препятствие: в десяти шагах от ворот лежала большая темная собака.
У девочки достало присутствия духа и самолюбия, чтобы не закричать… Она только оперлась плечом о скамейку, стоявшую у ворот, и принялась равнодушно глядеть совсем в другую сторону с таким видом, будто бы ей нет дела ни до одной собаки в мире, а вышла она за ворота просто подышать свежим воздухом.
Долго так стояла она, крохотная, с великой обидой в сердце, не знающая, что предпринять…
Я высунул голову из-за забора и участливо спросил:
– Ты чего тут стоишь, Леночка?
– Так себе, стою.
– Ты, может быть, собаки боишься; не бойся, она не кусается. Иди куда хотела.
– Я еще сейчас не пойду, – опустив голову, прошептала девочка. – Я еще постою.
– Что же, ты думаешь еще долго тут стоять?
– Я вот еще подожду.
– Да чего ж ждать-то?
– Вот вырасту немножко, тогда уж не буду бояться собачки, тогда уж пойду…
Из-за забора выглянула и мать.
– Это вы куда собрались, Елена Николаевна?
Ленка дернула плечом и отвернулась.
– Недалеко ж ты ушла, – съязвила мать.
Ленка подняла на нее огромные глаза, наполненные целым озером невылившихся слез, и серьезно сказала:
– Ты не думай, что я тебя простила. Я еще подожду, а потом пойду.
– Чего ж ты будешь ждать?
– Когда мне будет четырнадцать лет.
Насколько я помню, в тот момент ей было всего 6 лет.
Восьми лет ожидания у калитки она не выдержала. Ее хватило на меньшее – всего на восемь минут.
Но Боже мой! Разве знаем мы, что пережила она в эти восемь минут?!
* * *
Другая девочка отличалась тем, что превыше всего ставила авторитет старших.
Что ни делалось старшими, в ее глазах все было свято.
Однажды ее брат, весьма рассеянный юноша, сидя в кресле, погрузился в чтение какой-то интересной книги так, что забыл все на свете… Курил одну папиросу за другой, бросал окурки куда попало и, лихорадочно разрезывая книгу ладонью руки, пребывал всецело во власти колдовских очарований автора.
Моя пятилетняя приятельница долго бродила вокруг да около брата, испытующе поглядывая на него, и все собиралась о чем-то спросить, и все не решалась.
Наконец собралась с духом. Начала робко, выставив голову из складок плюшевой скатерти, куда она, в силу природной деликатности, спряталась:
– Данила, а Данила?…
– Отстань, не мешай, – рассеянно пробормотал Данила, пожирая глазами книгу.
И опять томительное молчание… И опять деликатный ребенок робко закружился вокруг кресла брата.
– Чего ты тут вертишься? Уходи.
Девочка кротко вздохнула, подошла бочком к брату и опять начала:
– Данила, а Данила?
– Ну что тебе! Ну, говори!!
– Данила, а Данила… Это так надо, чтобы кресло горело?
Утомительное дитя! Сколько уважения к авторитету взрослых должно быть в голове этой крошки, чтобы она, видя горящую паклю в кресле, положенную рассеянным братом, все еще сомневалась: а вдруг это нужно брату из каких-нибудь высших соображений?…
* * *
О третьей девочке мне рассказывала умиленная нянька:
– До чего это заковыристый ребенок, и представить себе невозможно… Укладываю я ее с братом спать, а до-прежь того поставила на молитву: «Молитесь, мол, ребятенки!» И что ж вы думаете? Братишка молится, а она, Любочка, значит, стоит и ждет чего-то. «А ты, – говорю, – что ж не молишься, чего ждешь?» – «А как же, – говорит, – я буду молиться, когда Боря уже молится? Ведь Бог сейчас его слушает. Не могу же я тоже лезть, когда Бог сейчас Борей занят!»
* * *
Милая благоуханная гвоздика!
Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей.
Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею да в воду.
Потому взрослый человек почти сплошь – мерзавец…
Русская сказка
Отец прижал голову крохотного сына к груди и начал сказку.
– В одном лесу жил мальчик и жила Баба Яга – Костяная Нога… Впрочем, ну ее, эту Бабу Ягу, правда?
– Ну ее, – охотно согласился ребенок.
– Вот какую сказку я лучше расскажу: жили да были дед и баба, у них была Курочка Ряба… Хотя скучно это! Пусть она провалится, эта Курочка!
– И дед с бабой пусть провалятся! – сверкая глазами, согласился мальчик, обуреваемый столь свойственным детям инстинктом разрушения…
– Верно. Пусть они лопнут – и дед и баба. А вот эта – так замечательная сказка: у отца было три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк…
– Пусть они тоже лопнут… – внес категорическое предложение малютка, улыбаясь с веселой свирепостью.
– И верно, сын мой. Туда им и дорога. Это все, конечно, чепуха, труха. Хорошая сказка рассказывается после соответствующего разбега. А так как я уже достаточно разбежался, то… слушай!
* * *
…Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама, и была она потому, что тогда не было сыпного тифа. И жили твои папа с мамой в квартирке из шести комнат, и даже для сына была отдельная комнатка, где стояла его колыбелька. Теперь мы с тобой и дядей Сашей живем в одной комнате, а тогда у меня было шесть.
– У кого реквизировал?
– Держи карман шире! Тогда не было реквизиций! Кто какую квартиру хотел, такую и снимал. Хоть бы двадцать комнат! И вот однажды приезжаю я…
– С фронта?
– С которого?! Никакейших тогда фронтов не было!
– А что ж мужчины делали, если нет фронта? Спекулировали небось.
– Тогда не спекулировали.
– А что же? Баклуши били?
– Дядя Саша, например, был адвокатом, Петр Семеныч писал портреты и продавал их, дядя Котя имел магазин игрушек…
– Чтой-то – игрушки?
– Как бы тебе объяснить… Ну, например – видел ты живую лошадь? Так игрушка – маленькая лошадь, неживая; человечки были – тоже неживые, но сделанные как живые. Пищали. Даванешь живот, а оно и запищит.
– А для чего?
– Давали детям, и они играли.
– Музыка?
– Чего музыка?
– Да вот играли.
– Нет, ты не понимаешь. Играть – это значит, скажем, взять неживого человека и посадить верхом на неживую лошадку.
– И что ж получится?
– Вот он сидит верхом.
– Зачем?
– Чтоб тебе было весело.
– А кто ж в это время играет?
– Фу, ты! Нельзя же быть таким серьезным. Однако – вернемся. Вот, значит, мы так и жили…
– А что ты делал?
– Я был директором одной фабрики духов.
– Чтой-то?
– Духи? Бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь на костюм, а оно хорошо и пахнет.
– А зачем?
– Да так. Зря. Раньше много чего зря делалось. У меня, например, был человек, который стоял у дверей, и если кто-нибудь приходил ко мне, он шел впереди него и говорил, кто пришел.
– Да зачем тебе? Ты бы и сам через минуточку увидел бы.
– Так было принято. Много чего зря делали. Мы с мамой, например, раз в месяц бал закатывали.
– Во что закатывали?
– Ни во что. Возьмем и закатим бал. Приглашали музыку, оркестр целый… Сад увешивали цветными фонариками и под музыку танцевали…
– Чтой-то?
– Танцевать? А вот мужчина брал даму одной рукой за ее руку, другой за это место, где у тебя задняя пуговица курточки – и начинали оба топать ногами и скакать.
– Зачем?
– Зря. Совершенно зря. Пользы от этого не замечалось никакой. После танцев был для всех ужин.
– Небось дорого с них сдирал за ужин?
– Кто?!
– Ты.
– Помилосердствуй! Кто ж с гостей за ужин получает? Это бесплатно. Я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское, фрукты, мороженое.
– Сколько ж тебе это стоило? Небось – за… этого… закатывал в копеечку?
– Ну, как тебе сказать… Помнишь, мы сегодня после обеда пили с тобой этакую чуть-чуть газированную теплую дрянь на сахарине? Ситро, что ли? Ну, вот сколько мы заплатили за бутылку, помнишь?
– Полторы тысячи.
– Правильно. Так раньше – бал с музыкой, фонариками и ужином стоил половину такой бутылки.
– Значит, я сегодня целый бал выпил?
– Представь себе! И не лопнул.
– Вот это сказка! У маленького мальчика бал в животе. Хе-хе-хе!
– Да, уж. Это тебе не Баба Яга, чтоб ей провалиться!
– Хе-хе! Не у отца три сына, чтобы им лопнуть.
– Да… И, главное, не Красная Шапочка, будь она проклята отныне и до века!
Отрывок будущего романа
(Написано по рецепту «Алой чумы»)
В тысяча девятьсот таком-то году большевики наконец завоевали всю Россию. Вне их власти остался только Крым, который и висел небольшим привеском на неизмеримом пространстве холодной и голодной Совдепии, как болтается несъедобный золотой брелок на огромном брюхе голодного, отощавшего людоеда.
Что касается окружающих государств, то они выстроили по всей границе высокую крепкую стену, напутали на гребне ее колючей проволоки и вывесили огромные плакаты через каждые пятьсот шагов:
«Вход посторонним строго воспрещается».
Совдепия была предоставлена самой себе.
Ни ввоза, ни вывоза; ни торговли, ни промышленности; ни законов Божеских, ни законов человеческих; ни наук, ни искусств…
Как человеческая голова, которую заботливая рука не стрижет, не бреет и не моет, – постепенно зарастает дремучим волосом и наполняется тучей насекомых, – так и бывшая Россия как-то заросла дремучими лесами, высокой травой, и в лесах и в траве развелось неисчислимое количество волков и медведей, лосей, зубров, лисиц и оленей…
Иногда стадо диких свиней смело перебегало заброшенный, запорошенный многолетней пылью, заросший маками и кашкой, ржавый рельсовый путь, иногда зоркая рысь, притаившись в мрачной развалине фасада ситценабивной или бумагопрядильной фабрики, часами подстерегала серого зайчишку; орлы вили гнездо в поломанных, лишенных стекол трубах разрушенных обсерваторий… А в стенах бывшего Московского университета свила гнездо страшная шайка разбойников-китайцев, от которых трепетала вся округа.
Население разделялось на три резко обособленных касты или племени: племя совнаркомов, племя исполкомов и племя трудообязанных…
Племя совнаркомов состояло всего из одного человека: неограниченного правителя Совдепии Миши I, сына покойного неограниченного правителя Льва I, из рода Троцких. Монархический принцип вводился постепенно и так незаметно, что никто даже не почухался, когда Льва I похоронили в усыпальнице московских государей.
Племя исполкомов было нечто вроде воевод – оно правило. Каждый исполком состоял из одного человека и отчитывался только перед совнаркомом Мишей I.
Племя трудообязанных работало, сеяло хлеб, охотилось на зубров, шило одежды из звериных шкур и курило вино, за что получало от исполкомов право на жизнь и одну треть сработанного в свою пользу. Другая треть шла исполкому, третья – совнаркому Мише.
Население городов жило в землянках или юртах из оленьих шкур, остальные спали в дуплах вековых деревьев, в пещерах или просто шатались по степи, подстерегая диких кабанов и медведей.
* * *
Стоял тихий погожий вечер лета 1950 года… На опушке огромного леса у развалины корня высокой корявой сосны весело пылал костер, вокруг которого расположились трое: сухая, коричневая сморщенная старуха, завернутая в лохмотья засаленной плюшевой портьеры, и двое мальчишек, задрапированных волчьими шкурами. Каждый из них был вооружен топориком из остро отточенного кремня, насаженного на дубовую палку.
– А где старший брат? – спросила старуха, обгрызая желтыми зубами волчью кость.
– Мы его делегировали на пленарное заседание Совнархоза. Люди нашего племени поймали нескольких эсеров-интернационалистов. Теперь идут дебаты о том, съесть ли их или выменять на некоторых из нашей коммунистической ячейки, попавших в плен к интернационалистам.
– О, наказание! – воскликнула старуха. – И когда эта проклятая война кончится?! Эх, если бы он хоть кусочек этого интернационалиста домой принес.
– Да, дожидайся, – проворчал внук. – Помнишь того англичанина, который семь лун тому назад перелетел к нам через стену на какой-то странной штуке… Поймали его наши и тут же слопали – даже полпальца не принесли… А когда отец с охоты вернется?
– Солнце шести раз не покажется на востоке, как он будет здесь. Исполком дал ему определенный мандат. Что это у тебя в руках?
– А я, когда на куропаток силки ставил, нашел в лесу… Что-то вроде ореха, да я никак не мог разгрызть.
– Покажи-ка, – с любопытством попросила старуха. – Да это гайка!!
– Что это значит: гайка?
– Этими штуками когда-то рельсы скреплялись.
– Какие рельсы?
– Железная дорога. Из железа.
– Какое странное слово: железо.
– Да ты ж видел у меня в числе фамильных драгоценностей гвоздь? Знаешь, такой стержень со шляпкой. Это и есть железо.
– Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В землю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли?
Старуха заметила, что внук слишком далеко хватил, и усмехнулась:
– Ну, брат, это ты, действительно, ахнул. Из железа делались рельсы… Такие длинные-предлинные палки… И по ним быстро бегали железные дома, в десять раз больше нашего.
– Сколько же лошадей нужно было для этого?!
– Зачем лошади? Воды в котел нальют, дровец подбросят, оно и летит – никакой лошади не догнать.
– Кто ж это делал?
– Инженеры.
– Они вкусные?
– Не знаю, не пробовала. Когда я была молодая – за меня один инженер сватался.
– Чего-о?
– Ты этого слова не поймешь. Жениться хотел. Руку мне свою предлагал. Я отказалась.
– Вот дура-то старая. От руки отказалась! Взяла бы и съела. Она нежная.
– Ох, как с вами трудно разговаривать!
И потом мечтательно улыбнулась:
– Он мне записки писал…
– Что это значит: «писал»?
– Брали такую палочку с железной штучкой на конце, обмакивали в черную краску и делали на бумаге знаки.
– Какое смешное слово: бумага.
– Да ты разве не видел? У меня в числе фамильных драгоценностей один трамвайный билет есть. Если поймаешь зайца – покажу.
Наступило молчание. Костер тихо потрескивал, догорая.
Один из внуков потянулся, засмеялся и сказал:
– Вчера новый приезжий, кооптированный от Пролеткульта, чуть не женился на нашей соседке: схватил за волосы и потащил в лес.
– Что ж ее прежний жених?
– Он вынес резолюцию протеста, осуждающую это самочинное выступление без мандата от исполкома.
– А формула перехода к очередным делам?
– Обыкновенная: зарезал приезжего топориком, а невесту привязал к дереву и содрал скальп.
– Какая прелесть! Совсем роман!
– Чего-о-о-о?…
Но старуха молчала, задумавшись о прошлом…
Все было безмолвно, только слышался далекий олений рев в чаще да порсканье охотившейся за совой рыси на опушке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.