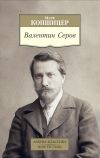Текст книги "Валентин Серов"

Автор книги: Аркадий Кудря
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава тринадцатая
УКРЕПЛЕНИЕ СЛАВЫ ПОРТРЕТИСТА
Наступила осень. В мастерской на Долгоруковской улице в доме Червенко Серов начал писать портрет Константина Коровина. Приятель позировал в белой рубахе и черном жилете, небрежно расположившись на диване и облокотясь правой рукой на подушку. Ни в ком из близких знакомых Серов не встречал столь ярко выраженной артистичности, как в беспечном шутнике и балагуре «Костеньке», как любил ласково называть его Савва Иванович Мамонтов. Позировать молча и неподвижно для Коровина было бы пыткой. Ему непременно надо было что-то рассказывать сосредоточенно работавшему Серову – то забавные случаи из жизни, например, о совместных поездках с Мамонтовым в Испанию, в Париж или на Кавказ, то о своих приключениях на рыбалке, то, наконец, о том, как обидели его государь с государыней при посещении последней Передвижной выставки в Петербурге, где Костя выставил лирический пейзаж с женской фигурой под названием «Осенью».
– Ты от Поленова Василия Дмитриевича, – будто нехотя начинал Костя, – не слышал, какого отзыва от высочайших персон моя «Осень» удостоилась?
– Вот как? – заинтересованно откликался Серов. – Не слышал.
– Почтили Передвижную своим присутствием государь с государыней. Походили, посмотрели во все стороны. Соизволили купить женскую головку Харламова да скверненький пейзажик Маковского. А потом и на мою картинку внимание обратили и по-французски репликами обмениваются. Их величество заметил: «Это из школы импрессионистов». А государыня в ответ воркует: «Возможно, мой друг, но я этого не понимаю». Тогда и государь из чувства солидарности с ней небрежно роняет со скептической миной на лице: «Н-да, картина, увы, оставляет многого желать». Вот так и погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный… По словам Василия Дмитриевича, их реплика как панихида прозвучала, и ныне все передвижники некоего Коровина с его «Осенью», как человека безвременно погибшего, очень жалеют.
– Огорчился?
– Если честно, то самую малость, – сверкнул улыбкой Коровин. – Но наши генералы от живописи тот разговор слышали и себе на заметку взяли.
– Нас это пугать не должно, – ободряюще сказал Серов.
– И я, Антон, так думаю. Плюну, пожалуй, на их реплики и буду работать по-своему, – решительно заверил Коровин. – Если б ты знал, как бы я хотел писать полотна, которые вызывали бы такой же настрой, как музыка, выглядели исповедью сердца. Когда Миша Врубель закончил «Демона сидящего», я, глядя на картину, пытался разобраться в своих чувствах и в конце концов понял, что он-то этого уже добился: через необычный сюжет, необычную, лишь ему присущую, живопись он поведал нам о муках собственного сердца, оставил на полотне отпечаток своей души. Я предвижу, что его «Демона» не поймут, будут злорадствовать, шельмовать автора. И я Мишу по-дружески предупредил об этом, заклинал не верить хулителям, держаться стойко и наперекор мнению толпы идти своим путем. Те же, кому красота в живописи безразлична, пусть по-прежнему малюют толстых священников, пьяных дьяконов, страдающих в камерах арестантов и тому подобное и получают в награду одобрительные отзывы Стасова. Только ради Бога, дружище, – тебя-то Стасов тоже отличил, – не принимай это на свой счет!
– Как ты сейчас хорош! – улыбнулся Серов. – Потерпи еще немного. Пока есть свет, чуть-чуть подправлю твои глаза. Теперь я вижу в них не только проблеск мысли, но и библейскую мудрость.
– Тут, Антон, ты не оригинален, – с усмешкой парировал Коровин. – Ты опоздал. Поленов раньше тебя увидел во мне Христа.
На очередной сеанс позирования Коровин принес показать недавно отпечатанный двухтомник Лермонтова, в работе над которым приняли участие и они с Серовым. Перелистывая богато иллюстрированное издание, Серов не мог не отметить, как разнятся по мастерству исполнения представленные в нем рисунки и акварели. Разочаровали иллюстрации на тему «Пророка» Репина, совсем неудачны были рисунки Владимира Маковского и Айвазовского. Но хорошо смотрелись листы к «Песне о купце Калашникове» Виктора Васнецова: и костюмы, и весь дух поэмы были отражены в них с исторической точностью. Добросовестно подошел к делу и Суриков. Поленов, с его знанием Египта, Сирии, Палестины, был, безусловно, лучшим выбором для иллюстрирования восточных мотивов поэта.
Но явно лучше других справился со своей задачей Врубель. Его мчащийся конь с мертвым всадником на спине, Демон, склонившийся над Тамарой в ее келье («Не плачь, дитя…»), рисунки к «Измаил-Бею», «Герою нашего времени» были замечательны и по верности духу Лермонтова, и по виртуозности графического языка.
– А ты, Костя, хоть и бывал, не в пример Врубелю, на Кавказе, а дух-то горской жизни не вполне ухватил, – заметил Серов.
– Да, Миша обоим нам нос утер, и не только нам, – признал Коровин.
– А где же его «Пляска Тамары» из «Демона», неужели забраковали? – Серов торопливо перелистывал страницы, силился отыскать и не находил поразительный по экспрессии рисунок Врубеля. – Ну, ладно, пару моих не включили, но тот танец – совсем напрасно.
– А знаешь, этот большой лист к «Бэле» и другой, Печорин перед Мэри, недурно у тебя вышли, – похвалил Коровин.
– Нет, рядом с Врубелем мы выглядим приготовишками, – сурово ответил Серов. – У него к этому дар Божий, а у нас… – он беспомощно махнул рукой.
Той же зимой Серов работал над портретом известной московской красавицы Зинаиды Васильевны Якунчиковой (по мужу Мориц), о которой ее двоюродная сестра В. П. Зилоти писала в своих мемуарах, что «Зина была и музыкальна, и способна к живописи» и до замужества, когда она еще вращалась «в свете», вызывала восхищение всех молодых людей ее круга.
В портрете этой холеной, несколько томной дамы с классическими чертами лица Серов старался передать тип светской женщины, вполне сознающей свою привлекательность и умеющей держать поклонников на разумной дистанции.
Между тем Серов с Коровиным получили заказ от харьковского дворянства на исполнение большого портрета «Александр III с семьей». Поводом для написания портрета послужило чрезвычайное происшествие, случившееся близ станции Борки Харьковской губернии 17 октября 1888 года, о котором немало писали в газетах и ходило много всевозможных слухов. В тот злополучный день, когда высочайшее семейство, возвращавшееся из Крыма, обедало в специальном вагоне, поезд вдруг сошел с рельсов, крыша над их головой проломилась и начала рушиться. Лишь благодаря счастливой случайности (говорили, помогла и сила государя, некоторое время державшего крышу на своих плечах) никто из царской семьи не пострадал. Но в чудесном спасении был усмотрен знак свыше. В Борках тут же, дабы увековечить Промысел Божий, заложили церквушку, заказали и картину, долженствующую запечатлеть счастливую семью.
На право получить ответственный заказ в Харькове был объявлен конкурс, и, поощренные Репиным, Серов с Коровиным решили принять участие в нем. После поездки в Харьков они написали эскиз будущего полотна и, вопреки таившимся у них сомнениям в успехе, были признаны победителями и даже получили аванс. Теперь предстояло главное – создать большое полотно. Художникам объяснили, что из-за занятости государь с государыней позировать не смогут и писать их портреты придется по фотографиям. Что же касалось портретов их детей, то харьковский губернский предводитель дворянства граф Капнист пообещал, что постарается устроить сеансы позирования. Работа, словом, предстояла немалая.
А пока, в апреле—мае, в московском доме Толстого в Хамовниках Серов писал портрет жены Льва Николаевича Софьи Андреевны. Вероятно, этот заказ был устроен ему по рекомендации близкого к семье Толстых Репина.
В письме сестре, Т. А. Кузьминской, от 24 апреля 1892 года Софья Андреевна сообщала, что позирует по три часа в день и это для нее «очень затруднительно», о самом же портрете отозвалась, что он «удивительно похож».
В то время когда Серов работал над портретом Софьи Андреевны, в Москве и, вероятно, в доме Толстых обсуждали реакцию в официальных кругах России и в некоторых проправительственных изданиях на опубликованную за границей, в Лондоне, статью Толстого о тяжких последствиях голода, разразившегося в центральных губерниях России из-за неурожая.
«Московские ведомости», например, писали по поводу статьи Толстого: «Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, пред которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда». В смягченном и, как говорили, искаженном виде статья Толстого в январе была все же опубликована в России, в «Книжках недели», под названием «Помощь голодным» и вызвала громкий резонанс. Призыв Толстого оказать посильную помощь голодающим сбором средств и организацией для них бесплатных столовых дал толчок благотворительному движению.
Московское общество любителей художеств устроило выставку картин в пользу голодающих. Помимо именитых авторов, Репина и Поленова, в ней приняли участие более молодые – Левитан, Серов, Коровин, Ап. Васнецов… Картин было продано более чем на 14 тысяч рублей, и вырученные деньги пошли в фонд помощи голодающим.
Воодушевленная примером Л. Н. Толстого по организации бесплатных столовых, мать Серова, Валентина Семеновна, в конце 1891 года уехала заниматься благотворительностью в голодающие села Симбирской губернии. Из фонда Толстого ей было передано на организацию бесплатных столовых 400 рублей. Были и другие пожертвования.
Дела же с семейным портретом царствующих особ складывались неожиданным образом. Коровин к проекту вдруг охладел и заявил, что собирается уезжать во Францию. «Ты уж извини, Антон, меня, – просяще уговаривал друга Константин, – не по душе мне это. Ты и сам без меня справишься». В Историческом музее, где работал над полотном Серов, в его распоряжение было предоставлено несколько фотографий государя и государыни, с помощью которых приходилось писать их фигуры, и лица. Из дневниковой записи от начала марта 1882 года товарища (заместителя) председателя Исторического музея историка и археолога И. А. Забелина известно, что Серова навещал в музее великий князь Павел Александрович. Высокий гость был неравнодушен к живописи, особенно имеющей отношение к русской истории, о чем свидетельствовало приобретение им с одной из Передвижных выставок за 2 тысячи рублей картины М. П. Клодта «Мария Мнишек с отцом под стражей».
Летом Серов отправился в деревню Судосево Симбирской губернии, где мать организовала столовые для голодающих. Он привез погостить к ней, по просьбе Валентины Семеновны, свою сводную сестру 12-летнюю Надю Немчинову, которая воспитывалась в земледельческой коммуне, созданной под Сочи приятельницей матери М. А. Быковой. В воспоминаниях о брате Н. В. Немчинова-Жилинская описала эту поездку, путь по Волге до Симбирска и далее, пыльной дорогой, до Судосева. «Громадное, скучное село, без зелени, кое-где у изб торчали чахлые деревца без листьев… обглоданные гусеницами».
Живописной, по описанию Немчиновой, получилась встреча Серова с матерью: «В низких дверях показалась фигура нашей матери. Я быстро выскочила из тележки и уже была в объятиях мамы, а Тоша, весь пропыленный, комически изображая старого, одряхлевшего барина, вылезал, кряхтя, из почтового неуклюжего экипажа.
– Ну и забралась, матушка, на край света, прости господи, – прошамкал „старый барин“, по-стариковски потирая поясницу и согнутые колени.
Мы с мамой хохотали, и ямщик весело посмеивался, глядя на „старого барина“. Троекратно поцеловавшись с мамой, Тоша, все еще изображая старикашку с подагрической ногой, проковылял в крохотную мамину комнатушку».
Из Судосева Валентин Александрович писал жене: «Маму мы застали в превосходном виде как наружном, так и внутреннем, то есть душевном. Действительно, столько трудов устукала она на деревню свою Судосево, так толково все устроила, что работа эта не может не радовать ее… Да, цель этого дела и доверие со стороны народа завлекает и увлекает очень, настолько, что если бы я счел нужным отдаться этому делу, то, пожалуй, отдался бы ему почти так же ретиво, как и мама».
Но само Судосево и окрестности совершенно ему не нравятся, раздражает местный климат. «Пыль здесь, – пишет он в том же письме, – вообще невозможная, набивается в глаза, в нос, главное в уши, жара, пыль эта вся прилипает – отвратительно».
Оставив Надю у матери, Серов вскоре уезжает обратно в Москву. Лёле тоже нужна его помощь: семья увеличилась, на свет появился сын, названный Сашей. Детишки вместе с мамой в Домотканове, у испытанного друга Дервиза. К ним и отправляется Серов из Москвы. Отцовские заботы делит с творчеством, пишет окрестные пейзажи и этюд дочери Дервизов, Ляли. Так проходят лето и осень.
А в Москве надо браться за очередной заказной портрет – сестры его хорошей знакомой с юношеских лет Марии Федоровны Якунчиковой, Ольги Федоровны Тамара. Особого вдохновения эта модель, увы, не вызывает, а когда нет интереса, то и портрет выходит скучным. И потому современник Серова и тонкий ценитель его живописи И. Э. Грабарь считал, что более всего удалась Серову на этом полотне примостившаяся под скамейкой, на которой сидит хозяйка, собачка такса.
Одновременно приходилось работать в Историческом музее над портретом царской семьи. Общаясь со служившим в музее историком Иваном Егоровичем Забелиным, Серов проникается большой симпатией к нему. Забелин не только умен и многое может рассказать о старине. Он и внешне колоритен. Не согласится ли позировать? Иван Егорович не возражал. Законченный портрет удовлетворил обоих. На нем Забелин, сидящий в своем полутемном кабинете, похож на доброго и мудрого волхва.
В конце того же, 1892 года Серов начал писать портрет Исаака Ильича Левитана. Сеансы позирования проходили в мастерской Левитана, на втором этаже флигеля, который был предоставлен художнику поклонником его творчества промышленником и меценатом Сергеем Тимофеевичем Морозовым.
С Левитаном Серова познакомил во второй половине 80-х годов приятель Исаака Ильича по Училищу живописи, ваяния и зодчества Константин Коровин. Не раз встречались они в Абрамцеве, вместе писали там этюды. С. Т. Морозов и И. И. Левитан были в числе тех близких Серову людей, кто поздравил его со свадьбой.
Серов высоко ценил живописный талант Левитана и в вопросах современного искусства видел в нем единомышленника. Как и Серов, Левитан отстаивал права молодых художников в Товариществе передвижных художественных выставок.
Этот год сложился для Левитана очень нелегко. Новый генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович проводил «чистку» города от евреев-ремесленников. Стараниями ретивых чиновников антиеврейская кампанияя затронула не только ремесленников. От нее пострадал и Левитан, и в сентябре 1892 года он был вынужден выехать из Москвы в Болдино. Однако выселение известного художника, картины которого уже висели в Третьяковской галерее, обернулось скандалом. Благодаря вмешательству влиятельных лиц (вероятно, хлопотали С. Т. Морозов и П. М. Третьяков) Левитан в начале декабря вновь вернулся в Москву. Серову вся эта неприглядная история была известна, и желание его написать именно в это время портрет Левитана надо расценивать как акт моральной поддержки, желание защитить коллегу от несправедливых действий московских властей и напомнить обществу о значении Левитана в современной русской живописи.
Серов, подъехав к дому, где жил и работал Левитан, проходил через заснеженный двор, и на стук в дверь вместе с чернобородым хозяином его встречала охотничья собака Исаака Ильича Веста. Не теряя времени, Левитан с Серовым поднимались по винтовой лестнице наверх, где располагалась мастерская.
В минуты отдыха от позирования Левитан показывал некоторые последние свои работы и среди них – очень светлый по настроению вид Волги в солнечный день, со стоящими у пристани и бороздящими водный простор небольшими суденышками. Картина казалась законченной, но Левитана что-то в ней не удовлетворяло.
– Почти два года работаю, – признавался он, – а выставить пока не могу. Хочу назвать ее «Свежий ветер».
– Чудесный пейзаж, будто писал ты его с ликованием в душе, – похвалил Серов.
И Левитан, подтвердив, что так оно и есть, но выразить это чувство на полотне было ему отнюдь непросто, заговорил о том, как по-разному влияет на него природа:
– Она имеет необыкновенную власть над нами. Часто врачует, но иногда способна нагонять в душу что-то такое, от чего нет спасения, пока не положишь это на полотно. Прошлым летом, в Тверской губернии, увидел место, сразу заворожившее меня ощущением связанного с ним рока, – омут у старой мельницы, три бревна через него. Особенно мрачно там было после захода солнца, когда вода и зелень темнели. Я сделал этюд омута, а хозяйка имения, увидев его, рассказала, что это место не одного меня заворожило: с ним связана легенда о несчастной любви и утопившейся девушке. И будто бы это самое место и эта легенда вдохновили Пушкина на создание «Русалки». – Выражение лица Левитана приобрело оттенок глубокой меланхолии. – Тут и накатил на меня творческий жар. Писал гиблый омут уже запоем и вспоминал – разве это не мистика! – что мой первый крупный заработок тоже связан с темой «Русалки», с декорациями к опере на тот же сюжет Даргомыжского. Савва Иванович мне несколько сотен за них отвалил. На те деньги в Крым съездил. И как я был рад, что Поленов меняя и Костю Коровина Мамонтову сосватал. Что, кстати, слышно о Косте, – оживился Левитан, – пишет из Парижа?
– Иногда пишет, – подтвердил Серов. – Недавно его там обокрали. Но Костя не унывает.
– Он такой, этот крокодил, неунывающий! – согласился с мнением об общем приятеле Левитан. – Очень даровит и так горяч, нетерпелив! Ему бы все делать с налету, в едином порыве. Труд тяжкий, кропотливый не для него.
Серов заканчивал портрет, сознавая, что ему, пожалуй, удалось отразить внутренний мир Левитана, свойственные ему печаль и меланхолию. Обычно трудно давались руки, но в этот раз артистизм модели подчеркивала и небрежно опущенная кисть руки с тонкими, выразительными пальцами.
Сопоставление Серова и Левитана оставил в своих мемуарах Александр Бенуа. Вспоминая, как он хотел ближе сойтись с Серовым в период создания объединения «Мир искусства» и как ценил его дружбу, Бенуа писал: «Впечатление, которое произвел на меня Левитан при первом знакомстве, было, пожалуй, однородным с впечатлением от Серова… Однако внешностью они вовсе не были друг на друга похожи, хотя в обоих и текла еврейская кровь. Но Серов с виду казался чистокровным русским – приземистый, светловолосый, с „тяжелыми“ чертами лица, со взглядом скорее исподлобья. Самая угрюмость Серова имела в себе нечто „северное“. В смысле же одежды все на нем как-то висело, казалось плохо сшитым или приобретенным с чужого плеча… Левитан имел прямо-таки африканский вид: оливковый цвет кожи, и густая черная борода, и черные волосы, и грустное выражение черных глаз, – все говорило о юге… Всей своей натурой, своими спокойными, благородными жестами, тем, как он садился, как вставал и ходил, наконец, тем вкусом, с которым он одевался, он сразу производил впечатление „человека лучшего общества“».
Портрет Зинаиды Васильевны Мориц, показанный на периодической выставке Московского общества любителей художеств, вызвал большой интерес и был высоко оценен в прессе и в частных письмах художников. Стоит привести мнение о нем Михаила Нестерова. В письме родным в середине января 1893 года он писал: «Вчера побывал на периодической выставке, где любовался поразительным (тициановским) портретом некой m-me Мориц работы Серова».
На Передвижную, XXI, выставку в Петербург Серов представил портрет Левитана и «Портрет г-жи О. Ф. Т.» (Ольги Федоровны Тамара). Но еще до открытия Передвижной выставки там же, в залах Академии художеств, была развернута приуроченная к 50-летию со дня рождения выставка скульптурных работ М. М. Антокольского. Многие вещи, как подчеркивала пресса, отечественная публика прежде не видела: среди них – мраморный «Христос перед судом истории», «Ермак» (бронза), «Нестор» (мрамор).
Однако то, что прочитал Серов о хорошо ему знакомом скульпторе, без сомнения, очень талантливом, в газете «Новое время», поразило его предвзятостью и откровенно-шовинистическим тоном. Рецензент, скрывшийся за псевдонимом «Житель», для затравки, прежде чем анализировать произведения скульптора, выразил собственное понимание «еврейского искусства»: «В еврейской даровитости есть расовая особенность – стремление к грандиозному… Евреи выработали совсем особенный тип искусства, нечто вроде прекрасно исполненной фиктивной ассигнации, вполне удовлетворительной для обмана толпы…» С таким посылом уже нетрудно было обвинить Антокольского в неумении выразить суть исторического лица и приписывать ему иные грехи.
В 20-х числах февраля Серов приехал в Петербург по вызову генерал-адъютанта Александра III и воспитателя детей государя Г. Г. Данилевича. В свойственной ему грубоватой манере генерал командирским тоном указывал: «Приезжай завтра, в понедельник, к 101/2 часам для сеанса у великой княгини Ольги Александровны». Сеансы позирования высоких персон для «Семейного портрета» были организованы по просьбе Серова, и пропускать их он не мог. Несколько позднее он писал с натуры и других царских детей – великую княгиню Ксению Александровну и ее брата Михаила Александровича. А вот старшего из детей, наследника престола Николая, видеть воочию не удалось: он находился в длительной заграничной поездке, где-то в восточных странах, и его портрет пришлось создавать с помощью фотографий.
Примерно в то же время, весной 1893 года, Серову была устроена короткая встреча с Александром III в Гатчине. О некоторых ее подробностях известно из воспоминаний о Серове В. Д. Дервиза. Несмотря на то, что государь был предупрежден о встрече с художником, при его виде на лице Александра III появилось, писал Дервиз, «выражение недоверия, страха, холода и враждебности. В это время вошел кто-то из свиты и объяснил царю, кто это, и тот любезно разговаривал с Серовым минут пять».
Во время пребывания в Петербурге Серов посетил Передвижную выставку. На ней заметны были портреты работы Н. Д. Кузнецова, с которым Серов сдружился, когда гостил в его имении под Одессой, в особенности портрет П. И. Чайковского. Хороши были картины Левитана «Владимирка», «Осень», автопортрет Н. Н. Ге и его же «Портрет Н. И. Петрункевич», как и два портрета кисти Репина – «Осенний букет (портрет дочери)» и портрет великого князя Константина Константиновича. Очередной шаг вперед делал в «Юности преподобного Сергия» Нестеров.
Как и надеялся Серов, на выставленный им «Портрет Левитана» отреагировала пресса, но в Москве он привлек большее внимание, чем в Петербурге. Художественный критик газеты «Русские ведомости» писал: «Чрезвычайно талантливо написан г. Серовым портрет художника Левитана, в нем так удачно схвачено выражение, спокойное, задумчивое, гармонирующее с самой позой, а вместе с тем портрет дышит жизнью и силой. Вообще портрет г. Левитана можно назвать одним из самых удачных произведений Серова».
Заметил его и рецензент «Московских ведомостей» В. Грингмут. Однако он почему-то отдал предпочтение менее удачному, на взгляд Серова, «Портрету О. Ф. Т.». Лишь дочитав статью этого автора до конца, Серов понял, почему он не написал о портрете Левитана подробнее и избежал в оценке его комплиментов. Сопоставляя два его портрета, рецензент ограничился репликой: «…равнодушными мы к ним оставаться не можем, хотя и возбуждаемые ими в нас чувства будут совершенно разнородны». Тут могли быть, как и у рецензента выставки Антокольского, некие «расовые» мотивы, не позволяющие хвалить изображенного на портрете, как и сам портрет. Среди показанных на Передвижной произведений В. Грингмут выделил «Портрет присяжного поверенного» кисти Репина и посчитал его «живою характеристикой нашей современной адвокатуры». И далее следовало вполне «расовое» умозаключение: «Нет никакого сомнения, что софистический тип нашей адвокатуры вырабатывался главным образом под влиянием вошедшего в него многочисленного еврейского элемента, который своей беспринципностью и неразборчивостью в выборе средств задавал тон среди русских адвокатов, заставляя и их конкурировать с ним тем же эффектным, хотя и неприглядным оружием».
Одним словом, по Грингмуту, и сами «софисты» неприглядны, и русских адвокатов такими же сделали.
Появление подобных статей наводило на мысль: что-то к худшему меняется в российском обществе. И не есть ли агрессивность прессы отголосок жестких мер, принятых против евреев в Москве, которые кое-кто окрестил «московским изгнанием», и иных ограничений тех же евреев, осуществлявшихся в масштабах всей страны?
Очень острую для евреев тему ограничений мест жительства («черта оседлости») и прав на образование («процентнаяя норма») неоднократно затрагивала в беседах с сыном Валентина Семеновна. Горячо обсуждали ее и в семье Симановичей, считая, что правительство проводит политику, несправедливую по отношению к евреям. И эта политика побуждала еврейскую молодежь участвовать в антиправительственных выступлениях, за что многие, как и жених Маши Симанович Соломон Львов, подвергались ссылке. В связи с этим в начале 90-х годов выезд из страны евреев значительно усилился.
Ужесточение антиеврейских мер некоторые органы прессы восприняли как сигнал к атаке, и их воинственные наскоки затрагивали уже и художественную жизнь.
Семью Валентина Серова все эти ограничения коснутьсяя никак не могли. Он все же был потомственным дворянином, православным (хотя обрядов и не соблюдал). И если говорить о национальности, то чувствовал себя более русским, нежели евреем (год спустя на вопрос архиепископа Амвросия: «Вы русский?» – ответит: «Да»). Однако антиеврейская кампания напрямую задевала его родню по материнской линии, тех же Симановичей, и оставаться безучастным к этому Серов не мог.
Лето и осень 1893 года Серов с семьей и матерью прожили в Крыму, в местечке Кокоз недалеко от Бахчисарая, на даче Розалии Соломоновны Львовой. Эта старенькая уже женщина после того, как ее сын, врач С. К. Львов, живший в Париже и получивший французское гражданство, женился на Маше Симанович, стала родственницей и Симановичам, и Серовым.
Валентин Александрович увлекся этюдами на природе, писал горы, татарок в чадрах, наполнявших кувшины из горной речки, белую лошадку, понуро стоявшую возле каменного мостика. Как и светлые по настроению, пронизанные солнцем виды крымских двориков с побеленными стенами домов и с нависающими по стенам деревянными балконами, затененными кронами деревьев. Жизнь в Крыму напомнила Серову о связанном с этими краями античном сюжете. Выехав на побережье моря, он начал работать над картиной, навеянной трагедией Еврипида «Ифигения в Тавриде» – с одинокой фигурой женщины в белом, сидящей на камнях близ тихо плещущихся волн.
Несколько из написанных в Крыму этюдов он представил на открывшейся как обычно в конце года периодической выставке Московского общества любителей художеств.
В один из зимних дней в квартире Серовых нежданнонегаданно объявился вернувшийся из-за границы Константин Коровин.
– А вы думали, если редко пишу, так совсем решил в Париже остаться? – весело говорил Костя за наскоро организованной трапезой. – Нет уж, дудки! Затосковал в последние месяцы ужасно. Каждый кустик бузины и цветущей сирени умилял: ну совсем как в России!
Серов был чрезвычайно рад вновь видеть доброго приятеля, по обществу которого и его шуткам изрядно истосковался. Интересен был и взгляд Кости на современное искусство, и Серов спросил:
– Как живопись французская, чему-то научила?
– Там столько всего смелого, непривычного, – горячо заговорил Коровин, – что глаза разбегаются. И не в ежегодном Салоне, а у тех торговцев, которые делают ставку на новое искусство, например, у Дюран-Рюэля – он пропагандирует импрессионизм. Понравились Бастьен-Лепаж в Люксембургском музее и швед Цорн – по манере Цорн близок поискам французов. И все же главное, что я понял, – бесполезно подражать кому-то, надо идти своим путем.
Константин добавил, что и сам кое-какие картины во Франции написал и потом покажет, и начал в свою очередь задавать вопросы: что нового в Москве, в российском художестве, как продвигается «Семейный портрет», от которого он сбежал в Париж? Отвечая, Серов помянул о передаче в дар Москве Павлом Ивановичем Третьяковым своей картинной галереи. И о том, что был большой шум по поводу письма Репина из-за границы, напечатанного в «Театральной газете». Илья Ефимович вдруг объявил себя чуть ли не поклонником «чистого искусства». Выразился в том духе, что его восхищает любой пустяк, лишь бы он был исполнен художественно, тонко, с любовью. А Стасов, понятно, увидел в сей мысли крамолу и отход Репина от гражданской позиции. Говорят, былые друзья рассорились насмерть.
О царском семейном портрете Серов сказал, что он почти закончен и скоро сей тяжкий груз, порядком ему надоевший, будет сброшен. Помогли сеансы с натуры государевых деток, и самого государя немного воочию довелось лицезреть. Смотрел групповой царский портрет великий князь Сергей Александрович и выразил удовлетворение, особенно изображением государыни. И что к началу лета отправят портрет в Борки, на генеральный смотр, куда и все государево семейство прибудет на освящение церкви. Закончил шуткой: «Тут и плаху готовь».
– Чувствую, напрасно ты себя пугаешь, – подковырнул Коровин. – У тебя хоть перспективы есть, свет впереди обозначен. А что у меня? Неизвестность и полный мрак.
И тут же спросил о Врубеле: он-то как поживает, встречаетесь?
И Серов подтвердил, что встречаются, куда ж друг от друга деться. В основном – у Мамонтовых. На Рождество опять выступали в новой комедии Саввы Ивановича из театральной жизни. Сам Серов сыграл режиссера, а Михаил Александрович актера-трагика. А вот с художественными делами у Врубеля неважно обстоит. Сработал он панно дляя нового дома мамонтовских родичей – четы Дункер. Но эти панно им почему-то не приглянулись – отвергли. А среди них есть замечательная вещь, «Венеция». Михаил Александрович ее по итальянским впечатлениям писал. Так и пылится теперь у него. Он от отчаяния, закончил о Врубеле Серов, что никто работы его не видит, подумывает о собственной выставке, чтобы и «Демона», и другие вещи показать.
– Жаль его, какой талант, – вздохнул Коровин, – и никак не пробьется!
Через несколько дней Серов зашел в снятую Коровиным квартиру, чтобы посмотреть на работы друга, написанные им во Франции.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?