Текст книги "Ледобой. Круг"
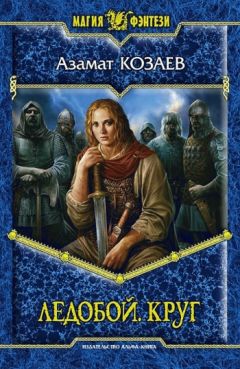
Автор книги: Азамат Козаев
Жанр: Книги про волшебников, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Порвали тебя, дурачка-а-а-а, – подтянула к себе и улеглась головой на его ноги, так было удобнее. Страшный удар чуть не надвое распорол сухое тельце. Там, где когти вошли в грудь, по сторонам ран торчали лохматые заусенцы, а там, где уже вспарывали плоть, борозды шли ровнее и чище. – Должно быть, рысь? Точно не медведь – не стало бы тебя, глупы-ша-а-а-а…
Почему я не хотела есть? Только пила и ходила под себя по-маленькому. Лениво чесалась, когда кожа начинала свербеть, но даже чесотка и зуд не возвращали остроты чувств. Ну принесли кого-то. Раньше был волк, теперь человек, всяко теплое изголовье. Утро… день… вечер… ночь, уходит одно, приходит другое, не все ли равно? А перед рассветом, когда мальчишка застонал и начал ерзать, я вынырнула из своего забытья и удивленно посмотрела на мальца. Сам не спит, другим мешает! Ну чего буянит, пытается расчесать грудь? Нельзя так, ночь для того и дадена, чтобы отдыхать, а не стонать и трепыхаться. Спутала мальчишке руки, улеглась на ноги и уснула.
Когда мальчишка потянулся и встал? На третий день, на четвертый? Не знаю, а только исчез он так же, как волк. Из лесу вышли косматые бородачи и унесли храбреца. Тот пытался встать на ноги, идти сам, но маленького духаря уложили на носилки. Полумрак лишь сыто чавкнул, и как будто никого и не было.
А когда надо мной склонилось лицо, показавшееся знакомым, а следом и второе, улыбнулась. Ровно сговорились. Кречет и Потык…
Растрясло. Убаюкало. Коняга Потыка волокла телегу неспешно, словно боялась за мой спокойный сон. А я уснула. Просто-напросто уснула.
– Вези меня, лошадка, за синие моря, эх, жизнь моя бедовая, все зря, зря, зря-а-а-а… – бормотала, свернувшись клубком на дне телеги. Ворох сена пах одуряюще, а много ли горемыке нужно?
Зря, зря, зря-а-а-а…
Спала всю дорогу, не скажу, где именно встала деревенька Потыка, на полуночи, на полудне, на западе или востоке. Далеко или близко, высоко или низко.
– Тпру-у-у, приехали, – раздалось над самым ухом знакомым голосом. – А ну, Полено, принимай!
Меня кто-то бережно поднял со дна телеги и понес. Над головой проплыла массивная притолока, а по левую руку выросла бревенчатая стена. Положили на лавку, чем-то укрыли, а меня отчего-то зазнобило. Застучала зубами. Вот ведь чудеса! Сколько дней на земле провалялась, хоть бы хны, а стоило в избе оказаться, пригреться под одеялом – разнесло на чих и сопли.
– Дело худо. – Я приоткрыла глаза. Надо мной встали четверо бородачей, а какая-то бабка всплескивала руками и причитала: – На человека не похожа! Батюшки мои, да кто это?
– Перевалок, топи баню, – оборвал старуху Потык. – А ты, мать, готовь снедь. Оголодала девка. Тоща как жердь.
Куталась в одеяло и лоскутным разноцветьем отгораживалась от мира, от света, от людей. Тут, под одеялом, мое «л-л-л-л…» звенело особенно гулко. А куда делся Кречет? Показалось или он действительно был там, у памятника?
– А где Кречет-т-т-т?..
Старик парил самолично, и странное дело, я не чувствовала неловкости. Как будто снова впала в детство, отец купает папкину дочку в большом корыте, а я смешно жмурю глаза, чтобы не попал пенник.
– Тот здоровенный каменотес? – Потык разложил меня на банном полке и пытался расчесать волосы. Заблудился в колтунах, как в буреломе. Распарил до того, что все нутро заполыхало, про сопли, кашель и чих я позабыла, а кожа скрипела, ровно воловья, когда ее после усмаря пускают на сапог. – Там остался, у памятника. Сам хотел тебя забрать, да ко мне ближе вышло.
Тонула. В неге, благости и тягучем послезвонии, с которым уже свыклась. Будто опустилась на самое дно глубокой реки, только не воды сомкнулись надо мной – безразличие и жалость к самой себе. Слова Потыка, точно камни, падали на донце, поднимали муть, но ненадолго. Песок уносило течением, и в сонном царстве опять воцарялись длинные «хвосты» незаконченных слов. «Он меня бросил-л-л-л-л…»
– Хорошо, что вовремя поспел. Могла и простуду поймать. А вам, бабам, это опасно. Земля, конечно, большая умница, но тепло любит, как теленок молоко. Мигом из косточек вытянет. А раз потерявши, обратно не вернешь, хоть из парной не выходи. Думаешь, отчего старики даже в жару кутаются?
«…л-л-л-л…»
– Глаза мне твои не нравятся, – продолжал между тем Потык. – Не видел бы тебя раньше, так и сошло бы. Что стряслось? Как будто умишко потеряла. Или украл кто?
– Он уехал-л-л-л… – Меня потянуло в сон.
– Не спи! Не спи, кому говорю! – Старик наконец распутал бурелом волос, облил всю чем-то едко пахнущим и принялся растирать, не жалея ни меня, ни своих рук. Мама, мамочка, до чего же запекло! Через распаренную кожу будто огонь просочился, растекся по жилкам, а сердце заметалось по груди, мало через рот не выскочило.
– Самогон-самогонище! – довольно буркнул Потык. – И нечего нос воротить! Вы, бабы, парить не умеете. А нам с тобой нужно тепло сберечь! Говоришь, уехал твой?
– Безрод уехал-л-л-л-л…
– Еще тогда почуял, что не все у вас ладно. Да соваться не стал. Не мое дело.
– Он уехал-л-л-л-л…
– Да погоди причитать! Ровно голову потеряла! Ох, не нравишься ты мне! Как бы на самом деле с умишком не простилась. В глаза смотри, в глаза!
Жесткая ладонь, будто клещами, обхватила мое лицо и вздернула к потолку. Колючие, линялые глаза под кустистыми бровями смотрели требовательно и пытливо.
– Куда уехал? Отвечать быстро!
– Не знаю-у-у-у-у…
– Сколько дней лежала у памятника?
– Не знаю-у-у-у…
Точно круги на воде. Старик бросит камень, а я качаюсь на волнах, что расходятся по зеркальной глади. Волны медленные, долгие, качаюсь, пока старую волну не перебьет новая. «…Уехал-л-л-л…», «Не знаю-у-у-у-у…»
– У тебя хвост отвалился!
– Не было у меня хвоста-а-а-а…
– Хорошо хоть соображаешь. На спину ложись.
Нимало не стесняясь, перевернулась на спину. А чего стесняться? Стесняется человек, а я нежить. Ровно не живу, словно тенью стала. Была Верна, была и тень, теперь Верна куда-то пропала, а тень осталась. Потык мял жесткими ладонями, как тесто месил, а я вспоминала. Это уже было, было! Вот лежу на полке в бане, и кто-то гонит из меня хвори. Говорят, жизнь по кругу ходит. Весна, лето, осень, зима, и все сначала. И опять я на банном полке. Только теперь самогоном воняет.
– Ишь ты, шрам! И еще один! – Старик ничего не пропускал и упаривал веником. Уже который раз кручусь на полке, спина – живот – спина – живот. – А кто тебе, красота, нос поломал и зуб выбил?
– Крайр-р-р-р-р, – пробормотала. Дышать просто нечем все внутри горит.
– Кто такой? Да ты не спи, девка! Слово бросишь и сникаешь, будто в сон клонит! Не время спать, отоспишься еще!
– Налетчик-к-к-к…
– Вот и славно. Память крепка, соображение имеется, просто растерялась. Ровно полтебя за Безродом убежала. Вполсилы живешь, в четверть смотришь, в осьмушку дышишь. Поднимайся, красота, вставай, Вернушка. Я тебя вот в чистое заверну.
Вернушка-а-а-а-а… Так меня Тычок звал. Где они теперь? Далеко-о-о-о…
– Цыть! – Потык высунулся за дверь. – Забирай в дом!
– Что с ней?
Старшему Потыковичу я годилась в дочери, он и взял меня, будто дочь, бережно, осторожно.
– Оклемается. Потерялась маленько, да ничего. Найдется.
– Ну и ладно. Пошли, красавица!
– Пошли-и-и-и-и…
Меня чем-то напоили, и я уснула. Дышала и надышаться не могла. Сделалась чиста, ровно выстиранное исподнее, и даже гудело внутри теперь по-другому, выше и тоньше: ушел-л-л-л-л, бросил-л-л-л-л…
Снился большой и светлый дом, большой оттого, что балка взмыла над полом в три человеческих роста, а светлый потому, что на каждую стену пришлось по здоровенному окну. Высокую кровлю захотела я, а окна в каждой стене – Безрод. Очень понравился наш дом, наконец-то все мытарства остались далеко в прошлом. Что-то большое и невмерно радостное ждало меня в каждом «завтра»: Безрод рядом, улыбается, и все между нами ясно. Тычок весело балагурит, и даже Гарька рада чему-то своему. И кажется, на мне больше нет доспехов, меч отложен в угол, и занимается оружием только Сивый – чистит, наводит блеск и ухаживает всяким прочим образом. Я же занята бабьими делами, стираю, готовлю; вот и теперь вышла на реку, стою на мостках, рядом корзина с бельем. Но что за шум летит издалека, как будто кто-то кричит?..
– Верна-а-а-а-а, горю!
Замерла на самом краю дощатого настила, и река едва не выхватила из рук белье. Кричали? Мне показалось, будто кричит мужчина, и вовсе не от радости. Определенно не Тычок, у старика сил не хватит на такой мощный рев. А ведь Безрод поет, вполсилы так рявкнет, что услышишь даже на другом краю леса.
– Безрод! – всплеснула руками, и белье таки уплыло. – Безрод!
Щеки заполыхали, я невольно приложила мокрые ладони к щекам. Бежать, немедленно бежать к дому, бросить корзину у реки и сломя голову рвать назад! Прибрала одежды, утянула повыше, чтобы не мешали, и только доски подо мной загрохотали.
Едва не поскользнулась на сыром берегу, вылетела на утоптанную тропинку (оказывается, я столько настирала, что дорожка уплотнилась) и понеслась к дому. Низинка, песок, трава, косогор, поляна, поворот. Вылетела на открытое и оторопела. Гулко, неистово, мощно дом пожирало неумолимое пламя, гудело, трещало и бесновалось над коньком.
– Верна-а-а-а-а, горю! – Крик боли и муки прилетел из огненного вихря.
– Безрод, Безрод!.. – едва не захлебнулась отчаянием. Так бывает, когда резко встаешь с ложа. Какое-то время кружится голова и перед глазами цветут звездочки.
Недолго счастье длилось. Только пригубила из живительного источника, лишь смочила губы, и вновь иссушающее горе змеится внутрь, выхолаживает грудь, живот, ноги.
– Безрод, Безрод! – То не дом рушился – я выгорала, осыпалась кусками выжженного естества. Вот разваливается связка бревен, и угол дома шумно оседает, бессильно, кособоко, точно раненый вой.
– Безрод, Безрод!.. – сорвала горло и швыряла в огонь все, что попадалось, – камни, землю, даже рассудок швырнула, словно это могло помочь, а когда трезвомыслия не осталось вовсе, бросилась в пламя сама.
– Стой, дуреха, стой! – Чьи-то сильные руки крепко меня спеленали и обездвижили. Держали двое или трое, но какое-то время я волокла их за собой и подтащила так близко к огню, что волосы у нас затрещали, а дышать стало невыносимо больно и горячо.
– Безрод, Безрод!.. – уже не орала, а сипела, вытягивая руки к пожарищу. Огонь стегал воздух неуловимо быстро, глаз не успевал за бешеной пляской языков пламени, да и не осталось больше языков пламени – сплошная огненная стена волновалась передо мной.
Рухнула наземь и покатилась, избавляясь от пут. Нужно туда, я вытащу Безрода из огня.
– Верна-а-а-а-а…
– Пусти! – лупила по рукам, что держали за ноги и не давали ползти, удивительно цепкие, сильные руки. Тычок? Гарька? – Пусти!
– Сгоришь, дура!
– Там Безрод! – отчаянно лягалась, и на какой-то миг показалось, что вырвалась. Вскочила на ноги и припустила было к дому, но сзади жестоко и безжалостно ухватили за волосы и рванули назад, а когда несколько человек за руки-ноги распяли на земле, бессильно заплакала… и словно тряпку сдернули с глаз.
Черное небо, звезды. Зарево пожара отчаянно гонит ночь, беснуются языки пламени. Горит на самом деле, я лежу на земле, и несколько человек держат за руки-ноги. Темечко ноет.
– Очухалась? – вовсе не Тычок и не Гарька держали меня. Потык устало смахнул испарину со лба.
– Воистину медведица! – Полено разжал хват и еле поднял руки, сведенные судорогой. Пальцы так и остались растопырены, точно воронья лапа. – Думал, в огонь уволочет.
– Где Безрод?
Перед глазами цвело, кожу пекло, и в пожарище сошлись воедино явь и сон. Чуть сама не стала вечностью и едва не утащила за собой несколько человек.
– Убраться бы отсюда. – Перевалок дышал тяжело, будто в одиночку свалил неохватное дерево. – Вот-вот рухнет.
– Где Безрод?..
– Ну-ну, не буянь. Вон твой Безрод.
Он здесь?! Он здесь! Не бросил меня! А из-за пламени, откуда-то с той стороны, вышел Цыть. Склонился надо мной, какое-то время смотрел в глаза, словно искал что-то, и переглянулся с отцом.
– Ожила, ожила. – Потык довольно кивнул, поднимаясь на ноги. – Теперь не просто пойдет по жизни, умчится, ровно кобылка. Вставай, Вернушка, навалялась по земле. Хватит.
Должно быть, моя недогадливость проступила на лице и сделалась так явственна, что Цыть без указок старика приложил руки ко рту и крикнул во всю мочь:
– Верна-а-а-а, горю!
Я ошеломленно села. Почувствовала себя неловко, чего-то определенно не хватало, как будто забыла одеться, выходя на люди. А все просто. Исчезло тягучее, вездесущее послезвоние в голове – вот чего не стало. Глядела теперь не краем глаза – в оба глаза, слушала в оба уха, и смрад пожарища лез в нос полновесно, а не седьмой водой на жиденьком киселе.
– Оттаяла, девонька? – Надо мной участливо склонились четверо бородачей и за руки подняли на ноги – все это время я лежала на траве и здорово извозила чистую сорочку.
Только тут сон окончательно улетучился, и действительность посмотрела на меня из множества лиц. Деревенские толпились вокруг, бабы сокрушенно качали головами, а мужики с ведрами, полными воды, недоуменно застыли в десятке шагов от пожара. Застыли и смотрели на Потыка.
– Это всего лишь ветхий сарай. – Старик махнул рукой. – Только глядите за искрами, не пошел бы огонь верхами. Топай, Вернушка, в дом, а сарай… пусть догорает.
Я молча послушалась. Даже не заметила, как выскочила в одной сорочке, босая, растрепанная, не понимая, где явь, а где сон. Присела на ложе и до утра не сомкнула глаз. Боялась. А ну как засну и приснится нечто более жуткое? А еще тишина мешала, теперь не баюкало завораживающее послезвоние. «Безрод уехал» тяжеловесно, ровно кузнечные заготовки, падало куда-то внутрь, и от короткого, но оглушительного звона закладывало уши.
– Подскочила? – Старик нашел меня на завалинке и как будто совсем тому не удивился.
– Вовсе не спала.
Потык опустился рядом. Он уже где-то побывал, сапоги искрили росой в первых лучах солнца.
– В Беловодицу ходил.
– В сад?
– Ага. Стоит. Меня ждет. Вот-вот впрягусь. Неподъемен гуж, да мне, упрямцу, все равно.
– А как я тут очутилась?
Усмехнулся.
– Что ты помнишь?
– Да так… Всякие обрывки, звери, люди…
Потык сунул в зубы травинку и вытянул ноги.
– Нечасто сапоги надеваю. Не люблю их. Земля куда мягче, ведь правда? На земле спала, когда нашел.
Кивнула. Это помню.
– Слух по округе разлетелся. Дескать, на поляне у дороги встало диво-дивное – каменное изваяние, а под ним полоумная живет. И якобы лечит она всякого, зверя и человека.
– Был какой-то волк. Или собака…
– Волк. Тех парней из Недоспелихи я знаю, охотники серьезные, врать не станут. Иной приукрасит, мол, медведя в одиночку взял, эти – нет. Никогда. От них и услышал про бабу, подле которой волк сделался ласков, будто ручная собака. Сам в руки отдался. А еще сказали, что даже подойти близко не смогли. Такой тяжестью нутро налилось, таким предчувствием, стало так страшно, как не было в охоте на медведя. Говорили, ноги едва не отнялись, даже на шаг сподобиться не смогли.
Слушала молча. Как что-то незначительное вспоминала то и это – и охотников и волка.
– Волчище был обречен. Кровищи потерял – не дайте боги! А ведь выжил серый. Да еще говорят… – Старик понизил голос до шепота. – Будто обломок стрелы сам из раны пополз!
– Да?
– Тебе виднее. Потом был мальчишка.
– Какой мальчишка?
– Не знаю. Просто мальчишка. Человек вовсе не так глуп, как иногда видится. Разглядеть очевидное не сложно, были бы глаза открыты.
– И что мальчишка?
– Рысь порвала. Думали, не выживет, деревенский ворожец отступился, а тут молва подоспела про диковинного волка. Мальца принесли к тебе, положили у изваяния.
– И что?
– Выжил. – Старик помолчал. – Значит, решила изваяние поставить?
– Сам ведь говорил, что странное место, богами отмеченное. Дескать, понять бы только задумку всевышних.
– Теперь уж поняли. – Потык задумчиво катал травинку по губам. – Нельзя брать и ничего не отдавать взамен. Так не бывает. Сначала унавозишь землю, потом польешь, тогда и требуй. А кто тесал каменного воя?
– Я.
– Сама?
– Да. Ты надоумил. А правда, что Кречета видела у изваяния, или показалось?
– Едва я услышал про безумицу на поляне, тотчас поспешил. Телегу снарядил, кликнул старшего, и только пыль за нами встала. А с другой стороны мастеровые подъехали, двое, и тоже как будто по твою душу. Что они тебе не враги, сразу понял. Видела бы, как они перепугались. Кречет глядел то на тебя, то на памятник, шептал что-то.
Я кивнула. Продолжай, старик.
– Смотреть на тебя было страшно. Отощала, опустилась, ровно из ума выжила. Не видел бы несколько дней назад – решил, что с тобой кончено. Посмотрел внимательнее, а ведь пляшет где-то в глазах огонек, да так глубоко и слабо, что раздувай из искорки пламя – не вдруг и раздуешь. Вот и забрал к себе. Хотел и Кречет, но у него телеги не было, и ехать вышло бы дальше.
– А ночью что случилось?
– Ничего. – Старик усмехнулся. – Поджег сарай, велел старшему орать дурным голосом, тебя звать.
– Зачем?
– Спала ты, дуреха, да не простым сном. Словно замерзла. Будто половина тебя вслед за Безродом умчалась, а жить на свете осталась другая половина. Только много ли наживешь половиной сердца, вполглаза, вполвздоха?
– И что?
– А ничего. Разбудили. Спасать Безрода прибежала, да не половинкой – целиком. Кто же любит вполсердца? И спасала, как любишь, – всей душой. Ну слава богам, собрали по кусочкам!
– Ты сарай сжег. Зачем?
Улыбнулся.
– Все за тем же. Понял что-то очень важное про изваяние на поляне. И, наверное, не раз еще схожу на поклон каменному вою в красной рубахе. За тем, за этим. Жизнь – трудная штука, без крови обойтись не выходит. А получать, не отдавая, невозможно.
– И что теперь мне делать?
– То же, что и раньше. Только не половинкой, а целиком. Кольцо у тебя красивое.
Кольцо? Какое кольцо? В безумии последних дней даже не заметила, как на пальце оказалось то самое обручальное кольцо. Видимо, каталась по траве и случайно нашла. Натянула на палец и сама не заметила. Вот те раз! Тупо смотрела на кольцо и не могла поверить удаче.
– Все, что нашли у изваяния, забрали с собой. Вещи, оружие, конь сам за телегой побежал.
– Губчик здесь?
– В хлеву стоит. Извини, конюшни нет. Пока не разжился.
Спрятала лицо в ладони. Голова кругом пошла. Воистину время понеслось, точно горячая лошадь, и меня совсем не жалеет. Дни и ночи летят, ровно стрелы, и пытаться поймать их руками – гиблое дело.
– Так что мне теперь делать? Ты сказал про какую-то половину.
– Искать. Но не половиной души, а целиком. Полдуши ему вослед отпустила, еле вернули. Хочешь найти, ищи. Тебе решать.
А что тут решать? Улыбнулась. Все решилось в тот момент, когда не нашла на поляне спутников. Душа задвинула голову куда-то в уголок и унеслась еще по горячим следам поперек рассудка. Что тут решать? Я не смогу обманываться. Да и не хочу врать сама себе. Безрод мне нужен. И я ему нужна. Он просто не догадывается об этом.
– Поеду искать.
Старик усмехнулся.
– Ничего другого не ждал. Ты, главное, не отчаивайся и голову не теряй. Держи душу в узде. Вперед отпусти, да не сильно, лишь бы голова следом поспевала.
– А ты?
– Меня Беловодица ждет.
Еще несколько дней простояла у Потыка. Окрепла, отъелась, отмылась, отогрелась. Подарки, что оставили Безрод, Гарька и Тычок, всякий раз в изголовье клала. Раньше не замечала, только на каждом подарке нашла капельку крови. Подарки не простые, каждый оставил мне частичку своей души. А ровно через седмицу съехала. Сама не знала куда. Куда-нибудь.
Часть вторая
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
Глава 1
ИСКАТЬ
Тяжеловесный мохноногий вороной мерно рысил по натоптанной дороге. Не большие и не маленькие, Камнеград и Скаловище с обеих сторон замкнули дорогу, а может быть, наоборот, дорога снизала оба поселения, словно бусы на шнурок. На плоских предгорьях выросли города, и даже не города, а скорее просто большие поселки. Жилые дома, мастеровые клети, терем наместника и даже небольшой торг – вот и все, что ограничивали и защищали крепостные стены. Несмотря на удаленность от остального мира, Торжок в обоих городках не замирал ни на день. Скаловище и Камнеград не могли похвастаться ткаными рядами, лавками златокузнецов и глиноделов, но против остального имелось в достатке нечто такое, за чем сюда приезжали издалека. Далеко за пределы горной страны улетела слава длинноногих горных коров, статью похожих одновременно на мулов и на буренок. Удобство тут же оценили, покупаешь корову, а с другой стороны как будто и мула. Коровьей неуклюжести зупаки лишены, вымя невелико, и, если возникла нужда, их можно использовать как вьючную и даже верховую скотину. К слову сказать, молоко зупаков также не похоже на молоко равнинных коров. Более жирное и для кого-то более вкусное, а если за дело брался знатный сыродел, выходил известный далеко вокруг сыр-каменец, весьма употребительный с бражкой.
На полпути между Камнеградом и Скаловищем дорога «разлохматилась», будто тканый пояс, – горный кряж неподалеку просел, и к невысокой седловине убежала тропа. Вовсе не торговые дела гнали всадника вперед и не дела службы – против седловины верховой свернул с удобного пути, и вороной мерно затопал по каменистой тропке, что легла между редких сосен.
Отлогая стежка змеилась по горному редколесью, незаметно поднимаясь. Последний раз ею пользовались много лет назад, она и заросла бы давным-давно, и даже следа не осталось, если бы земли тут было побольше. Ветры наносили сюда почву, но ливни, в этом месте стекавшие с гор, словно по водосточному желобу, вымывали всю ее напрочь. После дождя оставались лишь камни, большие и мелкие.
Кряж пользовался дурной славой, и забредать сюда рисковали немногие, даже отчаянные пастухи не гоняли в эти мрачные окрестности стада длинноногих зупаков. Седобородые старцы рассказывали про мрачную седловину жуткие истории, неизменно добавляя, что слышали их от деда, а тот, в свою очередь, от своего деда. В стародавние времена хребет перешло многосильное войско и опустошило предгорье, вырезая жителей, угоняя стада и бесчинствуя всяким иным образом. Неподалеку случилась кровавая сшибка, и хотя пришельцев разбили наголову, у победы остался неприятный осадок. Загорная дружина не раз имела возможность спастись бегством, но предпочла до единого воина остаться на поле боя, словно дороги назад им просто не было. В догадках недостатка не случилось, придумали даже такое, будто путь назад жестоким пришельцам заповедал могучий колдун. И когда от всего войска захватчиков остался один-единственный боец, защитники посчитали битву выигранной. Но последний загорный воин сдаваться и не думал – изошел жутким смехом, развернул коня и ускакал в горы. За ним снарядили погоню, в угаре вящей радости решив извести врага под самый корень, до единого человека.
Пришелец уходил в горы едва не лениво, будто вовсе не собирался избежать гибели, наоборот, долгое время держался на виду погони, словно дразня и подманивая. А когда достиг предгорий и забрал в сторону седловины, пастухи испуганным взглядом проводили конный ход…
И все. Двадцать человек ушли за славой и не вернулись. Высокогорье поглотило их и не отпустило. Дважды снаряжали поисковые отряды, однако без особого успеха. Нашли только шлем чуть дальше по тропе да поломанный меч. Никаких следов исчезнувшей дружины. В горах стало происходить непонятное. Бродягам и заблудшим путникам мерещились голоса, а кое-кто даже тени видел. Страшными голосами видения просили есть и пить. Ни скоро ни долго тропу в сторону седловины забыли как жуткий сон, а со временем подробности и вовсе стерлись из людской памяти. Помнили только одно: в горы соваться небезопасно, там обитают призраки.
Вороной оставил позади сосновый лес, не выказывая ни малейших признаков беспокойства. Стоило съехать с дороги и войти в ущелье, все сущее вокруг немедленно изменилось. Ласковое солнце и синее небо остались на равнине, разыгрался ветер, воздух сделался влажен и сыр, а небо заволокли тучи. Пологие холмы встали справа и слева, будто молчаливые стражи провожая одинокого путника, но тот разу лишнего не вздохнул, только усмехнулся, похлопав жеребца по холке. Тропа перестала забирать вверх, и всаднику открылось обширное, ровное плоскогорье, со всех сторон заключенное в кольцо далеких мрачных скал. Там и сям, насколько хватало глаз, покоились валуны – огромные, темные, угловатые.
– Черныш, мы почти на месте. – Странник натянул повод и привстал на стременах.
Вороной склонил голову и обнюхал землю. Каменистая поверхность была почти лишена растительности, только трава-засорка обжила мрачную пустошь, сбиваясь в зеленые пятна, будто даже сорняк не рисковал селиться тут одиночными кустами. Следопыт закрыл глаза и какое-то время оставался недвижим, Черныш прядал ушами и лениво махал хвостом.
– Вперед. – Верховой наконец открыл глаза и уверенно придал жеребца пятками. – Наш путь лежит вперед, в самое сердце горной пустыни.
Над каменной равниной не летали птицы, по земле не порскали мыши. Низкие, сизые тучи медленно плыли из конца плоскогорья в конец, едва не царапая донцем валуны. Закатное солнце проглядывало сквозь облачную завесу, и донельзя странным выходило все вокруг: небо, затянутое ливневой пеленой, жуткая тишина, которую не нарушало ничто живое. Лишь ветер носился меж камней да трава-засорка шелестела.
Вечерело. Горные сумерки падают стремительно, быстрее, чем на равнине, исчезает свет, и все поглощает непроглядная темень.
– Подбираемся к середине. – Многоименный потрепал коня по холке и улыбнулся.
Ночь пала стремительно. Еще недавно валуны отбрасывали тени, теперь все кругом залил густой сизый полумрак.
– Это здесь. Искомое место. – Следопыт остановил вороного, бросил взгляд кругом и спешился. Чернильное небо расплескалось безбрежно, а глыбы, еще более темные, чем остывающий свод, представлялись непроглядными дырами.
Здесь не росли деревья, лишь иногда под копытами жеребца щелкали сучья, занесенные в горную страну проказливым ветром. Путешественник остановился в нескольких шагах от кучи сухостоя, достаточного для того, чтобы разжечь небольшой костер.
– Вот и огонь, – усмехнулся Многоименный, а Черныш склонил голову, раздувая над крохотным пламенем чуткие ноздри.
С горящей дровиной в руке странник углубился в сумерки. Парой сотен шагов дальше остановился и, присев, осветил землю перед собой. Два исполинских каменных шипа, встав бок о бок, образовали угол, привалившись к которому в позе сидящего человека покоились останки. Голову непогребенный свесил на грудь и, отвалив челюсть, безглазо таращился в землю. Когда-то погибший носил доспехи, они и теперь, полуистлевшие, прикрывали кости. Кожа брони давно сгнила, и только ребра распирали бронзовый нагрудник, грязно-зеленый по прошествии многих лет. Кости ног уже занесло песком и мелкими камешками, а со временем останков и вовсе не станет видно. Некогда на шее воя покоился амулет на бронзовой цепи – два подковных гвоздя, перевитые в косицу, – он и теперь висел на костях, под нагрудником, постаревший от времени и почерневший. Следопыт протянул руку и осторожно двумя пальцами порвал цепь – одно из звеньев не выдержало и распалось…
Далеко за полночь, когда странник и конь отдыхали на земле друг подле друга, во тьме обнаружилось движение столь призрачное, что явственнее бывала даже лунная тень в ночном лесу. Нечто проявилось из темноты и бесшумно заскользило на огонь, точно бабочка на свет, мрак во мраке. Перетекая от валуна к валуну, сгусток сумерек уплотнился за глыбой в шаге от всадника и лошади, неразличимый в окружающем безмолвии. Черныш беспокойно поднял голову и тряхнул гривой, чутко раздувая ноздри, следопыт и бровью не повел, лишь запахнулся поплотнее в плащ. Непроглядное пятно бесшумно выплыло из-за валуна, и жеребец оскалил зубы, будто заправский пес. Перед костром трепетало и струилось, ровно видение в знойной пустыне, только не залитое светом и прозрачное, а мрачное и беспросветное. Здесь, на пятачке перед костром, даже огонь не рассеивал сумрак – ночной гость присел над спящим и протянул руку к амулету в ладони следопыта, оставалось только сомкнуть пальцы на бронзовой цепи и потянуть… Точно стена воздвиглась на пути хозяина этих мест, растопыренная пятерня повисла над амулетом, не достигнув сущей малости, – ноготка не хватило. Следопыт открыл глаза и усмехнулся.
– Не выходит?
– У тебя моя вещь. Отдай.
– Забери.
Разомкнул пальцы, открывая ладонь, но что-то мешало порождению первобытного мрака забрать косицу на цепи. Рука дрожала от напряжения, словно под непосильной тяжестью.
– Не выходит? – лениво повторил следопыт.
Владелец амулета бессильно опустил руку и, склонив голову, выглянул исподлобья. Да, ночной гость, плоть от плоти сумерек, был странен – черты лица лишь угадывались, прикрытые шлемом, только глаза и подбородок, словно рубленный топором, остались не закрыты. Весь неявный и ненастоящий, он клубился, как если бы в телесной оболочке, прозрачной, будто слюда, воскурили жирный, сажный дым.
– Ты… ты… – прохрипел черный воин.
– Да, это я. – Путник сомкнул пальцы, и амулет исчез в огромной ладони, лишь кончик цепи остался торчать наружу. – И пока сам не решу отдать амулет, он останется у меня. Садись, ближе к огню, ведь пламя не причинит тебе вреда?
Странный воин опустился на камень против костерка и замер, глядя на следопыта. Пламя не плясало в его глазах, как это бывает с человеком, подсевшим к огню, свет как будто проваливался в ненасытную яму и не возвращался. Доспехи не бликовали, ровно слой копоти скрыл их некогда сверкающую поверхность, и ни бляхи, ни ременные пряжки не пламенели в скупом свете костра. Ничто не скрипело, не звенело, не бряцало, только звук голоса истекал из сгустка жирного дыма, и тот блеклый, неясный, будто эхо в горах.
– Чего хочешь, Многоименный?
– Ты мне нужен, Змеелов. – Охотник за костями свесил амулет на палец, и тот качался над огнем такой же черный, ненастоящий и старый, как все остальное, – доспехи, шлем и сам призрак. – Сделай то, о чем попрошу, и навсегда обретешь покой.
– Сто двадцать лет я, последний из войска Каллума, блуждаю между тем светом и этим в окружении таких же беспокойных привидений, как сам. – Черный Всадник заговорил, и голос его стал везде, будто расслоился, и звучал одновременно справа и слева, спереди и сзади. – В тот день после бесславного конца двадцать безумцев устремились за мной в погоню, и одного за другим я оставил их гнить в этом проклятом месте. Знал ли о том, что в каменной пустыне вовсе не останется победителя и проигравших? Едва мы ступили в это проклятое место, разделили одну печальную судьбу на всех. Сто двадцать лет, непогребенные, бродим между мирами, пугаем случайных бродяг и просим лишь одного: тризного пламени и поминального пира.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































