Текст книги "Белла Ахмадулина"
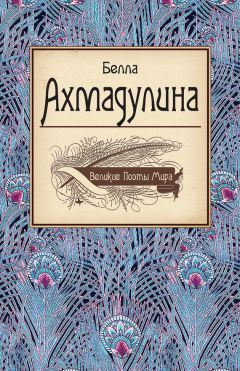
Автор книги: Белла Ахмадулина
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Радость в Тарусе
Я позабыла, что всё это есть.
Что с небосводом? Зачем он зарделся?
Как я могла позабыть средь злодейств
то, что ещё упаслось от злодейства?
Но я не верила, что упаслось
хоть что-нибудь. Всё, я думала, – втуне.
Много ли всех проливателей слёз,
всех, не повинных в корысти и в дури?
Время смертей и смертельных разлук,
хоть не прошло, а уму повредило.
Я позабыла, что сосны растут.
Вид позабыла всего, что родимо.
Горестен вид этих маленьких сёл,
рощ изведенных, церквей убиенных.
И, для науки изъятых из школ,
множества бродят подростков военных.
Вспомнила: это восход, и встаю,
алчно сочувствуя прибыли света.
Первыми сосны воспримут зарю,
далее всем нам обещано это.
Трём обольщеньям за каждым окном
радуюсь я, словно радостный кто-то.
Только мгновенье меж мной и Окой,
валенки и соучастье откоса.
Маша приходит: «Как, андел, спалось?»
Ангел мой Маша, так крепко, так сладко!
«Кутайся, андел мой, нынче мороз».
Ангел мой Маша, как славно, как ладно!
«В Паршино, любушка, волк забегал,
то-то корова стенала, томилась».
Любушка Маша, зачем он пугал
Паршина милого сирость и смирность?
Вот выхожу, на конюшню бегу.
Я ль незнакомец, что болен и мрачен?
Конь, что белеет на белом снегу,
добр и сластёна, зовут его: Мальчик.
Мальчик, вот сахар, но как ты любим!
Глаз твой, отверсто-дрожащий и трудный,
я бы могла перепутать с моим,
если б не глаз – знаменитый и чудный.
В конюхах – тот, чьей безмолвной судьбой
держится общий не выцветший гений.
Как я, главенствуя в роли второй,
главных забыла героев трагедий?
То есть я помнила, помня: нас нет,
если истока нам нет и прироста.
Заново знаю: лицо – это свет,
способ души изъявлять благородство.
Семьдесят два ему года. Вестей
добрых он мало услышал на свете.
А поглядит на коня, на детей —
я погляжу, словно кони и дети.
Где мы берем добродетель и стать?
Нам это – не по судьбе, не по чину.
Если не сгинуть совсем, то – устать
всё не сберемся, хоть имеем причину.
Март между тем припекает мой лоб.
В марте ли лбу предаваться заботе?
«Что же, поедешь со мною, милок?»
Я-то поеду! А вы-то возьмёте?
Вот и поехали. Дня и коня,
дня и души белизна и нарядность.
Федор Данилович! Радость моя!
Лишь засмеется: «Ну что, моя радость?»
Слева и справа: краса и краса.
Дым-сирота над деревнею вьётся.
Склад неимущества – храм без креста.
Знаю я, знаю, как это зовется.
Ночью, при сильном стеченье светил,
долго смотрю на леса, на равнину.
Господи! Снова меня Ты простил.
Стало быть – можно? Я – лампу придвину.
1–2 марта 1981Таруса
Возвращение в Тарусу
Пред Окой преклонённость земли
и к Тарусе томительный подступ.
Медлил в этой глубокой пыли
стольких странников горестный посох.
Нынче май, и растет желтизна
из открытой земли и расщелин.
Грустным знаньем душа стеснена:
этот миг бытия совершенен.
К церкви Бёховской ластится глаз.
Раз ещё оглянусь – и довольно.
Я б сказала, что жизнь – удалась,
всё сбылось, и нисколько не больно.
Просьбы нету пресыщенных уст
к благолепью цветущей равнины.
О, как сир этот рай и как пуст,
если правда, что нет в нем Марины.
16 (и 23) мая 1981Таруса
Черёмуха
Когда влюбленный ум был мартом очарован,
сказала: досижу, чтоб ночи отслужить,
до утренней зари, и дольше – до черёмух,
подумав: досижу, коль Бог пошлет дожить.
Сказала – от любви к немыслимости срока,
нюх в имени цветка не узнавал цветка.
При мартовской луне чернела одиноко —
как вехи сквозь метель – простёртая строка.
Стих обещал, а Бог позволил – до черёмух
дожить и досидеть: перед лицом моим
сияет бледный куст, так уязвим и робок,
как будто не любим, а мучим и гоним.
Быть может, он и впрямь терзаем обожаньем.
Он не повинен в том, что мной предрешено.
Так бедное дитя отцовским обещаньем
помолвлено уже, ещё не рождено.
Покуда, тяжко пав на южные ограды,
вакхически цвела и нежилась сирень,
Арагву променять на мрачные овраги
я в этот раз рвалась; о, только бы скорей!
Избранница стиха, соперница Тифлиса,
сейчас из лепестков, а некогда из букв!
О, только бы застать в кулисах бенефиса
пред выходом на свет ее младой испуг.
Нет, здесь ещё свежо, ещё не могут ветлы
потупленных ветвей изъять из полых вод.
Но вопрошал мой страх: что с нею? не цветёт ли?
Сказали: не цветёт, но расцветёт вот-вот.
Не упустить её пред-первое движенье —
туда, где спуск к Оке становится полог.
Она не расцвела! – ее предположенье
наутро расцвести я забрала в полон.
Вчера. Немного тьмы. И вот уже: сегодня.
Слабеют узелки стеснённых лепестков —
и маленького рта желает знать зевота:
где свеже-влажный корм, который им иском.
Очнулась и дрожит. Над ней лицо и лампа.
Ей стыдно расцветать во всю красу и стать.
Цветок, как нагота разбуженного глаза,
не может разглядеть: зачем не дали спать.
Стих, мученик любви, прими её немилость!
Что раболепство ей твоих-моих чернил!
О, эта не из тех, чья верная взаимность
объятья отворит и скуку причинит.
Так ночь, и день, и ночь склоняюсь перед нею.
Но в чём далекий смысл той мартовской строки?
Что с бедной головой? Что с головой моею?
В ней, словно мотыльки, пестреют пустяки.
Там, где рабочий пульс под выпуклое темя
гнал надобную кровь и управлялся сам,
там впадина теперь, чтоб не стеснять растенья,
беспамятный овраг и обморочный сад.
До утренней зари… не помню… до чего-то,
к чему не перенесть влеченья и тоски,
чей паутинный клей… чья липкая дремота
висит между висков, где вязнут мотыльки…
Забытая строка во времени повисла.
Пал первый лепесток, и грустно, что – к теплу.
Всегда мне скушен был выискиватель смысла,
и угодить ему я не могу: я сплю.
17 мая 1981Таруса
«Есть тайна у меня от чу́дного цветенья…»
Есть тайна у меня от чу́дного цветенья,
здесь было б: чуднАГО – уместней написать.
Не зная новостей, на старый лад желтея,
цветок себе всегда выпрашивает «ять».
Где для него возьму услад правописанья,
хоть первороден он, как речи приворот?
Что – речь, краса полей и ты, краса лесная,
как не ответный труд вобравших вас аорт?
Лишь грамота и вы – других не видно родин.
Коль вытоптан язык – и вам не устоять.
Светает, садовод! Светает, огородник!
Что ж, потянусь и я возделывать тетрадь.
Я этою весной все встретила растенья.
Из-под земли их ждал мой повивальный взор.
Есть тайна у меня от чу́дного цветенья.
И как же ей не быть? Всё, что не тайна, – вздор.
Отраден первоцвет для зренья и для слуха.
– Эй, ключики! – скажи – он будет тут как тут.
Не взыщет, коль дразнить: баранчики! желтуха!
А грамотеи – чтут и буквицей зовут.
Ах, буквица моя, всё твой букварь читаю.
Как азбука проста, которой невдомёк,
что даже от тебя я охраняю тайну,
твой ключик золотой её не отомкнёт.
Фиалки прожила, и проводила в старость
уменье медуниц изображать закат.
Черёмухе моей – и той не проболталась,
под пыткой божества и под его диктант.
Уж вишня расцвела, а яблоня на завтра
оставила расцвесть… и тут же, вопреки
пустым словам, в окне, так близко и внезапно
прозрел её цветок в конце моей строки.
Стих падает пчелой на стебли и на ветви,
чтобы цветочный мёд названий целовать.
Уже не знаю я: где слово, где соцветье?
Но весь цветник земной – не гуще, чем словарь.
В отместку мне – пчела в мою строку влетела.
В чужую страсть впилась ошибка жадных уст.
Есть тайна у меня от чу́дного цветенья.
Но ландыш расцветёт – и я проговорюсь.
22 мая 1981Таруса
Черёмуха предпоследняя
Пока черёмухи влиянье
на ум – за ум я приняла,
что сотворим – она ли, я ли —
в сей месяц май, сего числа?
Души просторную покорность
я навязала ей взамен
отчизн откосов и околиц,
кладбищ и монастырских стен.
Всё то, что целая окрестность
вдыхает, – я берусь вдохнуть.
Дай задохнуться, дай воскреснуть
и умереть – дай что-нибудь.
Владей – я не тесней округи,
не бойся – я странней людей,
возьми меня в рабы иль в други
или в овраги – и владей.
Какой мне вымысел надышишь?
Свободная повелевать,
что сочинишь и что напишешь
моей рукой в мою тетрадь?
К утру посмотрим – а покуда
окуривай мои углы.
В средине замкнутого круга —
любовь или канун любви.
Нет у тебя другого знанья:
для вечных наущений двух,
для упованья и терзанья
цветёт твой болетворный дух.
Уже ты насылаешь птицу,
чьё имя в тайне сохраню,
что не снисходит к очевидцу,
чей голос не сплошной сравню
с обрывом сердца, с ожиданьем
соседней бездны на краю,
для пробы, с любопытством дальним,
на миг втянувшей жизнь мою
и отпустившей, – ей не надо
того, чему не вышел срок.
Но вот её привет из сада
донёсся, искусил и смолк.
Во что, черёмуха, играем —
я помню, знаю, что творим.
Уж я томлюсь недомоганьем
всемирно-сущим – как своим.
Твой запах – вкрадчивая сводня, —
луна и птицы ведовство
твердят, что именно сегодня,
немедленно… но что? Да всё!
Вся жизнь, всё разрыванье сердца —
сейчас, не припасая впрок.
Двух зорь сплочённое соседство
теснит мой заповедный срок.
Но пагубою приворота
уста я напитаю чьи?
Нет гостя, кроме самолёта
в необитаемой ночи.
Продлится за моею шторой
запинка быстрых двух огней,
та доля вечности, которой
довольно выдумке моей.
Что Паршино ему, Пачёво,
Ладыжино, Алекино́?
Но сердце лётчика ночного
уже любить обречено
свет неразборчивый. Отныне
он станет волен, странен, дик.
Его отринут все родные.
Он углубится в чтенье книг.
Помолвку разорвёт, в отставку
подаст – нельзя! – тогда в Чечню,
в конец недоуменья, в схватку,
под пулю, неизвестно чью.
Любым испытано, как властно
влечёт нас островерхий снег.
Но сумрачный прищур Кавказа
мирволит нам в наш скушный век.
Его пошлют, но в санаторий.
Печаль, печаль. Наверняка
от лютой мирности снотворной
он станет пить. Тоска, тоска.
Нет, жаль мне лётчика. Движеньем
давай займём его другим.
Спасём, повысим в чине, женим,
но прежде – разминёмся с ним.
Черёмуха, на эти шутки
не жаль растраты бытия.
Светает. Как за эти сутки
осунулись и ты, и я.
Слабеет дух твой чудотворный.
Как трогательно лепестки
в твой день предсмертный, в твой четвертый
на эти падают стихи.
Весной, в твоих оврагах отчих,
не знаю: свидимся ль опять?
Несётся невредимый лётчик
ночного измышленья вспять.
Пошли ему не ведать му́и.
А мне? Дыханья перебой
привносит птица в грусть разлуки
с тобой, и только ли с тобой?
Дай что-нибудь! Дай обещанья!
Дай не принять мой час ночной
за репетицию прощанья
со всем, что так любимо мной.
20-е дни мая 1981Таруса
Гусиный Паркер
Когда, под бездной многостройной,
вспять поля белого иду,
восход моей звезды настольной
люблю я возыметь в виду.
И кажется: ночной равниной,
чья даль темна и грозен верх,
идёт, чужим окном хранимый,
другой какой-то человек.
Вблизи завидев бесконечность,
не удержался б он в уме,
когда б не чьей-то жизни встречность,
одна в неисчислимой тьме.
Кто тот, чьим горестным уделом
терзаюсь? Вдруг не сыт ничем?
Униженный, скитался где он?
Озябший, сыщет ли ночлег?
Пусть будет мной – и поскорее,
вот здесь, в мой лучший час земной.
В других местах, в другое время
он прогадал бы, ставши мной.
Оставив мне снегов раздолье,
вот он свернул в моё тепло.
Вот в руки взял моё родное
злато-гусиное перо.
Ему кофейник бодро служит.
С пирушки шлют гонца к нему.
Но глаз его раздумьем сужен
и ум его брезглив к вину.
А я? В ладыжинском овраге
коли не сгину – огонёк
увижу и вздохну: навряд ли
дверь продавщица отомкнёт.
Эх, тьма, куда не пишут письма!
Что продавщица! – у ведра
воды не выпросишь напиться:
рука слаба, вода – тверда.
До света нового, до жизни
мне б на печи не дотянуть,
но ненавистью к продавщице
душа спасется как-нибудь.
Зачем? В помине нет аванса.
Где вы, моих рублей дружки?
А продавщица – самовластна,
как ни грози, как ни дрожи.
Ну, ничего, я отскитаюсь.
С получки я развею грусть:
и с продавщицей расквитаюсь,
и с тем солдатом разберусь.
Ты спятил, Паркер, ты ошибся!
Какой солдат? – Да тот, узбек.
Волчицей стала продавщица
в семь без пяти. А он – успел.
Мой Паркер, что тебе в Ладыге?
Очнись, ты родом не отсель.
Зачем ты предпочел латыни
докуку наших новостей?
Светает во снегах отчизны.
А расторопный мой герой
ещё гостит у продавщицы:
и смех, и грех, и пир горой.
Там пересуды у колодца.
Там масленицы чад и пыл.
Мой Паркер сбивчиво клянётся,
что он там был, мёд-пиво пил.
Мой несравненный, мой гусиный,
как я люблю, что ты смешлив,
единственный и неусыпный
сообщник тайных слёз моих.
23–25 февраля 1982Таруса
Лебедин мой
Всё в лес хожу. Заел меня репей.
Не разберусь с влюблённою колючкой:
она ли мой, иль я её трофей?
Так и живу в губернии Калужской.
Рыбак и я вдвоём в ночи сидим.
Меж нами – рощи соловьев всенощных.
И где-то: Лебедин мой, Лебедин —
заводит наш невидимый сообщник.
Костёр внизу и свет в моем окне —
в союзе тайном, в сговоре иль в споре.
Что думает об этом вот огне
тот простодушный, что погаснет вскоре?
Живём себе, не ищем новостей.
Но иногда и в нашем курослепе
гостит язык пророчеств и страстей
и льётся кровь, как в Датском королевстве.
В ту пятницу, какого-то числа —
ещё моя черемуха не смерклась —
соотносили ласточек крыла́
глушь наших мест и странствий кругосветность.
Но птичий вздор души не бередил
мечтаньем о теплынях тридесятых.
Возлюбим, Лебедин мой, Лебедин,
прокорма убыль и снегов достаток.
Да, в пятницу, чей приоткрытый вход
в субботу – всё ж обидная препона
перед субботой, весь честной народ
с полдня искал веселья и приволья.
Ладыжинский задиристый мужик,
истопником служивший по соседству,
еще не знал, как он непрочно жив
вблизи субботы, подступившей к сердцу.
Но как-то он скучал и тосковал.
Ему не полегчало от аванса.
Запасся камнем. Поманил: – Байкал! —
Но не таков Байкал, чтоб отозваться.
Уж он-то знает, как судьбы бежать.
Всяк брат его – здесь мёртв или калека.
И цел лишь тот, рождённый обожать,
кто за версту обходит человека.
Развитие событий торопя,
во двор вошли знакомых два солдата,
желая наточить два топора
для плотницких намерений стройбата.
К точильщику помчались. Мотоцикл —
истопника, чей обречен затылок.
Дождь моросил. А вот и магазин.
Купили водки: дюжину бутылок.
– Куда вам столько, черти? – говорю, —
показывала утром продавщица.
Ответили: – Чтоб матушку твою
нам помянуть, а после похмелиться.
Как воля весела и велика!
Хоть и не всё меж ними ладно было.
Истопнику любезная Ока
для двух других – насильная чужбина.
Он вдвое старше и умнее их —
не потому, чтоб школа их учила
по-разному, а просто истопник
усмешливый и едкий был мужчина.
Они – моложе вдвое и пьяней.
Где видано, чтоб юность лебезила?
Нелепое для пришлых их ушей,
их раздражало имя Лебедина.
В удушливом насупленном уме
был заперт гнев и требовал исхода.
О том, что оставалось на холме,
два беглеца не думали нисколько.
Как страшно им уберегать в лесах
родимой жизни бедную непрочность.
Что было в ней, чтоб так её спасать
в березовых, опасно-светлых рощах?
Когда субботу к нам послал восток,
с того холма, словно дымок ленивый,
восплыл души невзрачный завиток
и повисел недолго над Ладыгой.
За сорок вёрст сыскался мотоцикл.
Бег загнанный будет изловлен в среду.
Хоть был нетрезв, кто топоры точил,
возмездие шло по прямому следу.
Мой свет горит. Костер внизу погас.
Пусть скрип чернил над непросохшим словом
как хочет, так распутывает связь
сюжета с непричастным рыболовом.
Отпустим спать чужую жизнь. Один
рассудок лампы бодрствует в тумане.
Ответствуй, Лебедин мой, Лебедин,
что нужно смерти в нашей глухомани?
Печальный от любви и от вина,
уж спрашивает кто-то у рассвета:
– Где, Лебедин, лебёдушка твоя?
Идут века. Даль за Окой светла.
И никакого не слыхать ответа.
Май 1981–6 марта 1982Таруса

Был ли молод монах, чье деянье сохранно?
Тосковал ли, когда насаждал-поливал
очертания нерукотворного храма?
Палец на губах
По улице крадусь. Кто бедный был Алферов,
чьим именем она наречена? Молчи!
Он не чета другим, замешанным в аферах,
к владениям чужим крадущимся в ночи.
Весь этот косогор был некогда кладбищем.
Здесь Та хотела спать… ненадобно! Не то —
опять возьмутся мстить местам, её любившим.
Тсс: палец на губах! – забылось, пронесло.
Я летом здесь жила. К своей же тени в гости
зачем мне не пойти? Колодец, здравствуй, брат.
Алферов, будь он жив, не жил бы на погосте.
Ах, не ему теперь гнушаться тем, что прах.
А вот и дом чужой: дом-схимник, дом-изгнанник.
Чердачный тусклый круг – его зрачок и взгляд.
Дом заточён в себя, как выйти – он не знает.
Но, как душа его, вокруг свободен сад.
Сад падает в Оку обрывисто и узко.
Но оглянулся сад и прянул вспять холма.
Дом ринулся ко мне, из цепких стен рванулся —
и мне к нему нельзя: забор, замо́к, зима.
Дом, сад и я – втроём причастны тайне важной.
Был тих и одинок наш общий летний труд.
Я – в доме, дом – в саду, сад – в сырости овражной,
вдыхала сырость я – и замыкался круг.
Футляр, и медальон, и тайна в медальоне,
и в тайне – тайна тайн, запретная для уст.
Лишь смеркнется – всегда слетала к нам Тальони:
то флоксов повисал прозрачно-пышный куст.
Террасу на восход – оранжевым каким-то
затмили полотном, усилившим зарю.
У нас была игра: где потемней накидка? —
смеялась я, – пойду калитку отворю.
Пугались дом и сад. Я шла и отворяла
калитку в нижний мир, где обитает тень, —
чтоб видеть дом и сад из глубины оврага
и больше ничего не видеть, не хотеть.
Оранжевый, большой, по прозвищу: мещанский —
волшебный абажур сиял что было сил.
Чтобы террасы цвет был совершенно счастлив,
оранжевый цветок ей сад преподносил.
У нас – всегда игра, у яблони – работа.
Знал беспризорный сад и знал бездомный дом,
что дом – не для житья, что сад – не для оброка,
что дом и сад – для слез, для праведных трудов.
Не ждали мы гостей, а наезжали если —
дом лгал, что он – простак, сад начинал грустить
и делал вид, что он печется о семействе
и надобно ему идти плодоносить.
Съезжали! – и тогда, как принято: от печки —
пускались в пляс все мы и тени на стене.
И были в эту ночь прилежны и беспечны
мой закадычный стол и лампа на столе.
Ещё там был чердак. Пока не вовсе смерклось,
дом, сад и я – на нём летали в даль, в поля.
И белый парус плыл: то Бёховская церковь,
чтоб нас перекрестить, через Оку плыла.
Вот яблони труды завершены. Для зренья
прелестны их плоды, но грустен тот язык,
которым нам велят глухие ударенья
с мгновеньем изжитым прощаться каждый миг.
Тальони, дождь идет, как вам снести понурость?
Пока овраг погряз в заботах о грибах,
я книгу попрошу, чтоб Та сюда вернулась,
чьи эти дом и сад… тсс: палец на губах.
К делам других садов был сад не любопытен.
Он в золото облёк тот дом внутри со мной
так прочно, как в предмет вцепляется эпитет.
(В саду расцвёл пример: вот шар, он – золотой.)
К исходу сентября приехал наш хозяин,
вернее, только их. Два ужаса дрожат,
склоняясь перед тем, кто так и не узнает,
какие дом и сад ему принадлежат.
На дом и сад моя слеза не оглянулась.
Давно пора домой. Но что это: домой?
Вот почему средь всех на свете сущих улиц
мне Ваша так мила, Алферов милый мой.
Косится домосед: что здесь прохожим надо?
Кто низко так глядит, как будто он горбат?
То – я. Я ухожу от дома и от сада.
Навряд ли я вернусь. Тсс: палец на губах…
Февраль – март 1982Таруса
Сиреневое блюдце
Мозг занемог: весна. О воду капли бьются.
У слабоумья есть застенчивый секрет:
оно влюбилось в чушь раскрашенного блюдца,
в юродивый узор, в уродицу сирень.
Куст-увалень, холма одышливый вельможа,
какой тебя вписал невежа садовод
в глухую ночь мою и в тот, из Велегожа
идущий, грубый свет над льдами окских вод?
Нет, дальше, нет, темней. Сирень не о сирени
со мною говорит. Бесхитростный фарфор
про детский цвет полей, про лакомство сурепки
навязывает мне насильно-кроткий вздор.
В закрытые глаза – уездного музея
вдруг смотрит натюрморт, чьи ожили цветы,
и бабушки моей клубится бумазея,
иль как зовут крыла старинной нищеты?
О, если б лишь сирень! – я б вспомнила окраин
сады, где посреди изгоев и кутил
жил сбивчивый поэт, книго́чий и архаик,
себя нарекший в честь прославленных куртин.
Где бедный мальчик спит над чудною могилой,
не помня: навсегда или на миг уснул, —
поэт Сиренев жил, цветущий и унылый,
не принятый в журнал для письменных услуг.
Он сразу мне сказал, что с этими и с теми
людьми он крайне сух, что дни его придут:
он станет знаменит, как крестное растенье.
И улыбалась я: да будет так, мой друг.
Он мне дарил сирень и множества сонетов,
белели здесь и там их пышные венки.
По вечерам – живей и проще жил Сиренев:
красавицы садов его к Оке влекли.
Но всё ж он был гордец и в споре неуступчив.
Без славы – не желал он продолженья дней.
Так жизнь моя текла, и с мальчиком уснувшим
являлось сходство в ней всё ярче и грустней.
Я съехала в снега, в те, что сейчас сгорели.
Где терпит мой поэт влияния весны?
Фарфоровый портрет веснушчатой сирени
хочу я откупить иль выкрасть у казны.
В моём окне висит планет тройное пламя.
На блюдце роковом усталый чай остыл.
Мне жаль твоих трудов, доверчивая лампа.
Но, может, чем умней, тем бесполезней стих.
Февраль – март 1982Таруса
Звук указующий
Звук указующий, десятый день
я жду тебя на паршинской дороге.
И снова жду под полною луной.
Звук указующий, ты где-то здесь.
Пади в отверстой раны плодородье.
Зачем таишься и следишь за мной?
Звук указующий, пусть велика
моя вина, но велика и мука.
И чей, как мой, тобою слух любим?
Меня прощает полная луна.
Но нет мне указующего звука.
Нет звука мне. Зачем он прежде был?
Ни с кем моей луной не поделюсь,
да и она другого не полюбит.
Жизнь замечает вдруг, что – пред-мертва.
Звук указующий, я предаюсь
игре с твоим отсутствием подлунным.
Звук указующий, прости меня.
29–30 марта 1983Таруса
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































