Текст книги "Власть. Естественная история ее возрастания"
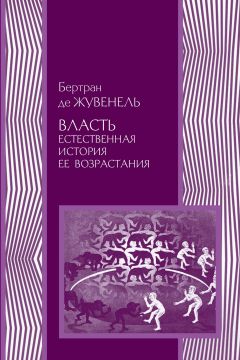
Автор книги: Бертран де Жувенель
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Нагромождение титулов – лишь перечень этих видов, которые со временем обосновываются. Моральное разнообразие королевской личности воплощается в ее физическом единстве. Это важнейший процесс. Ибо трон, таким образом, становится местом взаимодействия различных эмоций, местом формирования национального чувства. Бретонцев и жителей Вьенна объединяет то, что герцог первых является дофином вторых.
Значит, в определенном смысле нация формируется на троне. Соотечественниками становятся, став преданными одной и той же личности. Теперь ясно, почему монархически сформированные народы будут с необходимостью сохранять Нацию как личность, по образу и подобию живой личности, в отношении которой сформировалось общее чувство.
Римляне понятия об этом не имеют. Они не воображают себе никакого морального существа, находящегося вне их или над ними. Они не представляют себе ничего, кроме societas**, которую образуют. И покоренные народы, если они не принимаются в эту societas – животрепещущий вопрос гражданского права, – остаются в ней чужаками. Напрасно римляне стараются с помощью ритуалов присвоить себе богов побежденных народов и перевезти этих богов в Рим – подвластные народы не объединятся в Риме; у них не возникнет чувства, что там их духовный очаг… до тех пор пока им не явятся императоры, которые предложат в качестве объекта поклонения самих себя – каждому отдельному народу в соответствии с представлением этого народа о том, каким должен быть его вождь.
Именно благодаря императорам агрегат становится единым целым.
Град Повелевания
Соберем теперь все, что повелевает, в большую систему, которую рассмотрим на разных этапах ее становления.
При первых шагах государства это соединение элементов только иногда имеет конкретное существование. Вот толпы завоевателей – готы и франки; вот объединенный римский народ; вот окружающий короля двор нормандских баронов.
Это властители, которые очевидным образом формируют тело, располагающееся над всем обществом, Власть, существующую саму по себе и для себя.
Перенесемся дальше во времени. Мы больше не находим ни поля, ни форума, ни зала, которые то переполнены людьми, то пустынны, но мы видим дворец, окруженный целым ансамблем строений, где занимаются делами сановники и служащие.
Теперь повелевает король со своими постоянными слугами, ministeriales*, «министрами». Воздвигается целый Град Повелевания, престол господства, очаг справедливости, место, которое манит, притягивает и собирает честолюбцев.
Найдем ли мы, что этот Град играет совершенно другую роль, нежели собрание властителей? Станем ли говорить, что сановники и служащие не являются властителями, но что они слуги? Слуги короля, воля которого отвечает нуждам и желаниям общества? Что наконец-то мы видим аппарат, являющийся инструментом в руках одной «общественной» воли?
Такая интерпретация не является неверной. Но лишь отчасти. Ибо хотя воля властителя и может приспособиться к обществу, она остается волей властителя. И сам аппарат не является неподвижным инструментом. Его составляют люди, которые наследуют – и фактически наследуют лишь постепенно – прежним владыкам. И которые в процессе этого наследования и благодаря сходству ситуации приобретают определенные черты своих предшественников. В такой степени, что отделившись однажды от аппарата, разбогатевшие и возвысившиеся, они будут считать себя прямыми потомками расы-завоевательницы, как об этом свидетельствуют Сен-Симон и Буленвилье.
Таким образом, Власть, состоящую из короля и его администрации, надо рассматривать как еще одно господствующее тело, лучше оснащенное для господства. И настолько лучше, что одновременно эта Власть есть тело, которое осуществляет огромное необходимое служение.
Свержение Власти
Такое служение и столь замечательная забота о человеческом обществе с трудом позволяют думать, что Власть по своей сути все еще – эгоистичный владыка, как мы это постулировали вначале.
Ее поведение совершенно изменилось. Она насаждает блага порядка, справедливости, безопасности, процветания.
Ее человеческое содержание совершенно обновилось. Она пополняется наиболее способными элементами из подвластной ей массы.
Это чудесное превращение, безусловно, может быть объяснено стремлением повелевания удержаться, что вынуждало Власть всегда быть более тесно связанной со своим substratum* посредством системы служения, циркуляции элит и выяснения настроений.
В результате Власть ведет себя практически так, как будто ее базовая, эгоистическая, природа сменилась природой приобретенной, социальной. Впрочем, Власть обнаруживает способность к колебанию, и то совпадает со своей асимптотой и представляется вполне социальной, а то возвращается обратно к своему происхождению и оказывается эгоистической.
Кажется парадоксальным, но в высшей степени социализированную Власть мы вынуждены упрекать в том, что она господствует.
Такие упреки может порождать только ее совершенное духовное творение – нация, организованная как сознательное целое. Чем сильнее ощущается национальная целостность, тем большим нападкам подвергается Власть за то, что она не есть проявление нации, а навязывается ей сверху. По стечению обстоятельств, отнюдь нередких в социальной истории, мы осознаем чуждый характер Власти в то время, когда он является уже глубоко национальным. Как рабочий класс осознает свое угнетение именно тогда, когда оно ослабевает. Факт должен приблизиться к идее, чтобы она родилась – посредством простого процесса обобщения констатированного явления, – и чтобы пришло в голову упрекнуть факт в том, что он не является идеей.
Тогда ее ниспровергают – эту чуждую, деспотическую и эксплуататорскую Власть, которая существует сама по себе и для себя! Но как только эта Власть пала, она уже больше не является ни чуждой, ни деспотической, ни эксплуататорской.
Ее человеческое содержание целиком обновилось, ее налоги теперь лишь условие ее служения: творец нации, она стала ее орудием.
При этом повелевание, сколько его есть во Власти, может трансформироваться, не переставая существовать.
Два пути
Я не собирался здесь представлять историческую эволюцию Власти, но хотел рассуждая логически показать, что Власть, полагаемая как чистая сила и чистая эксплуатация, с необходимостью стремилась договориться с подданными и приспосабливалась к их нуждам и чаяниям, что, воодушевленная одним чистым эгоизмом и принимая саму себя в качестве цели, она бы вследствие фатального процесса все равно пришла к тому, чтобы покровительствовать коллективным интересам и следовать социальным целям. Продолжая существовать, Власть «социализируется»; она должна социализироваться, чтобы продолжать существовать.
В связи с этим возникает идея устранить остаток ее исходной природы, лишить ее любой способности возвращения к своему первоначальному поведению, сделать ее, одним словом, социальной по сути.
Здесь обнаруживаются два пути – один, логический, похоже, неосуществим; другой, который кажется легким, является обманчивым.
Сначала мы можем сказать: «Власть, рожденная повелеванием и для повелевания, должна быть уничтожена». Затем, признав себя соотечественниками и объявив себя согражданами, мы сформируем societas и станем вместе заботиться о наших общих интересах; таким образом, мы создадим республику, где больше не будет ни суверенной личности – ни физически, ни морально, – ни воли, повелевающей отдельными волями, и где все сможет совершаться только посредством действительного consensus*. А значит, не будет больше иерархического и централизованного государственного аппарата, составляющего сплоченное тело, но вместо этого – множество независимых магистратов, т. е. должностей, исполняемых гражданами по очереди таким образом, что каждый из них попеременно проходит через повелевание и подчинение, в чем Аристотель видел сущность демократического устройства.
Действительно, в этом случае монархическое устройство было бы совершенно уничтожено. Подобные тенденции и вправду проявляются, но они ни к чему не приводят. Побеждает более простая идея сохранения всего монархического аппарата, только в нем физическая личность короля заменяется духовной личностью Нации.
Град Повелевания остается. Просто из дворца изгоняются его обитатели и их место занимают представители нации. Вновь прибывшие найдут в завоеванном городе память о господстве, традиции, образы и средства господства.
Естественная эволюция всякого аппарата управления
Но ради логической строгости нашего изыскания от этого наследия надо абстрагироваться. Предположим, что, допуская необходимость слаженного государственного аппарата – Града Повелевания, революционеры не хотят ничего сохранять от старого аппарата, от старого Града. Что они создают теперь совершенно новую Власть, установленную для общества и обществом, которая по определению является его представительницей и служанкой.
Я утверждаю, что возникшая таким образом Власть избежит этого изобретательного замысла и будет стремиться существовать сама по себе и для себя.
Каждая человеческая ассоциация являет одно и то же. Как только люди перестают все время сообща[169]169
Как это происходит, например, в обществе пиратов, где обязательно нужен вождь, но где не формируется никакого активного тела, противостоящего пассивной команде.
[Закрыть] следовать социальной цели и, чтобы заниматься этим постоянно, выделяется особая группа, а участие других членов общества допускается лишь в определенные промежутки времени, – как только производится эта дифференциация, ответственная группа формирует тело, обеспечивающее ее собственные жизнь и интересы.
Эта группа противостоит целому, из которого выходит. И возглавляет его[170]170
«Всякое тело, учрежденное человеком, – замечает Спенсер, – есть пример той истины, что регулирующая структура всегда стремится к увеличению власти. История каждого ученого общества, любого общества, создающегося с какой-нибудь целью, показывает, как его штаб, в целом или частью постоянный, направляет средства и определяет действия, не встречая большого сопротивления…» (H. Spencer. Problèmes de Morale et de Sociologie, éd. fr. Paris, 1894, p. 101). Мы видели в наши дни, как в этих братских ассоциациях, профсоюзах, развивается постоянный аппарат повелевания, занятый руководителями, стабильности которых могут позавидовать руководители государств. И власть, осуществляемая над членами профсоюзов, является в высшей степени авторитарной.
[Закрыть]. Трудность, в действительности, состоит в том, что участвующие в собрании индивидуумы, занятые личными заботами и не имеющие между собой предварительного согласия, не чувствуют в себе должной уверенности, чтобы отклонять меры, которые господствующая группа ловко представляет им с высоты своего положения и в необходимости которых убеждает их с помощью аргументов высшего порядка, для них непривычного.
Вот почему, между прочим, римлянам разрешалось столь долго обсуждать свои законы на публичной площади: достаточно внимательно посмотреть на эту процедуру, как становится ясным – действительная роль народа ограничивалась ратифицированием того, что уже постановили магистраты в согласии с сенатом.
Современные нравы демонстрируют воспроизведение в общих собраниях акционеров точно такой же практики.
Как же лидерам, сильным, поскольку они осведомлены и владеют документами, позволяющими приводить в замешательство оппонентов, не увериться в том, что они – высшие, что только они защищают социальные интересы и что для общества в самом деле нет ничего более важного, чем сохранять свое руководящее тело и заботиться о его процветании!
Правящее Я
Если эти явления развиваются в любой человеческой ассоциации, то в ассоциации политической они должны принимать особую напряженность[171]171
«Итак, очевидно, что в органах управления, возникших в наше время и сформированных из людей, в большинстве случаев свободных в проявлении своей независимости, верховенство власть имущих сделается таким же, как верховенство власть имущих в органах управления, которые утвердились с давних пор, стали обширными и весьма организованными, и вместо того, чтобы управлять только частью жизни целого, регулируют всю его жизнь!» (Spencer. Op. cit.)
[Закрыть].
Допустим, что все правители, выбранные из массы людей, были люди идеально средние и совершенно похожие на своих подвластных. Однако с того момента, как они были призваны владеть суверенной властью, их воли приобрели, по замечанию Дюги, иные характер и власть.
«Личности, которые выступают от имени суверенитета и выражают суверенную волю, выше других и действуют по отношению к другим посредством повелевания и только посредством повелевания. Личности, к которым обращается суверен, обязаны исполнять его распоряжение вовсе не на основании содержания последнего, но потому, что оно исходит от воли, по природе высшей по отношению к их собственной воле»[172]172
Léon Duguit. Souveraineté et Liberté. Paris, 1922, p. 78–79.
[Закрыть].
Владение суверенной властью порождает, таким образом, чувство превосходства, которое и вправду наделяет людей, похожих на обыкновенных граждан, «непохожестью».
Но нам могут возразить, что они действуют тем не менее только как уполномоченные граждан. Посмотрим! Из своего опыта депутата Национального собрания 1848 г. Прудон извлек следующий урок: «Что толку говорить, что избранник, или представитель, народа есть лишь уполномоченный народа, его делегат, адвокат, выразитель его мнения и т. д.; вопреки этому теоретическому суверенитету массы и официальной и законной подчиненности ее представителя, или выразителя, всегда будет так, что власть, или влияние, этого последнего будет более великой, чем власть, или влияние, первой, и он никогда серьезно не примет указанное полномочие. Всегда, несмотря на принципы, делегат суверена будет господином суверена. Голый суверенитет, если я осмелюсь так выразиться, есть нечто еще большее, чем голое право собственности»[173]173
Proudhon. Théorie du Mouvement constitutionnel au XIXe siècle. Paris, 1870, p. 89–90.
[Закрыть].
Возвысившиеся над массой и психологически отличающиеся от нее благодаря отличию своего положения, правители сближаются между собой благодаря влиянию одинаковых обстоятельств и служебной деятельности: «Все те, – говорит Спенсер, – кто составляют правительственную или административную организацию, объединяются между собой и отделяются от других»[174]174
Spencer. Principles of Sociology, § 444*.
[Закрыть].
Они формируют организм; это хорошо подметил Руссо, одновременно указав на социальную необходимость и моральные последствия данного явления: «Между тем, для того, чтобы правительственный организм получил собственное существование, жил действительной жизнью, отличающей его от организма государства, чтобы все его члены могли действовать согласно и в соответствии с той целью, для которой он был учрежден, он должен обладать отдельным я, чувствительностью, общей всем его членам, силой, собственной волей, направленной к его сохранению»[175]175
Об общественном договоре, кн. III, гл. I**.
[Закрыть].
Сущностный дуализм Власти
Нельзя было бы лучше выразить мысль о том, что общество, создавая предназначенный для служения ему аппарат, дало рождение малому обществу, отличному от него самого, неизбежно обладающему собственными чувствами, интересами и волей.
Если в нации хотят видеть «моральную личность», наделенную «коллективным сознанием» и способную к «общей воле», тогда во Власти надо признать, как это делает Руссо, некую другую личность, обладающую собственным сознанием и собственной волей, и естественный эгоизм которой побуждает ее преследовать частную выгоду.
В отношении этого эгоизма можно привести поразительные свидетельства: «Верно, – констатировал историк Лависс, – что при всех режимах государственная власть во Франции – республиканская так же, как и все прочие, – имеет свои собственные, узкие и эгоистические, цели. Она представляет собой если не сказать клику, то consortium* личностей, пришедших к власти благодаря начавшейся катастрофе и озабоченных тем, чтобы предотвратить катастрофу окончательную. Суверенитет нации, несомненно, есть ложь»[176]176
В статье в «Revue de Paris», 15 janvier 1899.
[Закрыть].
Что касается чувств, воодушевляющих этот consortium, то мы находим свидетельство – тем менее сомнительное, что его автор сам себя упрекает, – великого Болингброка: «Боюсь, что мы одержали верх при дворе, руководствуясь теми же устремлениями, что и все партии до нас; что нами двигало главным образом желание иметь в своих руках управление государством; что главной нашей задачей было сохранение этой власти и важных должностей для самих себя, чтобы иметь большие возможности для вознаграждения тех, кто способствовал нашему возвышению, и нанесения удара по тем, кто нам противостоял»[177]177
Bolingbroke. Works, t. I, p. 8–9.
[Закрыть].
Такая откровенность является редкой для тех, кто повелевает. Но те, кто повинуются, судят об этом именно так. Проницательный благодаря своей интуиции и наученный опытом народ считает тех из своих представителей, кто вступает в Град Повелевания, переметнувшимися в другой лагерь. В сыне крестьянина, ставшим сборщиком налогов, или в секретаре профсоюза, ставшим министром, свои внезапно чувствуют чужака. Атмосфера власти действительно портит людей. Поэтому обитатели Власти с необходимостью являются также и ее защитниками, как курильщики опиума являются защитниками своей привычки курить.
Подданные чувствуют, что правление не осуществляется исключительно ради них, и обвиняют режим – все равно монархию или республику – в пороке, который обусловлен человеческой природой, – в эгоизме, который неизбежно присутствует во Власти.
С самого начала мы предположили, что Власть по сути эгоистична, и видели, как она приобрела социальную природу. И вот теперь, полагая, что Власть по сути социальна, мы видим, как она приобретает эгоистическую природу.
Это схождение рациональных рядов приближает нас к иррациональному заключению: в структуре реальной Власти две природы с необходимостью взаимосвязаны. Каким бы образом и в каком бы духе ни была установлена Власть, она не ангел и не зверь, но смешение, в котором – как и в человеке – соединяются две противоположные природы.
Эгоизм Власти
Ничего не может быть абсурднее намерения выявить в любой исторической Власти соединение – в одинаковых или в разных пропорциях – двух чисто «химических» принципов – эгоизма и правительственного социал-изма.
Любая зарождающаяся наука – и Бог знает, продвинулась ли политическая «наука» хоть немного вперед! – должна пользоваться абстрактными понятиями. Но ни в коем случае нельзя забывать, что эти понятия, в сущности, абстрагированы от образов, сохраняемых нашей памятью, которые окрашены ассоциациями и будут очищены от них – впрочем, всегда не полностью – только в результате долгого употребления. Следовательно, пользоваться этими понятиями надо крайне осмотрительно. Необходимо сохранять их расплывчатыми, чтобы они могли допускать привнесение других образов. Рискну даже сказать, что еще слишком рано давать им определения; это надо будет сделать позже – после того как достаточно полно будут описаны обобщаемые в них конкретные восприятия.
Если, к примеру, составляя понятие об эгоизме Власти, мы воображаем себе царя народа банту, для которого править означает главным образом утопать в изобилии, есть до отвала – так что одно и то же слово, fouma, обозначает обе вещи[178]178
H.-A. Junod. Mœurs et Coutumes des Bantous, 2 vol. Paris, 1936, t. I, p. 381.
[Закрыть], – и если мы будем искать в современном обществе точный эквивалент этого образа тучного вождя с лоснящейся от жира кожей, то наше ожидание будет обмануто: осуществление Власти не представляется здесь как курс усиленного питания, и министры, ищущие удовольствий или обогащения, являются скандальным исключением.
Значит ли это, что при более внимательном рассмотрении нельзя найти ничего quid communum* между обычаями банту и нашими? Вот груда питательной дани – она соответствует нашим налогам. Если царь поедает это обилие пищи, то не в одиночестве, а со своими приближенными и с теми, кто помогает ему править, – они соответствуют нашему административному корпусу и нашим вооруженным силам. Существует, таким образом, «коллектив пожирателей», заинтересованный в расширении дани, в который стремятся попасть управляемые, т. е. те, кто платят налог – здесь тоже одно слово, louba, обозначает обе вещи, – чтобы из положения поставщиков пропитания перейти в положение «питаемых». Кто посмеет утверждать, что ничего подобного не наблюдается в нашем обществе?
Но это не всё. Царь расходует значительную часть дани на свои щедроты, устраивая пиршества или одаривая тех, чья поддержка укрепляет его власть, а измена может являть для нее угрозу. Но разве не видим мы, что современные правительства также предоставляют пользование общественными средствами социальным группам и классам, голоса которых хотят себе обеспечить? Сегодня это называется перераспределить доходы посредством налоговой системы.
Конечно, было бы ошибкой утверждать, что современный налог поднимается Властью сначала в пользу ее собственного аппарата, а потом – чтобы посредством благодеяний, beneficia, привлечь к себе сторонников. Но не выступает ли такая эго-истическая интерпретация налога в качестве полезной поправки социал-истической концепции, которая обычно преподается? Действительно ли верно, что рост налогов лишь соответствует умножению социальных нужд? Что число мест в аппарате увеличивается только соответственно расширению услуг и что услуги никогда не расширяются, с тем чтобы оправдать увеличение числа этих мест? Бесспорно ли, что единственно только заботой о социальной справедливости определяется общественная щедрость и никогда – интересом правящей фракции?
Тут перед нами встает образ удивительно бескорыстного и преданного общественному делу чиновника – один из самых материально незаинтересованных человеческих типов, предлагаемых нашим обществом, – чтобы упрекнуть наc за эти предположения. Но разве они не подтверждаются всякий раз, когда Власть переходит в другие руки и завоевавшая ее партия на манер банту «устраивает пир», где вновь прибывшие делят между собой места, а остатки бросают своим бойцам?
Заметим – больше на этом не останавливаясь, – что эгоистическое начало оказывается возрожденным в самой варварской форме всякий раз, когда происходит смена Власти, даже если при этом в качестве цели декларируется победа начала социального. И сделаем на данном этапе вывод, что если было бы неверным создавать исключительно эго-истический образ Власти, то точно так же было бы неверным создавать ее исключительно социал-истический образ. Посредством стереоскопического комбинирующего ви́дения добиваются объединения двух этих образов в один портрет, который имеет совершенно другие черты и в котором содержится совершенно другая истина.
Благородные формы правительственного эгоизма
Следует остерегаться чересчур узкого и чересчур циничного понимания правительственного эго-изма: мы называем так лишь склонность к существованию для самого себя, которую признали свойственной Власти. Но эта склонность проявляется не только в том, что люди, осуществляющие Власть, используют ее ради материальной выгоды. Если не считать душ безнадежно низких, обладание Властью доставляет много других наслаждений помимо удовлетворения алчности.
Себялюбивый человек, рожденный для действия, уважает самого себя и воодушевляется соответственно расширению свободы своей личности и увеличению своих способностей. Всякий, кто управляет каким-нибудь человеческим коллективом, чувствует себя выросшим почти физически. С другим ростом – развивается другая природа. У такого человека мы редко увидим осторожность и скупость, в которых узнаëм эгоизм. Он больше не стеснен в своих жестах – они широки; у него, как справедливо говорят в народе, добродетели и пороки «правителя». Он человек-история[179]179
«Быть центром действия, деятельным средоточием множества, поднять внутреннюю форму собственной личности до формы целых народов и эпох, взять историю в свои руки, чтобы вывести свой народ или племя и его цели на передний край событий – это едва осознаваемое и почти неодолимое стремление всякого единичного существа, имеющего историческое предназначение», – говорит Шпенглер (Le Déclin de l’Occident, trad. fr., vol. 5. N.R.F., p. 670)*.
[Закрыть].
Повелевание есть высота. На этой высоте дышат другим воздухом, отсюда открываются другие перспективы, нежели в юдоли повиновения. Здесь проявляются страсть к порядку и архитектурный гений, которым был одарен наш вид. С высоты своей башни выросшему человеку видно, чтó мог бы он создать из кишащих масс, над которыми господствует.
На пользу ли обществу цели, которые он ставит перед собой? Возможно. Соответствуют ли они его желаниям? Часто. Поэтому лидер легко внушает себе, что хочет только служить обществу, и забывает, что его истинным двигателем является наслаждение действием и расширением <своего Я>. Я ни капли не сомневаюсь, что Наполеон был искренен, когда говорил Коленкуру: «Люди ошибаются, я не честолюбив… меня трогают горести народов, я хочу, чтобы они были счастливы, и французы будут счастливы, если я проживу десять лет»[180]180
«Mémoires de Caulaincourt» – из отрывка, опубликованного в издании Palatine, Genève, 1943, p. 112 et 169**.
[Закрыть].
Это достопамятное утверждение иллюстрирует вечную претензию повелевания – принимая себя в качестве цели, выдавать себя за простое средство на службе социальным задачам. Это не значит, что ложь всегда была столь очевидной, а противоречие столь вопиющим. Ведь сколько раз случалось, что события некоторым образом оправдывали ложь, поскольку, если в самом деле достигаются социальные цели, для истории уже неважно, являлись ли именно они главным двигателем людей Власти![181]181
См. в этой связи замечательные рассуждения Гегеля.
[Закрыть]
Мы начинаем путать эго-изм и социал-изм Власти. Мы заблудились?
Нисколько. Мы у цели: перед лицом Власти, такой, какая она есть, сформированная в процессе исторического развития.
Насколько же тщетными и наивными будут нам теперь казаться эти вечные притязания на создание Власти, из которой было бы изъято всякое эгоистическое начало!
Стремящийся к простоте, которую он тщетно ищет в природе, человеческий ум никогда не умел убедить себя, что двойственность составляет суть Власти.
Начиная с возвышенных фантазий Платона (унаследованных в свою очередь от более древних утопий), мы неутомимо ищем правительство, которое было бы хорошим во всех отношениях и всегда и во всех случаях руководствовалось бы только интересами или желаниями управляемых.
Эта иллюзия мыслящих людей помешала созданию настоящей политической науки, а спустившись в народ, стала – с тех пор как он располагает Властью – действенной причиной великих потрясений, которые омрачают наше время и ставят под угрозу само существование цивилизации.
Мы не желаем прощать Власти никаких злоупотреблений и присущих ей пороков и призываем другую Власть, бесконечно справедливую и благодетельную. Мы изгоняем, стало быть, такой эгоизм, который приспособился к обществу в ходе длительных с ним взаимоотношений, научившись удовлетворять свои желания, удовлетворяя нужды целого, и который всю силу собственных страстей ставит на службу общественному благу.
Мы верим, что даем дорогу вполне социальному уму, когда люди, претендующие на таковой, утверждают, что они им руководствуются. Даже если бы они говорили правду, нет уверенности, что абстрактное идеальное представление об общей пользе, которое они приносят, окажется лучше того практического, обретенного на опыте знания общества, которым овладели их утвердившиеся предшественники. И коль скоро они были бы совершенно лишены эгоизма, Власти тем самым недоставало бы того, что для нее является, как мы увидим, абсолютно необходимым. Но такие притязания никогда не бывают оправданными. К незаинтересованным чувствам, которые могут двигать некоторыми из завоевателей Власти, примешиваются – и у них самих, и у их компаньонов – амбиции и аппетиты. Всякое изменение государственного строя и (в меньшей степени) всякое изменение правительства означает повторение (в более или менее сокращенном виде) варварского вторжения. Вновь прибывшие блуждают в машинном отделении со смешанным чувством любопытства, гордости и алчности.
Кредит, который им сначала открывают, позволяет им полностью использовать этот огромный аппарат и даже пристраивать к нему дополнительные рычаги. Когда другая группировка, обещающая использовать его лучше, проникнет в свою очередь в Град Повелевания, она найдет его еще более разбогатевшим. Так что вечно возобновляющаяся надежда лишить Власть всякого эгоистического начала всегда лишь подготавливает более широкие возможности для эгоизма, который придет в будущем.
Таким образом, политической науке необходимо прийти к признанию того, что Власть двойственна по своей сущности: мы не можем очистить ее от эгоистического начала. Мы видели, какими естественными средствами она приноравливается к общественному интересу; существуют, без сомнения, и искусственные средства, но они принадлежат политическому искусству, которое не составляет предмета нашего исследования.
Нам достаточно сколько-нибудь продвинуться в знании конкретной Власти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































