Читать книгу "Сияние снегов (сборник)"
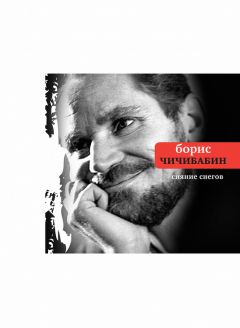
Автор книги: Борис Чичибабин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Весенние стансы
1
Над всей землей – ласкающая высь.
Зато зимой я весь мольба: «Явись!».
Весна нисходит к любящим с высот
и всех живых от холода спасет.
2
Как с губ ребенка первые слова,
пробилась тонко первая трава,
спросонок почки щурятся с ветвей,
и самый свет становится светлей.
3
В последний раз мы печку разожжем.
Еще деревья дремлют нагишом,
но даже корни чувствуют весну –
и с ними я все ночи не засну.
4
В моей руке любимая рука.
Да будет ей любовь моя легка.
Возьми, весна, и нас в одно свяжи,
чтоб стали дни просторны и свежи.
5
Я прожил годы в горе и тоске,
бросал на ветер, строил на песке
и заплатил всей мукою земной,
чтоб в этот час она была со мной.
6
Цветами рощ, каменьями морей
пестро жилье возлюбленной моей,
скворечня муз, где прозы шум и лязг
нам не слышны среди стихов и ласк.
7
Лети, душа, за солнышком в зенит!
Пусть каждый шаг о радости звенит
и длится сон, и слышу горний зов
под белый звон святых колоколов.
8
Весна нисходит, землю веселя.
Ее призыв услышала земля.
О, как еще ей зябко по утрам,
но свет влечет, и смысл его упрям.
9
Так дай, о жизнь, безмерна и щедра,
сто раз коснуться милого бедра
и по весне морозною зарей
в блаженном сне на родине зарой.
1968
Таллин
У Бога в каменной шкатулке
есть город темной штукатурки,
испорошившейся на треть,
где я свое оставил сердце –
не подышать и насмотреться,
а полюбить и умереть.
Войдя в него, поймете сами,
что эти башенки тесали
для жизни, а не красоты.
Для жизни – рынка заварушка,
и конной мельницы вертушка,
и веры тонкие кресты.
С блаженно-нежною усмешкой
я шел за юной белоснежкой,
былые горести забыв.
Как зябли милые запястья,
когда наслал на нас ненастье
свинцово-пепельный залив.
Но доброе Средневековье
дарило путников любовью,
как чудотворец и поэт.
Его за скудость шельмовали,
а все ж лошадки жерновами
мололи суету сует…
У Бога в каменной шкатулке
есть жестяные переулки,
домов ореховый раскол
в натеках смол и стеарина
и шпиль на ратуше старинной,
где Томас лапушки развел.
За огневыми витражами
пылинки жаркие дрожали
и пел о Вечности орган.
О город готики Господней,
в моей безбожной преисподней
меня твой облик настигал.
Наверно, я сентиментален.
Я так хочу вернуться в Таллин
и лечь у вышгородских стен.
Там доброе Средневековье
колдует людям на здоровье –
и дух не алчет перемен.
Сентябрь 1970
Литва – впервые и навек
Одну я прожил или две,
неволен и несветел,
но я не думал о Литве,
пока тебя не встретил.
Сквозь дым и сон едва-едва
нашел единоверца.
А ты мне все: «Литва, Литва…» –
как о святыне сердца…
И вот, дыханье затая,
огнем зари облиты,
сошли, как в тайну, ты и я
на вильнюсские плиты.
Плыла, как лодочка, Литва,
смолою пахли доски,
в лесах высокая листва
шумела по-литовски.
Твои глаза под цвет лесов,
так сладко целовать их,
но рядом тысячи Христов
повисли на распятьях.
Я ведал сам и верил снам,
бродя по крестной пуще,
что наш восторг ее сынам
был оскорбленья пуще.
Пусть я из простаков простак,
но как нам выжить все же,
когда от боли на крестах
дрожат ладони Божьи?..
И мученическая смерть
ни капли не суровей,
чем о любви своей не сметь
проговориться в слове.
Сквозь боль пронесший на губах
озноб сосны и тмина,
Чюрленис – ты безумный Бах
из рощи Гедимина.
За нами гнался дикий век
своим дыханьем сжечь нас,
но серебром небесных рек
нам лбы студила Вечность.
И стали от веселых слез
у нас глаза туманны,
когда и нам пройти пришлось
у стен костела Анны.
Их тихий свет в себе храня,
их простотою мерясь,
мы не разлюбим те края,
где протекает Нерис.
Я перед той тоской винюсь,
какой никто б не вынес,
но знай, что я еще вернусь
к твоим ладоням, Вильнюс.
(1973)
Рига
Как Золотую Книгу
в застежках золотых же,
я башенную Ригу
читаю по-латышски.
Улыбкой птицеликой
смеется сквозь века мне
царевна-горемыка
из дерева и камня.
Касавшиеся Риги
покоятся во прахе –
кафтаны и вериги,
тевтоны и варяги.
Здесь край светловолосых,
чье прошлое сокрыто,
но в речи отголосок
священного санскрита.
Где Даугава катит
раскатистые воды,
растил костлявый прадед
цветок своей свободы.
Он был рыбак и резчик
и тешил душу сказкой,
а воду брал из речек
с кувшинками и ряской.
Служа мечте заслоном,
ладонью меч намацав,
бросал его со звоном
на панцири германцев.
И просыпалась Рига,
ища трудов и споров,
от птиц железных крика
на остриях соборов…
А я чужой всему здесь,
и мне на стыд и зависть
чужого сна дремучесть,
чужого сада завязь.
Как божия коровка,
под башнями брожу я.
Мне грустно и неловко
смотреть на жизнь чужую.
Как будто бы на Сене,
а может быть, на Рейне
души моей спасенье –
вечерние кофейни.
Вхожу, горбат и робок,
об угол стойки ранюсь
и пью из темных стопок,
что грел в ладонях Райнис…
Ушедшему отсюда
скитаться и таиться
запомнится как чудо
балтийская столица.
И ночью безнебесной
услышим я и Лиля,
как петушок железный
зовет зарю со шпиля.
Гори, сияй, перечь-ка
судьбе – карге унылой,
янтарное колечко
на пальчике у милой.
Да будут наши речи
светлы и нелукавы,
как розовые свечи
пред ликом Даугавы.
1972
«Улыбнись мне еле-еле…»
Улыбнись мне еле-еле,
что была в раю хоть раз ты.
Этот рай одной недели
назывался Саулкрасты.
Там приют наш был в палатке
у смолистого залива,
чьи доверчивы повадки,
а величие сонливо.
В Саулкрасты было небо
в облаках и светлых зорях.
В Саулкрасты привкус хлеба
был от тмина прян и горек.
В Саулкрасты были сосны,
и в кустах лесной малины
были счастливы до слез мы,
оттого что так малы мы.
Там встречалася не раз нам
мавка, девочка, певунья,
чье веселым и прекрасным
было детское безумье.
В ней не бешеное пламя,
не бессмысленная ярость, –
разговаривала с пнями,
нам таинственно смеялась…
С синим небом белый парус
занят был игрою в прятки,
и под дождь нам сладко спа́лось
в протекающей палатке.
Нам не быть с мечтой в разлуке.
На песок, волна, плесни-ка,
увлажни нам рты и руки
вместо праздника, брусника.
Мы живем, ни с кем не ссорясь,
отрешенны и глазасты.
Неужели мы еще раз
не увидим Саулкрасты?
1972
Бах в домском соборе
Светлы старинные соборы.
В одном из них по вечерам
сиял и пел орган, который
был сам похож на Божий храм.
И там, воспряв из тьмы и праха,
крылами белыми шурша,
в слезах провеивала Баха
миротворящая душа.
Все лица превращались в лики,
все будни тлели вдалеке,
и Бах не в лунном парике,
а в звездном звоне плыл по Риге.
Он звал в завременную даль
от жизни мелочной и рьяной
и обволакивал печаль
светлоулыбчивой нирваной.
И мы, забыв про плен времен,
уняв умы, внимали скопно,
как он то жаловался скорбно,
то веселился, просветлен.
Мы были близкие у близких,
и в нас ни горечи, ни лжи,
и светом сумерек латвийских
просвечивали витражи.
И развевался светлый саван
под сводами, где выше гор
сиял и пел орган, и сам он
был как готический собор.
1972
«С далеких звезд моленьями отозван…»
С далеких звезд моленьями отозван,
к земле прирос
и с давних пор живет в лесу литовском
Исус Христос.
Знобят дожди его нагое тело,
тоскуют с ним,
и смуглота его посеверела
от здешних зим.
Его лицо знакомо в каждом доме,
где видят сны,
но тихо стонут нищие ладони
в кору сосны.
Не слыша птиц, не радуясь покою
лесных озер,
он сел на пень и жалобной рукою
щеку подпер…
Я в ту страну, лесную и речную,
во сне плыву,
но все равно я ветрено ревную
к нему Литву.
Он там сидит на пенышке сосновом
под пенье ос,
и до сих пор никем не арестован
смутьян Христос.
Про черный день в его крестьянской торбе
пяток сельдей.
Душа болит от жалости и скорби
за всех людей.
Ему б – не ложь словесного искуса,
молву б листвы…
Ну как же вы не видели Исуса
в лесах Литвы?
1970
Проклятие петру
Будь проклят, император Петр,
стеливший душу, как солому!
За боль текущего былому
пора устроить пересмотр.
От крови пролитой горяч,
будь проклят, плотник саардамский,
мешок с дерьмом, угодник дамский,
печали певческой палач!
Сам брады стриг? Сам главы сек!
Будь проклят царь-христоубийца
за то, что кровию упиться
ни разу досыта не смог!
А Русь ушла с лица земли
в тайнохранительные срубы,
где никакие душегубы
ее обидеть не могли.
Будь проклят, ратник сатаны,
смотритель каменной мертвецкой,
кто от нелепицы стрелецкой
натряс в немецкие штаны.
Будь проклят, нравственный урод,
ревнитель дел, громада плоти!
А я служу иной заботе,
а ты мне затыкаешь рот.
Будь проклят тот, кто проклял Русь –
сию морозную Элладу!
Руби мне голову в награду
за то, что с ней не покорюсь.
1970
Венок на могилу художника
Хоть жизнь человечья и вправду пустяк,
но, даже и чудом не тронув,
Чюрленис и Врубель у всех на устах,
а где же художник Филонов?
Над черным провалом летел, как Дедал,
Питался, как птица Господня,
а как он работал и что он видал,
никто не узнает сегодня.
В бездомную дудку дудил, как Дедал,
аж зубы стучали с мороза,
и полдень померкнул, и свет одичал,
и стала шиповником роза.
О, сможет сказать ли, кому и про что
тех снов размалеванный парус?
Наполнилось время тоской и враждой,
и Вечность на клочья распалась.
На сердце мучительно, тупо, нищо,
на свете пустынно и плохо.
Кустодиев, Нестеров, кто там еще –
какая былая эпоха!
Ничей не наставник, ничей не вассал,
насытившись корочкой хлеба,
он русскую смуту по-русски писал
и веровал в русское небо.
Он с голоду тонок, а судьи толсты,
и так тяжела его зрячесть,
что насмерть сыреют хмельные холсты,
от глаз сопричастников прячась.
А слава не сахар, а воля не мед,
и, солью до глаз ополоскан,
кто мог бы попасть под один переплет
с Платоновым и Заболоцким.
Он умер в блокаду – и нету его:
он был и при жизни бесплотен.
Никто не расскажет о нем ничего,
и друг не увидит полотен…
Я вою в потемках, как пес на луну,
зову над зарытой могилой…
…Помилуй, о Боже, родную страну,
Россию спаси и помилуй.
(1973)
«Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю…»
Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю –
молиться молюсь, а верить – не верю.
Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скоморошья,
почто не добра еси к чадам своим?
От плахи до плахи по бунтам, по гу́льбам
задор пропивала, порядок кляла, –
и кто из достойных тобой не погублен,
о гулкие кручи ломая крыла.
Нет меры жестокости ни бескорыстью,
и зря о твоем же добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.
Скучая трудом, лютовала во блуде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди –
бахвалы, опричники и палачи.
А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит – и то не смогу.
Мне кровь заливает морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.
Наточен топор, и наставлена плаха.
Не мой ли, не мой ли приходит черед?
Но нет во мне грусти и нет во мне страха.
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.
Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит,
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.
1969
Печальная баллада о великом городе над Невой
Был город как соль у России,
чье имя подобно звезде.
Раскатны поля городские,
каких не бывало нигде.
Петр Первый придумал загадку,
да правнуки вышли слабы.
Змея его цапни за пятку,
а он лошака на дыбы.
Над ним Достоевского очи
и Блока безумный приют.
Из белого мрамора ночи
над городом этим плывут.
На смерти настоянный воздух –
сам знаешь, по вкусу каков, –
хранит в себе строгую поступь
поэтов, царей, смельчаков.
Таит под туманами шрамы,
а море уносит гробы.
Зато как серебряны храмы,
дворцы зато как голубы.
В нем камушки кровью намокли,
и в горле соленый комок.
Он плачет у дома на Мойке,
где Пушкин навеки умолк.
Он медлит у каждого храма,
у мраморных статуй и плит,
отрытой строфой Мандельштама
Ахматовой сон веселит.
И, взором полцарства окинув,
он стынет на звонких мостах,
где ставил спектакли Акимов
и множил веселье Маршак.
Под пологом финских туманов
загривки на сфинксах влажны.
Уходит в бессмертье Тынянов,
как шпага уходит в ножны́.
Тот город – хранитель богатства,
нет равных ему на Руси,
им можно всю жизнь любоваться,
а жить в нем – Господь упаси.
В нем пре́дала правду ученость,
и верность дала перекос,
и горько, при жизни еще, нас
оплакала Ольга Берггольц.
Грызет ли тоска петербуржцев,
свой гордый покинувших дом,
куда им вовек не вернуться,
прельщенным престольным житьем?
Во громе и пламени ляснув
над черной, как век, крутизной,
он полон был райских соблазнов,
а ныне он центр областной.
(1977)
Лешке Пугачеву
Шумит наша жизнь меж завалов и ямин.
Живем, не жалея голов.
И ты россиянин, и я россиянин –
здорово, мой брат Пугачев.
Расставим стаканы, сготовим глазунью,
испивши, на мир перезлись, –
и нам улыбнется добром и лазурью
Христом охраненная высь.
А клясться не стану, и каяться не в чем.
Когда отзвенят соловьи,
мы только одной лишь России прошепчем
прощальные думы свои.
Она – в наших взорах, она – в наших нервах,
она нам родного родней, –
и нет у нее ни последних, ни первых,
и все мы равны перед ней.
Измерь ее бездны рассудком и сердцем,
пред нею душой не криви.
Мы с детства чужие князьям и пришельцам,
юродивость – в нашей крови.
Дожди и деревья в мой череп стучатся,
крещенская стужа строга,
а летом шумят воробьиные царства
и пахнут веками стога.
Я слушаю зори, подобные чуду,
я трогаю ветки в бору,
а клясться не стану и спорить не буду,
затем что я скоро умру.
Ты знаешь, как сердцу погромно и душно,
какая в нем ночь запеклась,
и мне освежить его родиной нужно,
чтоб счастий чужих не проклясть.
Мне думать мешают огни городские,
и если уж даль позвала,
возьмем с собой Лильку, пойдем по России –
смотреть, как горят купола.
1978
Церковь в коломенском
Все, что мечтала услышать душа
в всплеске колодезном,
вылилось в возгласе: «Как хороша
церковь в Коломенском!».
Знаешь, любимая, мы – как волхвы:
в поздней обители –
где еще, в самом охвостье Москвы, –
радость увидели.
Здравствуй, царевна средь русских церквей,
бронь от обидчиков!
Шумные лица бездушно мертвей
этих кирпичиков.
Сменой несметных ненастий и вёдр
дышат, как дерево.
Как же ты мог, возвеличенный Петр,
съехать отселева?
Пей мою кровушку, пшикай в усы
зелием чертовым.
То-то ты смладу от Божьей красы
зенки отвертывал.
Божья краса в суете не видна.
С гари да с ветра я
вижу: стоит над Россией одна
самая светлая.
Чашу страданий испивши до дна,
пальцем не двигая,
вижу: стоит над Россией одна
самая тихая.
Кто ее строил? Пора далека,
слава растерзана…
Помнишь, любимая, лес да река –
вот она, здесь она.
В милой пустыне, вдали от людей
нет одиночества.
Светом сочится, зари золотей,
русское зодчество.
Гибли на плахе, катились на дно,
звали в тоске зарю,
но не умели служить заодно
Богу и Кесарю…
Стань над рекою, слова лепечи,
руки распахивай.
Сердцу чуть слышно журчат кирпичи
тихостью Баховой.
Это из злыдни, из смуты седой
прадеды вынесли
диво, созвучное Анне Святой
в любящем Вильнюсе.
Полные света, стройны и тихи,
чуда глашатаи, –
так вот должны воздвигаться стихи,
книги и статуи.
…Грустно, любимая. Скоро конец
мукам и поискам.
Примем с отрадою тихий венец –
церковь в Коломенском.
(1973)
Девочка Суздаль
О, Русь моя, жена моя…
А. Блок
Когда воплощаются сердца мечты,
душа не безуста ль?
А не было чуда небесней, чем ты,
ах, девочка Суздаль!
Ясна и прелестна, добра и нежна
во всем православье –
из сказки царевна, из песни княжна
и в жизни сестра мне.
Как свечи святыни твои возжены, –
пестра во цветенье, –
не тронет старинной твоей тишины
Петра нетерпенье.
Но жизней мильон у Руси на кону –
и выси ли, бездне ль –
о, как она служит незнамо кому,
родимая безмерь!..
Ты ж дремлешь, серебряна и голуба,
средь темного мира
такой, как ремесленная голытьба
твой лик сохранила.
Ни грустного Пруста с собой не возьму,
ни Джойса, ни Кафку
на эту дарящую радость всему
зеленую травку.
В дали монастырской туман во садах,
полощется пашня, –
ах, девочка Суздаль, твоя высота
по-детски домашня.
Так весело сердцу, так празднует взгляд,
как будто Исус дал
им этот казнимый и сказочный град –
раздольную Суздаль.
Как будто я жил во чужой стороне,
и вот мне явилось
то детство, какого не выпало мне,
какое лишь снилось.
Уйдут, ко святым прикоснувшись местам,
обиды и усталь, –
ты девочкой будь, ты женою не стань,
пресветлая Суздаль.
Какой ни застынь поворот головы –
и в смутах не смеркли, –
полетно поют со смиренной травы
рассветные церкви.
В воде отражается храм небольшой,
возросший над нею,
и в зареве улиц притихшей душой
к России роднею.
О, как бы любил я ее и, любя,
как был бы блажен я,
когда б мог увидеть, взглянув на тебя,
ее отраженье!
1980
Псков
Темных сил бытия в нас –
в каждом хватит на двух.
Чем униженней явность,
тем возвышенней дух.
Меркнут славы и стоны
на Господних весах.
На земле побежденный
устоит в небесах.
Милый, с небом в соседстве,
город набожных снов,
нам приснившийся в детстве
и отысканный Псков.
В эту глушь, в бездорожье,
в этот северный лес
к людям ангелы Божьи
прилетали с небес.
В русской сказке, в Печорах,
что народ сотворил,
слышен явственный шорох
гармонических крыл…
Дело было под осень.
И охота ж была
Берендеевым осам
шелушить купола!
В просветленье блаженном,
о любви говоря,
пахла снегом и сеном
синева сентября.
Чайки хлопьями пены
опадали, дремля,
на старинные стены
ветряного Кремля.
И, свой каменный ворот
раскрывая навек,
славил Господа город
у слияния рек.
Оттого ль, что с холмов он
устремлен к высоте,
в нем, лесном и холщовом,
столько неба везде.
В нем бродяжливым дебрям
предстоял по утрам
так небесно серебрян
тихой Троицы храм.
Все державные дива
становились мертвей
перед правдой наива
его кротких церквей.
Капли горнего света –
строгих душ образа.
Как не веровать в это,
если видят глаза?
Бог во срубе небесном,
тот, чьих сил не боюсь,
только с вольным и честным
заключает союз.
Хоть порою бывает,
что, исполненный сил,
он зачем-то карает
тех, кого возлюбил…
Этот город как Иов,
и, где ангел летал,
плакать бархатным ивам
по сожженным летам.
Пусть величье простое
неприглядно на вид –
побежденный в исторьи
в небесах устоит.
Мрет в луче благодатном
государева мощь,
и – ладошкой подать нам
до михайловских рощ!
(1981)
Экскурсия в лицей
Нам удалась осенняя затея.
Ты этот миг как таинство продли,
когда с другими в сумерках Лицея
мы по скрипучим лестницам прошли.
Любя друг друга бережно и страшно,
мы шли по классам пушкинской поры.
Дымилась даль, как жертвенные брашна.
Была война, готовились пиры.
Горели свечи в коридорных дебрях.
Там жили все, кого я знал давно.
Вот Кюхельбекер, Яковлев, вот Дельвиг,
а вот и Он – кому за всех дано
сквозь время зреть и Вечности быть верным
и слушать мир, как плеск небесных крыл.
Он плыл органом в хоре семисферном
и егозой меж сверстниками слыл…
Легко ль идти по тем же нам дорожкам,
где в шуме лип душа его жива,
где он за музой устьем пересохшим
шептал как чудо русские слова?
От жарких дум его смыкались веки,
но и во сне был радостен и шал,
а где-то рядом в золоте и снеге
стоял дворец и сад, как Бог, дышал…
И нет причин – а мы с тобою плачем,
а мы идем и плачем без конца,
что был он самым маленьким и младшим,
поди стеснялся смуглого лица
и толстых губ, что будто не про женщин.
Уже от слез кружится голова, –
и нет причин, а мы идем и шепчем
сквозь ливни слез бессвязные слова.
Берите все, берите все березы,
всю даль, всю ширь со славой и быльем,
а нам, как свет, оставьте эти слезы,
в лицейском сне текущие по нем.
Как сладко быть ему единоверцем
в ночи времен, в горячке вековой,
лишь ты и Он, душой моей и сердцем
я не любил нежнее никого.
А кто любил? Московская жаровня
ему пришлась по времени и впрок.
И всем он друг, ему ж никто не ровня –
ни Лев Толстой, ни Лермонтов, ни Блок.
Лишь о заре, привыкнув быть нагими,
над угольком, чья тайна так светла,
склонялись в ласке нежные богини
и все деревья Царского Села…
Уже близки державная опека
и под глазами скорбные мешки.
Но те, кто станут мученики века,
еще играют в жаркие снежки.
Еще темны воинственные вязы,
еще пруды в предутреннем дыму…
О смуглолицый, о голубоглазый,
вас переглушат всех по одному.
И по тебе судьба не даст осечки,
уложит в снег, чтоб не сошел с ума,
где вьет и крутит белые колечки
на Черной речке музонька-зима…
Но знать не знает горя арапчонок –
земель и вод креститель молодой,
и синева небес неомраченных
ему смеется женской наготой.
В ребячьем сердце нежность и веселье,
закушен рот, и щеки горячи…
До наших лет из той лицейской кельи
сияет свет мальчишеской свечи.
И мы, даст Бог, до смерти не угаснем,
нам не уйти от памяти и дум.
Там где-то Грозный радуется казням,
горит в смоле свирепый Аввакум.
О, что уму небесные законы,
что град Петра, что Царскосельский сад,
когда на дыбе гибнут миллионы
и у казнимых косточки хрустят?
Молчат пустые комнаты и ниши,
и в тишине, откуда ни возьмись,
из глубины, но чудится, что свыше,
словами молвит внутренняя высь:
«Неси мой свет в туманы городские,
забыв меж строк Давидову пращу.
В какой крови грешна моя Россия,
а я ей все за Пушкина прощу».
1974
Стихи о русской словесности
1
Ни с врагом, ни с другом не лукавлю.
Давний путь мой темен и грозов.
Я прошел по дереву и камню
повидавших виды городов.
Я дышал историей России.
Все листы в крови – куда ни глянь!
Грозный царь на кровли городские
простирает бешеную длань.
Клича смерть, опричники несутся.
Ветер крутит пыль и мечет прах.
Робкий свет пророков и безумцев
тихо каплет с виселиц и плах…
Но когда закручивался узел
и когда запенивался шквал,
Александр Сергеевич не трусил,
Николай Васильевич не лгал.
Меря жизнь гармонией небесной,
отрешась от лживой правоты,
не тужили бражники над бездной,
что не в срок их годы прожиты.
Не для славы жили, не для риска,
вольной правдой души утоля.
Тяжело Словесности Российской.
Хороши ее Учителя.
2
Пушкин, Лермонтов, Гоголь – благое начало,
соловьиная проза, пророческий стих.
Смотрит бедная Русь в золотые зерцала.
О, как ширится гул колокольный от них!
И основой святынь, и пределом заклятью
как возвышенно светит, как вольно звенит
торжествующий над Бонапартовой ратью
Возрождения русского мирный зенит.
Здесь любое словцо небывало значи́мо
и, как в тайне, безмерны, как в детстве, чисты
осененные светом тройного зачина
наши веси и грады, кусты и кресты.
Там, за ними тремя, как за дымкой Пролога,
ветер, мука и даль со враждой и тоской,
Русской Музы полет от Кольцова до Блока,
и ночной Достоевский, и всхожий Толстой.
Как вода по весне, разливается Повесть
и уносит пожитки, и славу, и хлам.
Безоглядная речь. Неподкупная совесть.
Мой таинственный Кремль. Наш единственный храм.
О, какая пора б для души не настала
и какая б судьба не взошла на порог,
в мирозданье, где было такое начало –
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, – там выживет Бог.
1979









































