Текст книги "Казнённый колокол"
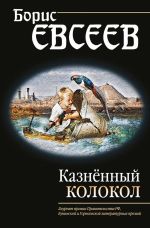
Автор книги: Борис Евсеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Гонопупу
Рассказ
В Серой зоне, близ пустого рассветного рынка, в маленьком летнем шалмане с двусмысленным названием «Уголино», куда в такую рань да еще по весне редко кто заглядывает, пили, спорили и плясали двое рядовых украинской армии.
Были они в старом, еще советского образца камуфляже и в соломенных, бог весть зачем понадобившихся холодноватой весной шляпах. Шляпы, как и положено щирым украинцам, они называли «капелюхами», а спорили о том, как скоро выдадут им новую форму. На вид обоим было хорошо за пятьдесят, а может, и больше.
В чем-то они были поразительно одинаковы. Одинаковость эта была в пьяной оглядке: рядовые все время озирались и так же дружно, чисто по-женски взмахивали руками: мол, будь что будет! А отличались солдаты голосами и ростом: один высокий, но согнутый в дугу, был медленным, сиплоголосым. Другой – звонкий, как мальчик, подвижный, с трясущимися щеками и трясущимся животом.
Устав петь и плясать, рядовые начали играть в прятки. При этом с места они почти не сходили: просто заслонялись друг от друга ладонями, задавали каверзные вопросы, спрашивали: а не спрятался ли ты в подвале, не переметнулся ли к москалям?
– Кум Игнат? А ловко мы вид пана сотника втэклы?
– Кум Ярема? Ловко, ловко. Тилькы було б закусона бильше взяты. Тоди б и вэртаться нэ трэба було. От хиба що соломой закусыты.
Толстенький безусый Игнат расплылся в улыбке, смачно укусил соломенную шляпу. Шляпа хрустнула, но не поддалась.
– Як у поли! Капелюх пахнэ хлибом, як у поли.
– Хлеба сейчас бы буханки три – все схрумкал бы. А так – в часть возвращаться.
– А там шо? Хлиба там нэма… одни бурякы… На грызаны мою солому разок. Твий капелюх у грязюци весь. Бери мий, кумэ, для тэбэ нэ жалко.
Игнат протянул соломенную свою шляпу Яреме.
– Кум Игнат? Ты меня видишь?
– Бачу, бачу тэбэ, кум Ярема.
– От то-то ж. А скажи мне, Игнат, как же нам теперь докладать пану офицеру?
– Пану сотныку…
– Я ж и говорю: шо мы пану сотныку про Донецкую фильтровальную станцию докладывать будем?
– Нас куды послалы? Про фильтрувальну станцию тыхэсэнько розпытаты.
– А нам до нее дела, как тому зайцу до курева…
– То-то и воно. Тэпэр слухай: пану сотныку будэмо розповидаты так: була Донецька фильтрувальна станция, та ии москали вкралы. И до сэбэ у Сыбир вывэзлы.
– Кум Игнат. Станция не канистра спирту. Так просто в мешок не засунешь.
– Москали у нас цилу Одэссу вкрылы. Тэ мэнэ чуешь, Ярэма? Куды, гад, сховався?
– Под столом я. А Одесса пока наша, кум Игнат… Я вот чего думаю: а давай мы тут сами фильтровальную станцию устроим!
– Цэ ж як?
– А так, кум Игнат, а так! Тут я под столом насос нашел. Здоровущий такой насосище! Будем тем насосом фильтровать воздух. А напишем – воду фильтровали!
– Кому напышэмо, кум Ярема?
– А кому хошь! Я ж пысарь, бумага и… и… и ручка с собой. Хочешь, куму Авакову и куму Саакову черканем. Хочешь – самому Порошенке!
– Нэ Сааков, а Сакш… Сакш… Сакакашвили… А Поршенко той читаты нэ будэ! У нього вся жопа в шоколади! Вин ии облызнуть кому трэба дае, и за цэ ще й гроши бэрэ.
– А тогда давай Путину напишем.
– Тю! Та нас же розстриляють за цього кровососа!
– А мы никому не скажем, тихохонько напишем, тихохонько отправим. Года два пройдет – глядь, письмо и всплывет где надо. А напишем мы ему так: мол, ваши солдаты внагляк выкрали Донецкую фильтровальную станцию. А мы станцию Донецку вернули!
– Давай пышы, може, хоч дулю понюхать Путин дасть.
– Может, и дулю, а может, и табачку понюхать даст. Пишу и читаю, кум, тебе вслух:
У Московский Крэмль. Путину.
«Панэ Путин! Хоч вы и крымский сатрап, и чухан бурятский, и лохопендрик, мы вам по-соседски докладаем: Донецкую фильтровальную станцию вкралы якись недо́людки. Мы вам ии вертаем. Бо мы – щири украинци… Панэ Путин! У вас всего до черта, а у нас – одни дырки в горсти. Ввиду чего прышлить, будь ласка, до востребования…»
– Кум Игнат, как по-нашему, по-украински, «до востребования?»
– Нэ памьятаю. Може, «до запытання»?
– Тю. Это ж значит «до вопроса». До какого такого вопроса, кум Игнат?
– Тоди, може, «до побачення»?
– Тьфу! Где ж это мы з паном Путиным увидеться можем?
– Та у мавзолеи.
– Он туда не ходок. Туда сейчас одни мертвяки ходят!.. Ладно, давай, хоть на ссученной мове, а закончим: «Пришлите нам, пан Путин, для умиротворения души и для расслабления военной обстановки: двести ящиков кубанской сорокаградусной, триста палок сервелату финского, пятьсот прызырвативов и одного доброго вола…»
– Тю! А вола ж на що?
– А мы вола в бричку запряжем, скажем жинкам: на пашню пора! И медленно на нем, и вполшага, и водочку через соломинку потягивая – до баб, до баб! Ну, шо? Ничего не забыли? Одну печать поставить осталось.
– Печати-то у нас и нэма…
– Тогда подпись. Какую подпись поставим?
– А таку: дырэктор Тыхого океану и… и… Ново-украинской фильтрувальной станции – Игнат Скачко. Замиснык дыректора – Ярема Кныш.
– Так ты, собака, себе уже и зарплату директорскую намерял? Тебе, значит, баксы, а мне гривны мятые-перемятые?
– Кум Ярэма, кончай ругаться. Видправляй лыста и давай ще по сто!.. А ловко ты у пана сотныка двухлитрову бутыль вкрав… Ще б кровяной ковбасы – и прямо в рай!
– Кум Игнат, с кровяной колбасой в рай не пустят.
– Тю. А ты думаешь, там тилькы пэтрушэчкой занюх… занюхують?
– Петрушкой не петрушкой, а с кровяной колбасой апостол Пэтро точно не пустит. И спирту там – ни грамма. Одна грушовка, «Кальвадос» один вонючий. И то по наперстку на брата…
– Кум Ярэма. А ты хиба там, у раю, був?
– Кум Игнат. Не был, а знаю. Мне священник, батько Потапий, рассказывал.
– Брэшышь. Ты церкву дэсятой дорогой обходышь. А будэшь брэхать – я пану сотныку скажу, хто вкрав спырт. Вин тэбэ нараз в рай спровадыть. И бэз закусона! Вин з тэбэ самого кровяну ковбасу зробыть. И москалям на закуску видправыть. Жрить, жывоглоты!
– Кум Игнат. А москали, они тебе чего вообще-то сделали?
– А ты нэ знаешь? Краще нас воны хочуть буты. А цэ мы, мы с тобой найкращи!
Опять скрипнула новая соломенная шляпа, день все никак не занимался, стало вроде еще темней. Рядовые, посланные на Донецкую фильтровальную станцию для разведки – никаких диверсий таким никто не доверил бы, – так были заняты мыслями о кровяной колбасе и будущем рае, так поглощены своими новенькими, пока не слишком отвердевшими и, наверно, действительно вкусными соломенными капелюхами, что не видели и не слышали ничего: ни близящегося дня, ни исподволь уходящей ночи. Было похоже: они только для того, чтобы поговорить про капелюхи, про спирт и про гниловатый «Кальвадос», и родились, и живут…
– Налывай! От спирт так спирт, аж дух вон! Ты про операцию обицяв розповисты.
– Ну, слушай. Пошел наш сотнык год назад к врачу. Говорит: «Удалите мне, пан доктор, половину мозга. А то совсем жизни не стало». Доктор ему и так, и по-другому… Стоит на своем сотнык. «Ладно, так и быть, – махнул рукой доктор, – готовьте голову, пан сотник, мыльте ее, брейте!» Сделали операцию, наутро врач заходит: «Ну как?» – «От зараз – гарно! Так гарно, шо и другу половыну мозга мэни завтра видтяпайтэ, пан доктор!»
– Шрам у пана сотныка я бачив… А от ты… ты бачишь тут шо-нэбудь? Глянь навкругы! Мы куды с тобой потрапылы? Нэ знешь? Тоди наливай, скотына.
Долгий глоток, тихий задыхательный хрип, за ним – кряк и ревущий восторг:
– Так от: заблукалы мы. И потрапылы в Гонопупу!
– Ты уже совсем пьяный, Игнат… Какое такое Гонопупу? Нет такого места на земле – Гонопупу!
– Ты, кум Ярема, нэ думай, шо я з глузду зъихав! Я сам тэ Гонопупу бачив. Так и було намалевано: Гонопупу. И карта. И кафешка наша сбоку…
– А я говорю: нет такого места на земле, Гонопупу… Выдумаешь тоже!
– Та есть же! У нас в Винницкой области село було Голопуповка. Так перейменувалы, дуракы. А як смачно воно, тэ сэло, называлось! «Куды, брат, идэшь?» – «В Голопуповку!» – «А ты куды, Марьяна, побигла?» – «Та в Голопуповку ж, за халатом!»
– Так то Голопуповка. Законное дело, чтоб голый пуп существовал. А тут Гоно-пупу. Гоно-пупу – не украинское название.
– То-то и воно, шо назва амерыканьска! Я думаю так: тут у нас, на наший украинський территории, амерыканци хвилиал свого острова Гонопупу видкрылы.
– Только и делов у Америки – тут филиалы свои открывать. Они нам оружия не дают. Воюем голыми руками. А скоро и голыми пупами – твоя правда, кум, – тереться с москалями будем. Нам танки, нам ракеты подавай! А они вместо ракет новые звания вводить вздумали: «осавул», «гауптман», «капут-капрал»…
– Гей, стриляй моя рушныця! Нэма такого звания «капут-капрал»! А я… Завтра похмелюсь – и на танк! Танкист Погребун до самой Винницы на танке провэзты обицяв!
– Зачем нам танк? Сожгут еще. Лучше москалив-донбасовцев бомбами, бомбами!
– А колы воны нас?
– Нас нельзя.
– И правда, нас нэ чипай! Кумэ! Выпьемо – и айда в Гонопупу… Хоч в филиал, хоч на сам остров. Хай апостол Пэтро у себе в Израили видпочивае. А мы – в Гонопупу! Там справжний рай! Колы я був дырэктором Тыхого океану – остров цэй бачив…
– А пан сотник что тебе говорил? Сначала москалей, потом черномазых, потом израильтян – под ноготь. А в Гонопупу твоем – одни черномазые.
– У мэнэ зять москаль. Справный мужык. И выпыты, и ще налыты мастак. И роботяга. Його вбыты – грих.
– Грех не грех, а придется.
– Ты ж сам москаль.
– Тихо ты, я украинец. Когда надо – я всегда украинец… А надо будет – москалем стану. И тебя, дурья башка, отгонятелем мух к себе возьму…
Падая головами на пустой шалманный стол, вздрагивая, опять просыпаясь, рядовые Игнат и Ярема не слышали нас с Мишей, не слышали тихо подъехавшей военной машины с ополченцами. Они блаженствовали! Не почувствовали они и того, как приняли их под руки, бережно погрузили в машину, как повезли в штаб – судя по негромким словам, куда-то в километрах семи от занятой «правосеками» Авдеевки.
Все еще витая в пьяных грезах, Игнат спрашивал у тащивших его ополченцев:
– Панэ, цэ вже Гонопупу?
– Будет, будет тебе Гонопупу.
– Хочу туды, дэ ковбаса-кровянка – вагонами. Дэ апостол Павло добрыми ломтямы ии наризае… Дэ Апостол Пэтро нашего лыста до Путина читае… И языком – чмок! И сто грамм – ах! Ах – двести! Ах – трыста! А писля третьей кровянку понюхае, скажэ: нэ можна нам Апостолам ковбасы кровяной. Уся тоби, раб божий, ковбаска! И аж заплаче Святый Апостол. А я… Колы я був дыректором Тыхого океану… Чось я засыпаю…
– Спи, друг, как проснешься, все поймешь. К вечеру, может, и попадешь куда надо. Будет тебе и Гонопупу, и остров Оаху. Может, и со святыми апостолами повидаешься.
– Оаху? Слышь, не ругайся, братуха…
– Спи, спи, отвоевался, завтра землю копать пойдешь.
– И в Гонопупу!
Миша ухватил меня за рукав:
– Другой дорогой рванем отсюда! А то если здесь застукают – на паспорт ваш московский не посмотрят. Р-раз – и в кутузку!
Ступая бочком, выкрался я из задних дверей шалмана и по незнакомому, весеннему, еще липнущему к подошвам полю кинулся в обход, за Мишей.
Музыка скифов
Рассказ
1
Звук неуследимый, звук ниоткуда: из-под земли, с небес?
Как будто ущипнули и отпустили туго натянутую жилку из овечьих хорошо скрученных кишок, и жильная струна эта, то затихая, то сама по себе вздрагивая, звучит и звучит вновь.
После ночной пальбы, после дальних и близких разрывов, звук этот – радость великая и мечта безобманная…
2
На второй день пути городки и села стали попадаться реже: начались лесопосадки, в их просветах горбиками курганов выкруглялась настоящая степь.
Ночевали после второго дня в заброшенном сарае. Один общий знакомый в маленьком донбасском городке Старобешево, выскочившем и вставшем на пустой вечерней дороге, у них, конечно, был.
Но Китя сказал как отрезал:
– Только сарай, если хочешь идти со мной дальше. Только сарай, греческая твоя морда.
Услыхав про сарай, Симеон скривился: «Да он голубой, этот Китя!»
Такое открытие Симеона не обрадовало, но и не слишком испугало. Правда, сразу же выяснилось: дело не в голубизне, дело совсем в другом.
– Амбарную музыку тоже нужно уметь слышать, – пояснил Китя. – Писк мышей, скрежет железных ящериц, молчание сенокосилок – все в этом амбаре, как в захлопнутой партитуре, хранится! Можно услышать и кое-что другое, ну, допустим, визг падших девушек, причитания заблудших жниц, скулеж казнокрадов. Так что городок этот обойдем стороной и при этом…
Здесь Китя внезапно осекся и замолчал. Молчал он долго, и Симеон даже успел обрадоваться: может, удастся уломать этого стебанутого и отоспаться-отогреться в гостинице – март ведь еще!
3
Но Китя задумался о другом. Он задумался о началах и концах путей-дорог человеческих. Окончание собственного пути он себе представить пока не мог. Ну, а начало – чего проще?
Для Кити-Никиты Цуникова все начиналось не здесь, не в холодновато-изумрудной донбасской степи, начиналось сперва под Москвой, а потом продолжилось на Урале. И донбасскую эту сюиту с ушлепистой музыкой бомб, танцами вооруженных женщин на платформах грузовиков с откинутыми бортами, с жалким шатанием по чужим углам придумал не он, а его старшие – и, как оказалось, не так чтобы слишком умные – друзья: Глазычев и Носович.
А он, даровитый и мудрый Китя, оказался в этой донбасской истории, как всегда, сбоку припеку.
«Донбасская сюита» – так прозвал их марш-бросок на юг не Китя, а добрый Глазычев, композитор смыслов.
Началась сюита вполне импровизационно: Носовичу надоел Урал. «Двадцать лет отпахал я в филармонии, – выгибал свою гусиную шейку Носович, – а они возьми и присоедини филармонию к обществу «Гармонь голосистая»! И когда? В самом невозможном, в самом инфляционном, в концесветном двенадцатом году!»
Носович был виолончелист. Из его шеи всегда торчал островками светлый пушок. Когда-то он переписывался с самим Ростроповичем. Переписка, правда, была в одну сторону: бодрый уралец Ростроповичу писал, тот в ответ молчал. И лишь однажды откликнулся на просьбу Носовича высказаться про посланную в подарок «Концертную феерию» для виолончели с оркестром.
Великий мастер нацарапал всего два слова: «Не имею времени».
Отказ Носовича не обидел. Обидела подпись. Она была, как показалось Носовичу, абсолютно издевательской: «Ваш Ростопович» – крупно написал на титульном листе «Феерии» склонный к сарказму маэстро. И всё.
– Букву в подписи он пропустил не случайно, для посмеяния букву он пропустил! – кричал на Китю и Глазычева неумолимый Носович.
История с пропущенной буквой произошла в девяностые. История с «Гармонью голосистой» – в две тысячи двенадцатом. И здесь была яростная историческая разница! В новых условиях переносить открытое хамство гармонистов и филармонических чечеточников Носович просто не мог.
Надо было переезжать! Вот только куда? Все музыканты-евреи давно уехали в Торонто и Вену. А образованные неевреи? Им-то куда деваться от голосистых гармонисток и пьяной чечетки?
– А в Донецк, – сказал первейший друг Носовича композитор смыслов Сан Саныч Глазычев.
Саня мечтательный, Санечка нежный, когда-то в донецкой консе учился и уже давно думал на Донбасс возвратиться, чтобы там, в южном краю, покорившем его когда-то розоватым цветением абрикосовых деревьев, собрать семью, детей, внуков – в общем, всех-всех – за обеденным, крытым небесно-голубой скатертью столом и…
В Донецк – так в Донецк. Носович был не за, но и не против.
Двое друзей поднатужились, побегали месяц-другой за справками-выписками, подготовили к скорой перемене местожительства семьи – и переехали.
Вслед за ними холостой Китя и двинул.
По отношению к Носовичу и Глазычеву он тоже был друг: но более поздний, второстепенный. Об этом ему не раз и не два говорил болезнетворный Носович. Об этом застенчиво молчал Сан Саныч Глазычев, композитор смыслов.
В сомнительных случаях, чтобы снять неловкость полудружбы, Сан Саныч начинал говорить о важном. Он высказывался так:
– Цветомузыка – это у Скрябина, у Глазунова. А у меня – музыкословие… И ты, Китя, будешь первым тромбонистом, который сможет это музыкословие до конца осилить! Там, на Донбассе, я напишу для сольного тромбона «Песню сколота»! И ты еще покажешь себя, Китя!..
Переехали в Донецк в начале года тринадцатого, а уже в году четырнадцатом – тру-ту-ту-ту туту! бумс-тумс! – понеслось-поехало.
В общем, война. Грязно-подлючая, ненавистная, ничуть не игрушечная…
Носович почти сразу вернулся в родной Магнитогорск: простил городу и голосистых гармонисток, и дым с копотью, и все дрязги филармонические простил – лишь бы без трупов.
А Китя и Глазычев – те остались. Но дороги их разошлись, и теперь вроде окончательно.
На позавчерашний день Сан Саныч Глазычев был профессором композиции, имел в консерватории шесть учеников и двух аспирантов, пользовался неимоверной симпатией и женской, и мужской части преподавательского состава («и заслуженно, заслуженно», – нервно уедал себя Китя)… А его, Никиту Цуникова, даже в пристойный оркестр не взяли, не дали в местной консе или хотя б в музучилище ни одного ученика!
– Нам с вами не место в одной музыке, – положил начало Китиным бедам второй дирижер «Донбасс-оперы», заносчивый и, на взгляд Кити, бездарно серый, В-угин после короткого прослушивания, на которое Китя пришел, если уж правду сказать, слегка поддатый, – и передайте мои соболезнования вашей жене, – добавил дирижер. – Как она может спать с таким неритмичным субъектом?
Побегав по школам, по духовым и пожарным оркестрам, Китя со зла в эту самую «Донбасс-оперу» сторожем и нанялся.
4
После холодной ночи, проведенной в заброшенном амбаре, Китя и Симеон зашли в пристойную забегаловку с фикусами.
Как и положено даровитому и щедрому музыканту, Китя купил Симеону куриный шницель. Себе взял черничный йогурт и сырое яйцо. Путь предстоял неблизкий, путь предстоял дальний, надо было укреплять зрение и мозг, потому как то, что пообещал Ките его спутник, требовало и мысли, и зоркого взгляда.
5
Музыка рассвета обострялась. Явные звуки и едва слышные их призвуки – обертоны – сладко лопались над полями. Грянули вроссыпь мартовские скворцы. Тростниковые воробьи с желтоватыми кончиками перьев бодро зачирикали у дренажных канав. Кряхтя и попукивая, выехала для разминирования на изумрудные поля, изрытые снарядами древних укров, саперная машина УР-67, в просторечии – «Змей Горыныч».
– Уйду в симфоджаз! В симфоджаз – и квит! Я вам покажу сторожа-тромбониста, я вам исполню на скифской арфе смертельный номер! И тебе, Сан Саныч, дам послушать, сразу станешь ты у меня суровым, сразу улыбку свою мяконькую проглотишь от зависти!.. Прокофьева передирать прекратишь! Выгонишь всех своих учеников к чертям собачьим! И сам… сам… – Тут Китя чуть сбился. – И сам приползешь ко мне на коленках учиться на скифской арфе!
Грек Симеон, не понимавший всей тонкости композиторских взаиморасчетов между донбасским уроженцем Прокофьевым и прибывшим из далекого Магнитогорска Сан Санычем, лыбился, как дупло.
6
Знакомство Кити и Симеона произошло под звуки сомнительной оперетты, крикливо выряженной в архисовременные одежки: «Донбасс-опера» шалила иногда ерундой.
Симеон-грек, от кого-то про режиссерские новшества уже слышавший, явился на «Веселую вдову» в соломенном картузе, зеленых бермудах и алой цыганской блузе. В театре было холодно, и Симеон, тыкая в картуз указательным пальцем, всем и каждому объяснял: у него мерзнет плешь! А раз мерзнет, то снимать картуз он не обязан. И не снял, выпендрист, как задние ряды его об этом ни просили.
Такой вольной неподотчетностью оперным властям и театральной критике Симеон сразу к себе Китю привлек.
– Когда это опереточное злодейство закончится, заходи ко мне в Тромбон-мастерскую, – неожиданно для себя негромко позвал он Симеона в комнатуху для сторожей.
Симеон зашел.
Напевая только что услышанное «Карамбулина, Карамбулетта», выставил купленную здесь же, в буфете, бутылку вина «Троянда Закарпаття». Эту подозрительно отдающую гнилорозовой водой темно-красную муть Китя Цуников пить не стал: щедро поделился крымским коньячком.
Поболтали о том о сем, а потом Симеон, сперва внимательно слушавший Китин музыкальный стеб, вдруг сам стал рассказывать про древний курган, расположенный почти у самого Азовского моря, и про заповедную Хомутовскую степь.
Курган, по словам Симеона, исподтишка, но притом и внаглую осваивался черными копачами.
– Они, копачи, слышь, чего удумали? Пожары в степи каждый год запускают, и пока лохи музейные тушением занимаются, они заброшенные ходы ищут, в курганах изнутри спокойно роются… И находят, я тебе доложу! Курганы-то – в заповеднике. Лет восемьдесят в них никто не рылся… А теперь близ Мариуполя война, что ни день, палят, ну и копачам – раздолье, копачам – фарт! Одни только сычи и совы болотные их по ночам беспокоят…
Рассказал Симеон и про скифскую арфу, которую некоторые дуболомы называют скрипкой, но которая на самом деле арфа и есть и только поэтому свою цену имеет. Рассказал про усеянный алмазами корпус арфы и про непонятный звук, который арфа издает по ночам.
– Струны-то у арфы давно сгнили! А звук – идет… Звук этот копачей и пугает: вдруг на арфу какие-то скифские заклятья наложены или че другое. Войны копачи не боятся, а тень скифов – та их страшит сильно. Но если хорошенько покумекать, так это скорей всего какой-то филин контуженый непонятные звуки издает. А потом сам же над собой в голой степи смеется… В общем, там, в Хомутах, специалист нужен. Вот ты и объяснил бы про неясный звук и про все остальное. Ясен пень, не копачам ушлепистым, а настоящим любителям археологии, прирожденным ценителям… как это… – Симеон скинул соломенный картуз, вытащил из-под внутренней подкладки какую-то бумаженцию, – а, вот: ценителям артефактов!..
Поделился Симеон и личным горем: как паршиво, что сам он в музыке – тупец тупцом, хоть и природный грек и за ним – сиртаки-миртаки, Теодоракис-Шмеодоракис… А найти вторую арфу, такую же, как та, о которой сболтнули знакомые копачи, упрыгавшие с черепками куда-то в Румынию, настоящим ценителям археологии и древних фактов ох как хочется! Эта самая вторая арфа – чуть меньших размеров, видно, женская или детская – еще в царских записях упоминалась. Вот только он, Симеон, вида ее хорошенько не знает, боится с другими кусками бронзы и дерева перепутать…
– Ты бы глянул в Интернете, а уже потом, в Хомутах, точно определил: арфа, не арфа?
Китя рассказом Симеона был сражен вчистую. Но виду не показал. Налил еще по рюмахе, как следует посмаковав коньяк, сказал:
– Ты, Симеон, арфу от скрипки с трудом отличаешь. А вот если я возглавлю наш с тобой поиск – все будет комильфо.
– Чего-чего будет? – не понял Симеон.
– Молчи, дупло! – Коньяк начинал брать свое. – Я хотел сказать: музыкальный эксперт для успешных поисков обязательно нужен. Ты, сучок, что мне здесь гонишь? Тебе не арфа скифская, тебе камушки и золото, выдолбанные из корпуса, требуются. Бери, отдаю!
Китя резко смахнул пластмассовую рюмку с остатками коньяка на пол. Коньяк быстро впитался в ковровую дорожку.
– Ты знаешь, дупло, кто перед тобой тут сидит?
Дупло потупило глазки.
Китя бережно вынул из шкафа тромбон, продул раструб, приладил пьяненькие губы к мундштуку, тихо сыграл из Вагнера.
Симеон был убит и растерзан. Или сделал вид.
Тогда Китя добавил из Хачатуряна.
– «Танец грека-раба». Соло с подвыванием из балета «Спартак», – торжественно объявил он.
Тут уж Симеону и впрямь деваться было некуда: музыка завела его, он задергался, заулыбался, стал причмокивать толстенькими вывернутыми наружу, как у татарина или у цыгана, губами.
«Точно, цыган он, а под грека косит только», – подумал Китя и закончил музыкальную часть исполнением отрывков из «Скифской сюиты» Прокофьева.
– Старик Прокофьев доволен был бы. – Китя бережно выдернул раструб, слил набежавшую слюну в кашпо и слегка помертвевшими, отвыкшими от мундштука за месяцы вынужденного простоя губами прошелестел: – В общем, так. Тебе камушки и золото – мне корпус. Ты – салабон и дупло. А я тромбонист номер один в этой долбаной «Донбасс-опере». Только об этом никто знать не желает. Потому как я сейчас в академическом отпуске. Ты хоть понимаешь, дупло, что значит для артиста оркестра академический отпуск?
– А як же, а як же! Очень даже понимаю. И академиков уважаю… Нам бы еще только какой-нибудь сертификат про то, что это и есть скифская арфа, сварганить, – врал и лебезил, пересыпая вранье перчинками правды, Симеон-грек.
И закатывал глазки, и коротко потирал белый – словно прооперированный или вообще искусственный – нос, нагло торчавший из смуглых щек и не соответствовавший полугреческому, полузвериному лицу: под зауженной макушкой – узкий лоб, скошенный подбородок и широченные, как у вола степного, скулы…
Очистившись душой при помощи сольных наигрышей и крымского коньяка, взлетая и даже ненадолго зависая в донбасских небесах, Китя, выйдя на улицу с Симеоном, все же заметил: что-то задумал, потому и льстит, потому нагло и подлаживается под него двуличный грек!
Но про себя решил: это не со зла, а просто от подлости Симеоновой греко-цыганской натуры.
– В общем, так: послезавтра выходим и пилим в эту твою Хомутовскую степь.
– Туда ехать надо. Мне же просто товарищ нужен, чтоб распознать эту скифскую хрень, а так бы я тебя в гробу видал.
– Я распознаю. Но пойдем – пешедралом. В крайнем случае на попутках немного подъедем. Путь к скифской арфе должен быть тернистым!
Симеон внезапно согласился: тернистым так тернистым.
7
Сан Саныч Глазычев, лишившись ядовитых реплик виолончелиста Носовича, затосковал по Никите Цуникову.
И потому влажно-холодным мартовским вечером из консерватории пошел не домой – направился в «Донбасс-оперу».
Зайдя со служебного входа, спросил у знакомого администратора, вившегося вьюном вокруг танцовщицы Ацюковской: где, извините великодушно, тут сторож Цуников?
Администратор раздраженно мотнул рукой куда-то вбок и вниз, и Сан Саныч, розово улыбаясь, побрел по оперным лестницам отыскивать комнату сторожей.
Но никого в тот час в комнатке сторожей не оказалось…
Недопитая рюмка коньяку на столе и забытый впопыхах раструб от тромбона на крохотном диванчике. Всё.
«Опустился Никитушка, духом ослаб. Раструб в футляр уложить не может. Поехать с ним, что ли, на охоту? Нет, лучше определить его в музшколу: там хоть сольфеджио вести сможет…»
– А где же ваш симпатичный товарищ? – скромно потупив глазки, спросила, заглядывая в комнату сторожей, вообще-то резковатая на поворотах, но сегодня какая-то особенно умасленная танцовщица Ацюковская.
Сан Саныч Глазычев виновато развел руками.
8
Они шли и шли, и Китя не переставал себе удивляться: почему не поехали, зачем он придумал идти пешком? Деньги кой-какие еще были. Да и сто́ит в Донецкой Республике все копейки: билет на троллейбус – три рубля, громадная буханка белого формового хлеба – восемь…
Симеон поглядывал на Китю и радостно скалился: нашел-таки лошару. Такого, как просили! Вроде знающий и точно не при делах. Покажет все, лошара, и расскажет, отвлечет на себя внимание клиента, и тот будет доволен, а старшие Симеона похвалят, и все будет чики-пуки…
«Можно, конечно, решить вопрос с музыкой проще, выгодней. Как насобирает тромбон этот железок и деревяшек от арфы, скинуть все в мешок, отдать клиенту как довесок к камешкам… А потом и бабло, и камешки, и деревяшки – р-р-раз и назад! И в Мариуполь, а там на турецкой посудине – в Трабзон. Ясен пень, придется валить клиента. И лошару, наверно, тоже… Может, и своих кого-то придется, а это уже намного опасней… Хотя лошару лучше не валить, а прихватить с собой в Трабзон и там как эксперта музыки представить. Пресс-конференцию устроить, а потом – в Европу! С высшим музыкальным образованием лошара все-таки. Корпус арфы ему пообещать, а потом в Европах где-нибудь под Амстердамом и оставить: не до законов там сейчас, в Европах…»
9
– Слышь, тромбон? Пятый раз тебе говорю: надоело идти мне, давай машину ловить.
– Где тут ее поймаешь?
– Надо на главную дорогу, а там на рейсовый автобус и до Новоазовска. Не доезжая выйдем. От главной дороги до Хомутов – всего ничего.
– Давай еще чуть пройдем, босыми ступнями земной путь прочувствуем.
– Ага, много ты босой набегаешься. А вот подошвы протрешь точно. Говорю тебе: найдем машину! Хоть ветеринарную, хоть военную, а найдем!..
Ополченцы их почти до Хомутов и подбросили: пожалели возвращавшихся из отпуска работников заповедника.
Но прежде чем выйти из кузова машины, при распахнутой в степь двери Китя Цуников снова услышал звук.
Звук шел не из неба, не из земли. Может, это Азов выдавливал из себя со вздохом тихое «Э-о-о-о»? Может, звук рождался в глубинах скифских курганов, один из которых висел неправдоподобным зеленовато-черным черепком судьбы совсем рядом и всего в метре над землей?
Ополченцы им еще и тушенки с хлебом дали – соврали им: мол, бедных работников заповедника какие– то типы подозрительные обобрали по дороге до нитки.
– Ты здесь в кафешке придорожной посиди, а я в село, в Бессарабку, схожу, – сказал Симеон, когда военная машина скрылась за невысокой рощицей. При этом ромбовидное лицо грека стало в верхней части лба как будто еще уже, а в скулах сильней расширилось.
– Какой-то жар у меня начинается, простудился я, что ли? Пойду-ка я лучше с тобой, чем тут без дела сидеть.
– Чудак-чудачина, мы же не должны привлекать к себе внимания. Посиди часок, клянусь матерью, вернусь скоро… А палит тебя изнутри потому, что много ты про себя воображаешь, а по-настоящему – не-а, не живешь.
Симеон ушел, и Китя с ним вдруг впервые согласился: да, без воображения жизни для него, для Кити, нет. Музыкальное и всякое другое воображение заменяет ему жену и нежность, даже игру на инструменте постепенно заменять стало…
«Но вообще-то мозги наши – темная пещера! Только хороший звук, только сны и видения в оркестровой яме, ну, еще театральные подмостки жизни человеческий мозг время от времени и просветляют!»
Тут Китя вдруг вспомнил вчерашний рассказ про греческий огонь и огонь этот немедленно себе вообразил.
А в реальности было так. Вчера на остановке, где Симеон ждал рейсовый автобус, а Китя упирался и не хотел на автобусе ехать, незаметно подсел к ним старичок с тоненькой орденской планкой на пиджаке.
И сперва они этого орденоносца грубо отшили. Но потом поболтать ему все-таки разрешили: скорбно и муторно в мартовско-апрельской степи по вечерам!
Старичок с орденской планкой и стал – заржавленно, горячо, как тот водопроводный кран, – бурлить: про скифские войны, про мужество и необоримость скифов и про то, что все нынешнее население Донбасса – скифо-христиане, а также скифо-славяне и есть.
Бурление старичково Китю сперва раздражало, особенно про скифов-христиан, дикой глупостью казалось. Но потом вдруг что-то в мозгу Китином щелкнуло и повернулось: а что, если прав старичок? Что-то до христианства ведь было? Может, как раз то внутреннее христианство, еще не осознаваемое, но уже ясно предчувствуемое, о котором старичок и чирикал?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































