Текст книги "Синий цвет вечности"
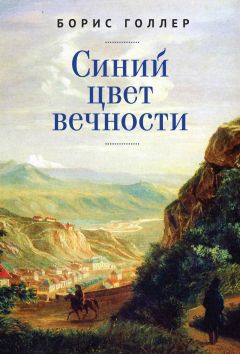
Автор книги: Борис Голлер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Кормили у цыган, надо сказать, отвратительно, но мы утешались песнями и каким-то нездешним весельем перемешанным с нездешней тоской.
Михаилу особенно понравилась Стеша, он даже, после ее пляски, сумасшедшей вовсе, положил свою руку ей на руку, когда она подошла к нашему столику. – Вообще-то, это было не принято вовсе. Но он так сделал. Она осторожно убрала его руку.
– Не надо, Михаил Юрьич! Вы уедете… а что мне делать? Я и петь не смогу!
И еще добавила: – Я цыганка, и чую дороги, по которым нету пути!..
Но все-таки это был роскошный вечер, и Лермонтов уехал почти счастливый. Не знаю, почему. – Может, потому что здесь не надо было ничего решать… а он мучился решеньями…
Вообще, я видел в жизни его счастливым или почти счастливым, только один раз, хотя довольно долго… Месяца три-четыре в конце 39-го года, а в начале 40-го уже все прошло. Но было, это точно и возникло с появлением в столице княгини Марии Щербатовой, урожденной Штерич. Но началось все именно с нее… До того ее в столице мало кто знал, она была из Москвы.
С ее приездом, надменный Петербург, вовсе не страдавший отсутствием в свете красивых женщин, – и где, напротив, с каждой новой весной, выпархивали на сцену все новые примы – 17 лет! до поры лишь готовившие в домашнем кругу свою красоту к выходу, – этот Петербург был озадачен несколько и дружно сказал «Ах!» черноокой панне с Украйны. Скорей, панночке – она была молода. Все разнюхали тотчас, что она вдова, недавно потеряла мужа, да и замужества ее было меньше года, растит сынишку, который болен, и родился уже после смерти отца. Живет с бабушкой Серафимой Ивановной Штерич, которая ей в помощь. Богата пока, но завтра может стать бедна: если потеряет сына, все состояние перейдет назад, в мужнин род князей Щербатовых. (Так полагалось. Похоже, там только и ждут подобного варианта.)
Слыхали, она чуть ли не поклялась никогда больше не выходить замуж.
Она была прекрасна какой-то непривычной красой. Блондинка с золотистым отливом и необыкновенным разрезом и цветом почти миндальных глаз. Талию ее решались сравнивать разве что с талией Эмили Мусиной-Пушкиной, да и то неизвестно в чью пользу шло сравнение, – а глаза застревали в памяти мужчин вне зависимости от того, в кого они были влюблены. Проникали душу, да там и оставались. И было в них что-то в этих очах шелковистое и жалобное… Дивило сочетание молодости и грусти. Если она искала свое будущее, то делала это совсем незаметно.
Эта новая фея и вела себя странно. Не часто мелькала на балах в домах Лавалей или, скажем, Воронцовых-Дашковых, – появлялась, но редко, – зато почти сразу осела в доме Карамзиных на Гагаринской. А что такой красавице делать у Карамзиных? Там, кстати, она и познакомилась с Лермонтовым Эта не совсем обычная женщина смутила Михаила, и вскоре стало понятно: их что-то связало или связывает. Когда он прочел у нее дома, «Демона», она сказала громко: «А мне, лично, ваш «демон» нравится! Я была б готова с ним спуститься на дно морское и полететь на облака!» – Чего тут не понимать. И вообще – где берут таких?
У нее тогда в Петербурге болел сын, в Москве или в Калуге – отец, и порой она меркла на глазах при всей своей красоте. Но на Лермонтова взирала и в самом деле необыкновенно. В обществе они пребывали порой в таком состоянии «публичного одиночества», хорошо известном всем, кто любит или сильно увлечен… и это было так заметно. (Теперь жалею, что было слишком заметно. Когда люди что-то замечают, они стараются это стереть. Так устроен наш грустный мир!)
Ну в общем… я б мало удивился, если б мой друг сказал мне однажды, что решил жениться. (Он ведь тоже давал зарок, и не только мне, неоднократно – не жениться никогда. Во всяком случае, при жизни бабушки.)
Он посвящал ей стихи, которые тогда известны были только избранным… Теперь их знают все: она сама принесла их потом в редакцию Краевского, будучи уже замужем за генералом Лутковским, когда Мишу давно сокрыла могила.
На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла.
Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.
И мне иногда хотелось представить себе, как было б, если б все вышло иначе…
Было ль у них что-нибудь большее душевной близости и увлечения друг другом – сказать не решусь. По стихам, обращенным к ней, кажется, да. Или почти наверняка. В сущности, с замужества Вари, у Михаила не было серьезных романов. А если и были, даже я о них не знал. Мог лишь догадывался, как он о моих. Если я спрашивал иногда, то по ответам Михаила, – он обычно отшучивался, – нельзя было понять: правду говорит или выдумка? Он был так устроен: если хвалится – значит, ничего нет скорей всего. А вот если молчит, прималкивает – вот тогда возможно… «На день по две-по три аристократки сами приходят, и в бордель не хожу, потому как незачем…» – многие помнят и теперь его хвастовство такого рода. (Некоторые даже оценивают его по этому хвастовству.)
Вот, в бордель к Софье Остафьевне, почтенный в Петербурге, он хаживал, как другие, могу подтвердить и рассказывал об этом со вкусом. Я тоже бывал там с ним иногда. Верней, срывался вместе с ним, несмотря на свою, всем известную, но неудачную любовь. Сколько можно ждать, в конце концов, пока по тебе наконец соскучатся и допустят к ложу?
Но я не помню за всю жизнь Михаила таким раскованным и как бы отрешенным от бед… таким насмешливым по-доброму и легким – как в лето и осень 39-го.
И тут возник на пороге де Барант, сын французского посла.
Барон Абамабль Гийом Проспер Брюжьер и прочее, де Барант-старший, – отец-посол был известен в России еще раньше, чем стал послом: он был историк и писатель, и его книги о бургундских герцогах и об истории французской литературы XVIII века были читаны в России. Ему по должности выпала нелегкая задача: примирить две страны после революции 1830-го, о которой император наш государь Николай I отзывался не иначе, как с отвращением. И вовсе не переносил избранного революцией короля – Луи-Филиппа из Орлеанской ветви Бурбонов: считал его выскочкой и королем лавочников и инсургентов. Убийство Пушкина французом Дантесом так же до сих пор играло в нашем обществе некую отторгающую от Франции роль. В общем, на посла пали большие заботы.
Он решил как писатель сближение начать с культуры и обратил внимание на Лермонтова прежде всего. Тут все понятно. За кем числились самые известные и самые беспощадные стихи на смерть Пушкина?.. И эту занозу в отношениях России и Франции следовало вырвать. Посол попросил сперва старого Тургенева (того самого, который хоронил Пушкина) прояснить для него: в своем стихотворении Лермонтов выражал ненависть ко всей французской нации или только к одному Дантесу?
Михаил, по просьбе Александра Тургенева, послал ему копию своего стихотворения, в посольстве убедились, что все относилось больше к Дантесу… Отчего Михаила, на беду, вскоре позвали на вечер во французское посольство и после стали приглашать регулярно. Все было бы хорошо, если б не сын посла – Эрнест. Барант и его жена мечтали видеть сына в будущем советником посольства в России, – хотя отец не смог дать сыну своих талантов, но сумел лишь развратить его своим положением в обществе, нечаянно наделив отпрыска надменностью и дерзостью.
Что касается Марии Щербатовой… как ни тянулась она духом к тихой заводи у Карамзиных, и как ни тяжко было у ней на сердце по домашним обстоятельствам, она все ж бывала на некоторых балах и танцевала на них. И младший Барант, разумеется, приметил ее, да и не приметить было трудно. А потом стал ухаживать за ней – и как настойчиво! (Трубецкой Александр уверял нас с Михаилом, что и у Пушкина все было б в порядке, если б Дантес не был француз. Но у Трубецкого могли быть, напомним, и свои претензии к Дантесу!) И чуть не каждый француз считает, что любая женщина никак – ну, никак! – не может обойтись без него. Назойливая нация.
Так вышло, что я с Мишей – долго не видался тогда. Недели полторы. У меня были свои трудности с Александриной, и его бед я не мог исследить. Когда я снова увидел его – это был совсем другой человек, нежели в последнее время. Он был жёсток, груб, и по мелочам раздражителен. Первый признак!
– Что с тобой? – спросил я.
– А с тобой? – он усмехнулся дьявольской усмешкой, какую отточил себе давно для определенных случаев жизни. К моим делам она тоже подходила.
Двое брошенных или бросаемых, возможно, как раз в данный момент, любовников – мы с ним уединились с трубками и сигарами и проговорили с полночи.
Правда, в тот момент он ничего толком не знал. Ревновал безумно и только. Уже после некие подробности, дали мне слабое, но все-таки представление о происшедшем у него…
Барант не был красив, или неотразим в глазах женщин, как Дантес (будь он проклят!). Но в определенном обаянии ему нельзя отказать – был не лишен изящества. К тому ж, не хочется говорить, но ростом был выше Лермонтова. И грамотность какую-то отец-писатель сумел все-таки в него вложить, про душу ничего сказать не могу. Может, была, может, не было. Но Марии он все-таки понравился чем-то. Она выработала (я потом узнал) для себя некую формулу, в отношении него, коей поделилась потом с подругой в письме, а подруга, в свой час – со мной…
«…В моем возрасте и с моим характером, я поверила, как верят все сумасшедшие, что дружба между мужчинами и женщинами возможна. Все зло проистекало из этого безумного предположения, и в самом деле немного экзальтированного…» Правда… Может существовать дружба меж мужчиной и женщиной? Иные говорят, что да. Она уверила себя, что может. Ей показалось. И это нисколько не мешало (ей думалось) отношению ее к Лермонтову. Почему не дать шанса и другому поклоннику? Хотя бы по видимости? Часть времени на бале уделяя ему. Иногда выбирать его в танце. И чуточку, хоть невольно – но кружить ему голову, а для чего еще существуют бедные головы мужчин?
Поначалу Михаил, впрочем, как Барант-младший, мирился невольно с таким соперничеством. – Светские люди все ж! Если упоминали соперника, то почтительно, хотя с плохо скрытым раздражением говорилось: «ваш поэт», «ваш дипломат»! – Но в таком случае всегда будет момент, когда сорвется. И сани ринутся с горы с бешеной быстротой, переворачиваясь на ходу.
Однажды они оба столкнулись в обществе в споре… о чем? ну да! о дуэли Пушкина! О чем еще могли спорить русский с французом в конце 39-го или в начале 40-го года, если они ненавидели друг друга и задыхались ревностью? И это было, конечно, при дамах. И при той самой даме, которой оба хотели нравиться.
И Барант произнес коронную фразу, которую в русском в обществе прежде тоже можно было слышать не раз, но потом перестали так говорить. (Пушкин посмертно входил в моду.)
– У Дантеса не было иного выхода. Пушкин не оставил ему выхода!..
– Согласен! – сказал Лермонтов, – с чарующей улыбкой. (За одну улыбку можно пристрелить!)
– Согласен! Он и никому не оставил выхода. Нам всем в том числе! И, если б вашего Дантеса, на его счастье, не выслали из России… десять наших офицеров, по меньшей мере, заняли б очередь, чтоб вызвать его на дуэль. И третий уж точно убил бы его. Может, даже второй!.. – И это все с той же победительной улыбкой.
– Мы – бедная страна. Но мы дорожим своими сокровищами!
Это было в лоб. Наотмашь. Бесстрашно, как пощечина. Мария, кажется даже, отвела Баранта в сторону. Пытаясь успокоить. До развязки оставалось совсем немного.
В середине февраля 40-го года мы были на балу у графини Лаваль. Ее именины. В том знаменитом доме у Сенатской площади, откуда уводили некогда (нам казалось) Трубецкого Сергея, – не нашего приятеля, а не состоявшегося вождя не удавшегося бунта, и откуда его верная жена отправилась в Сибирь за ним. В остальном, все осталось здесь по-прежнему: ослепительный свет и танцующий мир.
Михаил вдруг вынырнул из толпы и подошел ко мне: – Ты будешь моим секундантом?
Я не удержался: – Как? Уже все? – А потом спросил: – Кто вызвал кого?
– Он меня!
Явно тянулся след того самого разговора о дуэли Пушкина. Сказал ли Михаил потом, в самом деле, что-то неблагосклонное кому-то в адрес Баранта? Не сказал? Кто-то передал или сам придумал? Не знаю. Барант спросил Лермонтова на балу, правда ли это? Михаил отрицал. Наговорили колкостей. Вообще-то у Михаила не было в обычае нести кого-то, даже врагов, за глаза… Вот в глаза и в присутствии лица поддеть жесткой шуткой – пожалуйста.
В итоге, у них вышел такой разговор:
– Если б я был в своем отечестве, я знал бы, чем кончить дело! – бросил с вызовом один (француз).
А русский ответил естественно: – Ошибаетесь! У нас, в России столь же ревнивы к вопросам чести! И мы меньше других даем оскорблять себя безнаказанно!
Когда я приехал к Баранту уже секундантом дуэли, он был зол и даже не вежлив толком. О примирении не хотел говорить. Потребовал дуэли только на шпагах. Я сказал, что мой доверитель может и не владеть шпагой в достаточной мере.
– Как так офицер может не владеть своим оружием?
– Он офицер кавалерии. Его оружие – сабля. Хотите на саблях? – спросил я насмешливо. Он не хотел, конечно. Остановились – на шпагах сперва, а потом на пистолетах. Крутая дуэль. Двойная, в сущности.
Все было за Черной речкой у Парголовской дороги… Очень близко от места дуэли Пушкина. Воистину, история Пушкина шла за Лермонтовым как некий фатум. «Фаталитет», как говорили тогда.
Шпагой Барант слегка царапнул моего друга в грудь. А шпага Лермонтова сломалась почти тотчас. Тогда взялись за пистолеты, я предупредил:
– Похоже, он настроен серьезно! Он будет целить!..
– Может быть… – повел плечом Михаил, и демонстративно отвернул пистолет, так, чтоб он смотрел неизвестно куда. Явно метить в Баранта он не собирался.
Барант выстрелил по нему, хотя, казалось, и он не слишком целился. Лермонтов выстрелил на «воздух», как говорили тогда.
Щербатова, узнав о дуэли, почти тотчас покинула Петербург, хоть у нее здесь погибал сын. Его пришлось хоронить уже одной бабке Штерич – в начале марта. Бедная бабка! А свет странен всегда!
Осталось ждать, когда про дуэль узнает начальство. Оно узнало – не так скоро, недели через две, но узнало, и причиной была, опять же, расхожая болтовня.
Винили Терезу Бахерахт, жену секретаря нашего консульства в Гамбурге. Она была красавица, но болтушка. Она порой покидала мужа, чтоб вдоволь натанцеваться в Петербурге. (Бедная женщина теперь плакала: ей так хотелось еще потанцевать, а надо срочно возвращаться к скучному мужу!) К ней все подходили с сожалениями об ее отъезде. Даже Вяземский подходил утешать…
Про дуэль Лермонтова с Барантом он высказывался, скорей, недоброжелательно, сам слышал:
– Нет-нет! Не убедите меня! Здесь, скорей, разыгрывают карту патриотизма.
– Хотел проучить француза? Ну вот, проучил. И сам пострадал! К дуэли Пушкина это не имеет отношения!.. – Это тот, кто говорил когда-то о «скользком месте» – петербургском свете и валялся в обмороке на ступенях Конюшенной церкви, когда отпевали Пушкина.
Ну, дальше… Лермонтова арестовали и отдали под суд, чуть погодя, меня тоже. Правда, об этом просил я сам: написал письмо к Бенкендорфу, что я должен быть призван к ответу как участник. Суд над Лермонтовым длился долго. Его в итоге вновь выслали на Кавказ – тем же чином. Только теперь армейским. А Барант-отец вовремя услал сынка во Францию. Его даже не допросили.
Когда Михаил был освобожден от ареста и зашел ко мне в гости, (он несколько дней еще пробыл дома – до отъезда) он случайно остановился у моего стола и стал что-то читать и вдруг… стал безумно хохотать, как с ним бывало. Какой-то пароксизм. Конвульсии. Я спросил, что так развеселило его?
Он взял со стола какую-то бумагу и пошел зачитывать вслух. Тут и мне было не удержаться от смеха. Это был черновик моего письма к Бенкендорфу:
«Несколько времени пред тем, Л-Гв. Гусарского полка Поручик Лермонтов имел дуэль с сыном французского посланника барона де Баранта. К крайнему прискорбию моему, он пригласил меня, как родственника своего, быть при том секундантом. Находя неприличным для чести офицера отказаться, я был в необходимости принять это приглашение…» (Он пропустил часть письма.)
«… может, и вы граф по доброте души своей умалчиваете о моей вине. Терзаясь затем мыслью, что Лермонтов будет наказан, а я, разделявший его проступок, буду предоставлен угрызениям своей совести – спешу по долгу русского дворянина принести вашему Сиятельству мою повинную. Участь мою я осмеливаюсь предать Вашему, граф, великодушию.»
На последней фразе он даже поднял указательный палец вверх. Читал он, надо признать, блестяще!
– До чего же нас научили, а? Как нас научили! Илоты, а не спартанцы! – и смеялся снова.
Что касается княгини Щербатовой… Еще один эпизод все ж следует досказать. Его поведал мне наш с Михаилом соученик по юнкерской школе – Горожанский. Он дежурил по случаю на Арсенальной гауптвахте, когда Лермонтов сидел там под арестом за дуэль, и его навестила Щербатова. Она приезжала на несколько дней посетить могилу сына. Михаил попросил Горожанского помочь ему встретиться с одной дамой, и тот помог, естественно, как не помочь! – товарищ, однокашник, у нас это дорого стоило, – удалился на полчаса, как раз к ее приходу… Но когда вернулся, видел, как они прощались. И убеждал меня, просто клялся-божился, что он видел: вовсе не Барант победил в сердце дамы. Победителем был Лермонтов. Тут не ошибешься! (так он говорил). – Она уходила плача, и такая красивая! Но Лермонтов не вышел даже к дверям ее проводить. Это было тоже вполне откровенно. Правда, – добавил Горожанский, – хорошо, что не вышел. Почти следом нагрянула проверка.
То, что известно мне самому… Михаил виделся с ней еще раз в Москве, тогда же, в 40-м, когда проезжал на Кавказ. Говорили они о чем-нибудь, не говорили? – не знаю.
Больше он никогда не упоминал ее имени. Даже просто в беседе.
Если хотите знать, как подлинное имя судьбы Лермонтова, то это – Эрнест де Барант, французский подданный и сын посла Луи-Филиппа. Ну, были еще имена, конечно: граф Бенкендорф, генерал Клейнмихель… А Мартынов – это так, последний аккорд. Точка в судьбе. Даже страшно говорить, насколько нелепо…
Теперь вот, в Париже, лежа в постели с Бреданс, я спросил ее: – А правду говорят, что французские мужчины слишком самоуверенны?
– Может быть, – ответила она. А почему им не быть самоуверенными? Их женщины – самые красивые! – Она, как раз в тот момент, занялась разглаживанием отворотов моего халата, который был брошен у постели на кресло. Свесилась с постели задом ко мне и разглаживала. С нежностью. Не меня, а мой халат, бывает такое… И не только с ней.
И так вот, свесившись с постели, и, занятая халатом, добавила: – А правда то, что вы, русские… с вами хорошо, вы добры к нам. Это все наши женщины знают!
– Чем это мы так добры?
–. Не знаю. Вот, ты, например, добр ко мне!
Я рассмеялся легко и привел ей пословицу: – У нас есть такая присказка! – Простота хуже воровства. Не слышала? Но и доброта, я думаю, хуже. Доброта грех. И, вообще, она наказуема.
– Почему это – грех? – спросила она.
Не поняла. Ибо была француженка.
VII
С Лихаревым Лермонтов дружил, хотя и недолго…
Тот был женат (раньше), и женой его была известная, почему-то не только в Украйне, где она жила, красавица – Катя Бороздина, дочь сенатора и генерал-лейтенанта. Отец сам присоветовал ей в женихи Лихарева, ибо его категорически не устраивал избранный ею самой жених: Михаил Бестужев-Рюмин. Был уж слишком мятущийся в жизни человек (казалось отцу), слишком несдержанный, неспокойный – хоть и принадлежал к почтенной московской семье. Этакий Чацкий – сенатор был достаточно образован, чтоб знать это имя, хотя он от Бестужева не ожидал, признаться, ничего более разрушительного, чем от Чацкого. Он просто выбирал для дочери более спокойного мужа, но «спокойного» тоже арестовали – и даже раньше, чем прежнего избранника: 29 декабря, вместе с мужем другой дочки сенатора – Иосифом Поджио. (Так повезло семье!) Первый жених красавицы еще болтался по полкам Второй армии в неистовстве события, надеясь хоть кого-то из соратников уговорить действовать, они ведь обещали! – но все устранялись, устранялись, устранялись (что им не помогло в итоге). Бестужева-Рюмина взяли только третьего января, с оружием в руках при разгроме несчастного батальона Черниговского полка под Трилесами. Как говорил Гейне: о своей поэме «Атта-Троль»: «с ней произошло то же, что со всеми великими творениями немцев: она осталась неоконченной». Так и русская революция декабря.
Жена Лихарева развелась с ним несколько лет назад и вышла замуж в Крыму за какого-то Шостака. Лихарев часто повторял это имя и видно было, что оно ему дается с трудом. Остался сын, по которому Лихарев очень тосковал, хоть никогда его не видел. Сын родился уже после ареста отца Лихарева приговорили к каторге (только на один год), а потом на поселение. В Сибирь, как некоторые другие жены, Катя не поехала. Она попыталась еще вызволить мужа слезным письмом на имя государя с просьбой отправить его рядовым на Кавказ, – надеясь, верно, там свидеться с ним или даже быть с ним вместе, но получила отказ… Его пустили на Кавказ лишь тогда, когда шло уже дело о разводе. Прощение ему будет объявлено лишь вскоре после его гибели.
Лихарев жалел жену, оправдывал ее и понимал. Что ей было делать, десять лет без мужа?! – и надо же воспитывать сына. Лермонтов оправдывать ее не хотел и про себя винил. Но как писателя эта женщина – красавица, дочь генерала и сенатора, оказавшаяся случайно по воле судеб меж двумя мятежниками: одним, вообще, «вне разрядов», присужденным к повешению, и другим – отправленным на каторгу по VII-му разряду – привлекала его. Как образ – чуть не архетип эпохи. (Только не скажу – употреблял ли Лермонтов такое слово!)
Столыпин прав: они со Щербатовой, и правда, повидались в Москве, когда он ехал на Кавказ после дуэли. Он остановился у четвероюродной тетки своей Дмитриевой-Мамоновой, Марии Александровны. (Если уж выбирать родственников – то лучше более дальних. Меньше вопросов задают!) В Москве он надеялся застрять хоть ненадолго и повидаться с друзьями. Здесь не было Клейнмихеля, чтоб так уж торопить его. Тетка жила на Воробьевых горах… Тут его и нашла записка Щербатовой.
Москва еще не была такой большой, и слухи о чьем-то приезде или отъезде быстро распространялись.
Дама просила о встрече. Как тут отказать? Хоть был уверен, разумеется, что всё – пустое.
Он навестил ее – она тоже остановилась у родственников, – возможно, чтобы встретиться с ним без лишних свидетелей. Она куталась в шаль, дома было прохладно, но не настолько. Ее, верно, знобило.
– Простите! – сказала она, – за этот вид. Я неважно себя чувствую! – И затянула платок на плечах. Она часто повторяла слово «простите!» – как всякий человек, в данный момент неуверенный в себе. Он попросил разрешения выкурить пахитоску.
– Ой, пожалуйста! – Курите, разумеется! – Не стала звать прислугу и сама принесла пепельницу.
– Ваша бабушка, конечно, ненавидит меня?
– Господи! За что ей ненавидеть вас, не скажете?
– А кого ей? Не Баранта ж? Женщина виною всегда.
– Если ей кого ненавидеть – то меня. Это – такая форма любви! Не слышали? Я привык! Я у нее неудачный внук. Однажды смирилась со своим страданием, а теперь бунтует.
Мария примолкла. На нее было жалко смотреть.
– Если б я знала, что все кончится так…
– В жизни все кончается так или подобно тому! Надо привыкать! – Он улыбнулся, почти бесшабашно. Было что-то наставительное в его тоне. – Онегин с Татьяной. «Когда в саду, в аллее нас / Судьба свела, и как смиренно…» Хотя и ему было тяжело.
– Вы думаете, что вы знаете женщин? Кроме тех, изобретенных вами самим?
– Что вы! Знать женщину… Это все равно, что польститься понять смысл жизни.
– Я сейчас все объясню! – Я с самого начала сказала Эрнесту, что занята. Что душа моя полна и не им. Но если ему хочется просто побыть рядом и ни на что не рассчитывая… Ну да, я привлекательна почему-то. Вот, все. Женщине иногда нужно ощутить чье-то внимание. Чтоб убедиться хотя бы, что любит другого.
– И почему он вызвал вас на дуэль? Кто-то передал ваши слова? Были ль вы неосторожны?
– Я ничего о нем не говорил дурного, клянусь. И хорошего – не говорил, что правда – то правда. Я просто им не занимался… Но… вы помните спор о дуэли Пушкина!
Ваш дипломат прекрасно знал, что, если что случится… он удерет в Париж к своему королю под зонтик. А расхлебывать все придется здешнему. Мне! Очень верный расчет!..
В России почему-то портреты французского короля с зонтиком подмышкой вызывали у аристократов насмешку.
– Это вы сами попросились опять на Кавказ?
– Нет, что вы! попросили меня. Личная просьба генерала Клейнмихеля – или еще кого, не знаю! Я отказать не мог!
А барон де Барант-младший… Не бойтесь, он скоро вернется!
– Не понимаю, все-таки! почему все свалили на вас? И вызов шел не от вас, и кончилось все благополучно. Что за нелепость?
– Я вам не рассказывал тогда, на гауптвахте. Ваш друг… Но и сейчас – не стоит, пожалуй!
Но оказалось, она что-то знала. – Про то, что Барант прибег к помощи матушки. И что матушка его бегала к Нессельроде.
– Мне это поставили в вину более всего! – все-таки признался он.
– Вы хотите сказать… (Она могла продолжить: – Что я испортила себе жизнь из-за подлеца? Но она была светская дама. И не продолжила.)
– Папенька-посол что-то не довершил с его воспитанием. Но теперь уж поздно, я думаю!
Она молчала. Куталась в платок. На глазах выступили слезы. Она сперва их скрывала, пыталась скрыть, потом перестала скрывать.
– Вам очень нравится меня бить? – спросила она после паузы, жалобно.
– Что вы? И кто ж посмеет? Я говорю правду. Чтоб скорей покончить со всем и начать теплые мирные разговоры. А жизнь – она, вообще, достаточно неприятна!
– Но вы же сами писали… «Полюбит не сразу. Зато не разлюбит уж даром!» – про меня, между прочим! А теперь не верите?
Он молчал. Часы тикали в комнате. Долго и бессмысленно тикали часы.
– А что, если я попрошу прощения?
– Прощения? Что вы? зачем? Не надо! Это такое тяжкое слово! Его не выдержит никакая любовь!
Больше они никогда не виделись.
10 мая того года, когда Лермонтов был еще в Москве, Александр Иванович Тургенев записал в своем суматошном дневнике, где события только обозначаются. Без подробностей.
«Лермонтов и Гоголь. До двух часов. Был у кн. Щербатовой. «Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова.»
VIII
Именины Гоголя 40-го года отмечали на праздник Николы Вешнего. Ну, понятно, Гоголь – Николай. И были все в доме Погодина – писателя и издателя. После застолья, которое проходило в саду, где стоял очень длинный стол, – и общего разговора, сумбурного и возвышенного, как все беседы литераторов, не только русских – на какое-то время все разбрелись группами по саду.
И Гоголь по собственному почину уединился с Лермонтовым. Это была в их жизни единственная такая встреча и такой разговор. Встретились два одиночества русской культуры – может, самых больных, самых одиноких!
– Слышно страшное в судьбе наших поэтов! – начал вдруг Гоголь, – и кто еще найдет такие слова, такое соединение, такую музыку слов? Не было такой, да, верно, и не будет. «Слышно страшное…» Лермонтов даже поежился. Он любил язык, и знал его тайны, и был потрясен по-настоящему. Фраза вылетела как бы сама собой.
– Господи! Сон в летнюю ночь. И лучше не просыпаться! Ну, Грибоедов погиб, хоть защищая свою страну как посланник… Но… И он восхотел успеха, карьеры: полномочный министр в Персии. И разве это лучше «Горя от ума»? А Пушкин… та же тяга к свету, что, простите, у вас! И чем кончилось? Дантес – победитель! И сколько людей у нас еще оправдывало Дантеса? Кошмар! Вы – Лермонтов, и этим все сказано. Никто еще не писал у нас такой правильной, такой благоуханной прозой. В вас зреет новый великий описатель русского быта. Так пишите! И бегите от них!..
– Но я не хочу быть вовсе описателем русского быта. Раньше не хотел и нынче не хочу! – сказал Лермонтов, несколько растерянный. Меня быт не волнует, знаете!.. Я такой получился.
– А что вас волнует, простите? – спросил Гоголь даже с некоторым подозрением.
– Не знаю… Наверное… История души человеческой. История душ. Интереснее и полезнее истории целого народа.
– Да и вы не описатель быта вовсе! – сказал он Гоголю. – Вам кажется. Или вас так понимают! Неправильно, я думаю. Или кому-то хочется, чтоб вы были таким! Может, вы будете от этого страдать. Нам ведь всем хочется, чтобы нас понимали, мы стремимся к этому.
– А кто же я по вашему тогда? – вопросил Гоголь растерянно.
– Не знаю. Поэт, наверное. Только у вас поэзия другая. И похожа на прозу. Прозатор, как говорит Хомяков.
– А разве есть такое слово? – удивился Гоголь.
– У Хомякова есть!
– Поэт… – вдруг свернул в сторону Гоголь. – Да, поэт. И «Мертвые души» – поэма. Правда! Хотя… Я бросил когда-то писать стихи, а первую книжку сжег! «Ганц Кюхельгартен» – вам не попадалась такая? И слава Богу! Собрал по магазинам у книгопродавцев и сжег.
Но после вернулся к своим мыслям, и… – Вы слабо верите в себя, Михаил Юрьевич, простите за такой вывод!.. Не так верите в себя. Это плохо, плохо! Вы должны верить. Вы слишком разочарованы. Или погружены в безочарованье. Хорошее слово? Жуковский придумал! Что вам этот свет? Бегите от него. Бегите от них! Бегите! Они, может, поймут когда-нибудь, что мы с вами были выше их. Что мы больше в цене по ангельскому счету. А их низменный счет оставьте им!
– Что-то наши гении сцепились языками. Никак не оторвать друг от друга! – сказал Погодин, издали наблюдая эту сцену.
– О ком вы? – спросил Вяземский в искреннем недоуменье.
– Как? Гоголь, Лермонтов…
– Ну, Гоголь, еще куда ни шло, но Лермонтов? Это вы переборщили.
– Вы недооцениваете его, – вмешался Хомяков. Это ваши столичные штучки. – Он шутливо погрозил пальцем. – Вам дай только кого-нибудь не признать! Тем более, он москвич коренной, а вы москвичей не любите. Недавно говорил о нем с Плетневым. Так и пышет неприятием. Что он сделал ему?
– А то, что он строит из себя Пушкина. Подражает ему. Он даже с французом сцепился, чтоб подчеркнуть это сходство – уверяю вас! Хотел произвести впечатление? Нет, друзья мои! Пушкин был один. Замены не будет! – Увольте!
– Ну, вы уж камня на камне готовы не оставить!
В тот момент, поодаль, от них в разговоре, Лермонтов говорил Гоголю…
– У вас есть повесть в «Арабесках». Я давно мечтал написать по ней что-то вроде палимпсеста. Сделать текст по тексту. Но другой…
– Вы имеете в виду?..
– Разумеется, «Портрет»!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































