Текст книги "Синий цвет вечности"
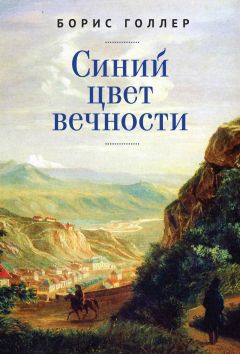
Автор книги: Борис Голлер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Гоголь замялся.
– Вы не должны повторить судьбу Пушкина! – сказал он вдруг. – Вы не имеете право так… – На вас положены надежды! Многих!
Потом Лермонтов читал за столом отрывок из «Мцыри». Большой отрывок. Бой с барсом.
Ко мне он кинулся на грудь,
Но в горло я успел воткнуть,
И там два раза повернуть
Мое оружье… он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом – и во мгле
Бой продолжался на земле…
– Ну? Что скажете, князь? – спросил шепотом Хомяков не без вызова.
– М-м… Пожалуй. Пожалуй!.. – согласился слабо Вяземский.
А Лермонтов дочитывал уже:
…Но с торжествующим врагом,
Он встретил смерть лицо к лицу,
Как в битве следует бойцу.
И все аплодировали горячо – весь стол в саду. Особенно старался стареющий господин генеральского росту и виду, но в статском. Его полированная, крупная лысина – блестела потом, он раскраснелся и отирал ее платком, словно, это он сам читал только что стихи и утомился… Это был Михаил Федорович Орлов, некогда любимец императора Александра, принявший от Наполеона капитуляцию Парижа. Бывший начальник знаменитой 16-й дивизии, первой в русской армии, где были отменены телесные наказания и открыты ланкастерские школы для солдат (пока его не сняли с дивизии, разумеется!)… Друг Пестеля, Сергея Муравьева – и Пушкина, кстати! – лишь случайно оставшийся в стороне от своего века, будто на обочине собственной жизни.
Под конец вечера пришел Чаадаев. Именины Гоголя? Погодин, Чаадаев, Орлов, Лермонтов, Вяземский, Тургенев, Аксаков… «Западные» и «восточные» – как звал их Гоголь. Но все еще вместе пока. Спорят, но вместе! И связь еще не прервалась… (Какое было б счастье, если б она не порвалась вовсе!)
«Видел в Москве руссомана Лермонтова» – напишет западник Вигель в письме об этом вечере.
А кто он был, в самом деле? «Западный» или «восточный»? – Лермонтов? Он и сам не знал.
IX
Он еще дней пять метался по Москве, взвихренный, одинокий… К ней он больше не пошел, конечно. Зачем? Хотя сам видел ее в слезах и почти с мольбой о прощении. Он вырвал этот листок из своей записной книжки. – Существовала ли теперь сама эта книжка (то есть, он сам) он не знал. Он умел так отодвигать людей и судьбы, снимать фигуры с доски, как в шахматах, словно не было, – а чего это стоило ему никто не знал, да и, кажется, никто не спрашивал. Он посещал дома, в которых был случайностью, и которые в другую пору его бы вряд ли дождались.
Как оказался вдруг у Александра Тургенева? – Впрочем, тот принял сердечно.
Их что-то связывало. – Опять же Пушкин… А теперь и де Баранты (будь они прокляты!).
– Мне очень жаль, что я вас познакомил с ними! – сказал Александр Иванович, и видно было по нему, что ему, правда, жаль. – Теперь в обществе многие винят меня, что я вас свел… Но посол так просил об этом! И кто бы знал! По-моему, вы казались ему вождем антифранцузской партии в Петербурге – после ваших стихов!..
Лермонтов улыбнулся, не слишком весело…
– Я и партия – любая, знаете… это нечто несовместное!
– Может быть, может быть… – и решился все ж спросить:
– Вы видели уже нашу общую знакомую? – это было вежливо. Мария Щербатова, словно, объединяла их. Знакомство с ней.
– Да так… на ходу!
– Я тоже видел ее, – и она не показалась мне в лучшем виде. – Но не стал длить откровенностей. Он был воспитанный человек.
Помолчали степенно.
– Вон Вяземский даже напустился на меня за вас! за то, что представил вас Барантам. Я объяснялся с ним по этому поводу.
– И что, он считает, по-прежнему, что это я вызвал на дуэль Баранта? из подражания Пушкину.? Хотя… ничто так не мешает мне сегодня в судьбе, как эта история!
– Он изменился, не спорю. Может, ревнует вас к вашей молодой славе. Мы, старики, в этом смысле – опасный народ! Нам бы только приревновать! К молодости! – Он помедлил, долго медлил, явно не решался. Но потом сказал:
– А что касается того, о чем мы молчим… или вдруг замолчали… может, не стоило так строго? Хотя… возможно, говорю так, потому что сам – старый холостяк!
Лермонтов заехал даже к Вигелю. Вот уж точно, кого не собирался навещать. Михаил недолюбливал Вигеля за слишком явное бугрство – вечно его видели с молодыми любовниками. Но встреча у Гоголя давеча расположила его к Вигелю…
Он-то сам не был ханжой в привычном смысле, но в мире, где и так не продохнуть от отрицательных эмоций… Однако как-то, у Карамзиных, он случайно попал на слушанье: Вигель читал отрывки из своих мемуаров, и Михаил невольно восхитился: пред ним был писатель – и настоящий – у нас (он считал) вообще мало кто пишет такую сочную прозу – уровень!.. Уровнем для Лермонтова всегда было царствие русского языка.
Старик всерьез обрадовался ему. – Вы, будто, задержались в Москве? – отметил он – что-то знает, конечно, кормится слухами!
Лермонтов признался вполне искренне:
– Да, Вы знаете – не могу оторваться. Петербург – не мой город, я это понял с первого знакомства. Вот, брошу службу, выйду в отставку… поселюсь в Москве. Буду издавать журнал. И позову вас с вашими мемуарами.
– Понравилось тогда? – не выдержал Вигель, спросил неуверенно.
– Да. Вы – настоящий прозаик. А нынче нужна проза. Вот такая: спокойная, твердая, стройная, охватывающая разные стороны бытия. И, главное, психологическая.
– Спасибо на добром слове. Сознаю, что слышу это от большого писателя. От очень большого писателя. И радуюсь про себя.
– Хотите в Москву? Здесь много руссоманов. Будет еще Лермонтов. Только здесь вы пробудете недолго.
– Почему?
– Вас уже отравил Петербург!
Неожиданно и здесь зашла речь о его отношениях с «пушкинистами». То есть, с бывшим «пушкинским кругом».
– И это вам странно? – рассмеялся Вигель. – Вот и видно, что вы еще совсем молодой человек! Тут все – так на поверхности! Что вас удивляет? – Вяземский и о Пушкине высказывается в последнее время несколько странно, я бы так сказал. Верно, подводит итоги собственной жизни и недоволен ею.
Помолчал и продолжил:
– Пушкинский круг! – Да, конечно, но они ж – поэты! Они прожили свою жизнь при Пушкине, в свете его побед, при постоянном существовании его в сознании. Они привыкли, что есть кто-то выше их, кого не обогнать, почти смирились с тем. Но вдруг его не стало. Естественно, они получили травму, потом ожили. Они поняли, что остаются они. Плоть и кровь русской музы! И тут является некто – чертик из табакерки. Незнакомый, чужой – да еще в мундире лейб-гусарского полка, а потом армейского – к тому же решительный, резкий, неудобный. Хуже того, он присваивает себе часть славы Пушкина стихами на смерть их кумира. Грибоедов бы принял ваше появление. Пушкин обрадовался бы вам, – он всегда радел новым талантам, – у него не было страха, что его обгонят. Жуковский ценит вас, я знаю, оттого, что и сам понимает свое значение. А для всех других вы чужды. И они захотят убедить себя, что вы – случайное явленье! Простите!
X
Что сближает людей, что их разделяет? – эту вечную загадку странника меж душ человеческих он решал всю жизнь свою (короткую), да так и не решил, наверное. – и она оставалась загадкой для него, как сами эти души.
Уйдя от Мари Щербатовой, почти отряхнув от себя, эту любовь, – он, как в истории с Варей Лопухиной, считал себя обиженным, и был уверен, что это она его бросила.
В один из последних дней в Москве, в 40-м году, он еще заглянул к Мартыновым… Двое братьев – Михаил и Николай были его однокашниками по юнкерской школе. Старший был с его курса, и у них были общие похождения с самыми неутомимыми беззаконниками, вроде Лафы (Поливанова) и Костьки (Булгакова). Младший брат – Николай, был курсом ниже, вел себя скромней, зато писал стихи – как он сам, как Вонлярлярский. Стихи были неважные, но все равно, это с Михаилом связывало. Вообще семью Мартыновых он знал еще с отрочества, со Средникова – у них было имение неподалеку, потом Кавказ – семейство ездило в Пятигорск и в Кисловодск, на воды, в 37-м, когда болел их отец, он там тоже был… Провождал свою, не слишком обременительную первую ссылку.
В семье было четверо сестер, но двое уже замужем, а двое свободны, и Лермонтов им нравился – в особенности, Наталье. Хотя это имя его смущало: не хватало только, чтоб и его жена превратилась в Натали. «Есть на земле такие превращенья / Правлений, климатов и нравов, и умов…» – по Грибоедову. Но сама барышня ему вроде нравилась. Она была умна, насмешлива, немного со злинкой… но это, как раз, приходилось ему по душе. Красотой ее Господь не обидел. К тому же у них было больше общих разговоров – так вышло. Мать в доме наблюдала за их общением несколько ревниво или даже с неприязнью: в качестве будущего зятя он ей явно не подходил, а вот покойный отец Мартыновых к нему был расположен вроде…
Но сейчас мать в доме занимал гость: им был тот же Александр Иванович Тургенев. Лермонтов удивился немного ему в этом доме: слишком из разных рядов шли эти знакомства, но оказалось, что Тургенев был другом их покойного отца. Тургенев тоже смутился, встретив его в обществе девиц Мартыновых. (Только что, в сущности, говорили о Щербатовой!) – Да, таков наш мир. И все меняется в нем, и нет ничего постоянного… В общем… «Недаром я – холостяк!»
Когда младшая. Юлия занялась другими гостями – а дом не был обижен безразличием сильного пола, – Наталья осталась с Лермонтовым и могла пококетничать немного. Ему льстило ее кокетство – а его внимание льстило ей.
– Про Михаила не спрашиваю – только что видел в Петербурге. А Николай? Добился ль уже повышения? Вообще, как его дела?
– Не пойму. Не знаю. По-моему, ходит по вашим дорогам, пытаясь найти ваши следы или попасть в ваш след!
– А на что ему мои следы?
– Хочет научиться писать стихи так же удачно, как вы. Не получается!
– А-а, понимаю. Я сам бы хотел писать стихи, как Пушкин или как Гейне у немцев. Да вот не получается.
– Но он старается, правда. И… это между нами… Он написал что-то о декабристах! Я еще не видела. Но я волнуюсь за него.
– Тогда… Он, и вправду, зря уехал из Петербурга. Там каждый день, гуляя, можно видеть Петропавловскую крепость. Это очень успокаивает!
Ее глаза не были слишком большими или слишком пылкими. Но была в них насмешка и немного печали. Она говорила о брате, но пыталась в словах приблизиться к нему.
– Только я успела подумать, что вы приедете в Москву и поухаживаете за мной, наконец – и вас опять уносит куда-то! Что вам там делать? Искать славы?
– Нет, прощения за грехи и великодушной отставки!
– Как скучно! Я и Николя не одобряю. Что сорвался с места и поехал туда добывать чины. Зачем? Говорят, ведем мы там войну ужасно. Бедные горцы. Они гибнут, мы гибнем!.. И последние слухи, что там сплошь неудачи у нас. Будь какая-то настоящая война…
– А эта, по-вашему – ненастоящая?
– Настоящая была, когда Москва горела!
– Ну, вас хотя бы ссылают за грехи… хотя, какой грех? Я все слыхала. Да и Александр Иванович нам рассказывал. Подлец этот француз. Никогда не вышла б замуж за француза! (Ее фамилия в замужестве будет де-ля Турдонне.) Но вас-то посылают силком, а брат сам ринулся за чинами. Видали генерала от инфантерии?.. Только maman страдает за него, и мы все.
– Вы отказываете мужчинам в праве на честолюбие?
– Я отказываю всем в праве на растрату своей единственной жизни. Дано Богом!
Она была младше его лет на пять. И это было почти другое поколение. Чуть свободней прежних, чуть смелей… (он это чувствовал.) Нет, определенно свободней. Эти позволяют себе шутить тем, чем раньше, вроде, не полагалось.
– Я так понимаю, что мне пока не стоит ждать предложения от вас? – сказала она, стараясь удержать тон шутливый.
– Пока нет. А как мне быть? Я – порядочный человек! Я еду на войну. А если убьют?
– Значит, я могу принимать другие предложения? Как скучно!
Когда он уходил, она проводила его до лестницы. Все ж ему было грустно, ей тоже. Они довольно долго смотрели друг на друга. Потом неожиданно для себя он расхохотался и не то, что сбежал – скатился вниз по лестнице. С хохотом. И, конечно, ее обидел. И, конечно, не мог объяснить себе, почему поступил так.
Оставивший только что Марию Щербатову, он едва не сделал предложения сестре Мартынова. Которую, случись и правда их семья, звали б все-таки Натали!
Старый Александр Тургенев записал в тот вечер и о ней: «…в Наталье Мартыновой что-то милое и ласковое для меня»…
XI
В конце мая 1840, – ну, где уж дольше тянуть? – он выехал наконец, из Москвы к своему Тенгинскому полку с подорожной до Тифлиса, где стоял полк. С ним пустился в путь Реми, приятель и однополчанин по Лейб-Гусарскому, которого теперь повысили в чине (подполковник) при переводе в армию – он стал офицером по особым поручениям при начальнике Штаба войска Донского. А в начальниках состоял знакомый им с Лермонтовым генерал Хомутов, бывший их полковой командир. Реми направлялся к нему в Новочеркасск.
С Реми они были близки, в том числе, и по салону Карамзиных. Летом брали вместе участие в «каруселях» в манеже и любительских спектаклях на воздухе, которые затевала неутомимая Софи Карамзина. Однажды Лермонтов готовил роль ревнивого мужа Бурдевиля во французском водевиле «Модные мужья», долго к ней готовился, но перед самой премьерой великий князь Михаил отправил его на гауптвахту на месяц. (За появление на плацу с игрушечной саблей. Он сам не знал, откуда в нем это бралось! «Таков мальчик уродился!», как говорили знакомые.) Реми пришлось его заменить, а он совсем не умел играть и очень волновался. У них было много общих воспоминаний.
Михаил порой мысленно корил себя, что сорвался некогда с поэтического древа, с высокой мачты своей детской мечты – и бухнулся в открытое море человеческого честолюбия, каким являлась юнкерская школа, а после вообще, офицерская среда. Однообразие и, вместе, разнообразие. Довольно грубое. На глазах, в школе, происходило единение самых разнообразных особей, и их столь же четкое разделение, распад… на отдельные судьбы, страсти, везение и невезение. Кому как, кому что… Одновременно он понимал, что, если б не эта, вечно мятущаяся офицерская толпа, он, по его характеру, вряд ли бы имел в жизни столько друзей и знакомых.
Ехали на «перекладных», – зря что ли им платились прогоны и были даны «подорожные по казенной надобности»? Можно не так долго томиться на станциях в ожидании лошадей.
С Реми как со спутником было комфортно: тот умел молчать, когда хотелось, и говорить, лишь, когда стоило того. Лермонтов ценил такие вещи.
Отъехав от Москвы, поняли, что вплывают в лето. – В Москве задержалась прохладная весна. Кибитку потряхивало.
В оконце задувал мягкий ветер. – Они выезжали вечером. Но утром уже солнце светило вовсю и заливало поля. Молодые цветы на обочинах лезли изо всех сил наверх из залежей неприбранной прошлогодней травы, мертвечина и обновление смешивались на глазах, деревья улыбались миру. В перелесках листья тянулись к кибитке, а поутру на них блестели свежие пузырьки росы. И пыль, уже поднимавшаяся на дороге, никак не могла затмить сиянье листов. Зелень была еще совсем юной, и это главное.
Он все еще был молод и влюблен в жизнь. Неудачи можно было бросить где-то в канаве вдоль дороги.
Поля, деревни, перелески, речушки… Стада на лугах, бабы с подоткнутыми подолами, и толстыми упругими ногами… мужики в длинных рубахах, в лаптях и босые… грабли, топоры, вилы… Он ехал мимо всего этого, но жизнь где-то поодаль, почему-то была сродни жизни его. В детстве, маленьким, он не раз бросался чуть не с кулаками на любимую бабку за то, что она ровным голосом барыни велела кого-нибудь из дворовых высечь. Такой балованный, вспыльчивый и надменный барчук. А вот, поди!..
«Руссоман Лермонтов» – вспомнил он Вигеля. Ну да, можно и так. Пожалуй, что так.
«Надо проездиться по России», – настаивал Гоголь в последнюю их встречу… Чего он сам не едет? И бесконечно торчит в Италии!
Михаил почему-то никогда не стремился заграницу, хотя… в свете наслушался рассказов, насколько тамошнее житье-бытье отлично от нашей нищей и сутулой России. Его почему-то не тянуло туда…
Реми посапывает рядом – кажется, вздремнул.
Эта страна нова всякий раз, когда проезжаешь по ней хоть тем же самым маршрутом, она что-то вновь и вновь, как бы жалуясь, открывает тебе. Отдаленное от тебя, но видимое одними очами, слышимое – может, изнутри, от себя самого. Что-то вовсе несоразмерное прежним наблюдениям. И ведомое только сердцем.
Странность. Такая странная любовь. «Люблю отчизну я – но странною любовью…»
На станции не дали лошадей. – Нет, господа офицеры! простите! не пришли из заезда. Уж придется до утра!.. Их накормили щами и невкусной речной рыбой с костями. Кажется, лещ… Лермонтов осторожничал и аккуратно доставал кости изо рта.
– Ты не подавись! – сказал он приятелю.
– Попробую!
Потом их отвели в комнату для гостей, где стояли две узких койки. Дали свечи с собой.
Койка скрипнула металлическим тоном, когда Лермонтов бросил вещи.
– Железная! – констатировал Реми.
– Так на такой, говорят, спит и наш государь! Нам грех не привыкнуть!
– Клопы, наверно! – мрачно сказал Реми, пробуя осветить стену. Она была в самом деле в потеках, и не очень чистая.
Они открыли бутылку красного вина. Французского. Достали два стакана.
Выпили и улеглись на свои койки.
– Скрипеть будет, сволочь! – ругнулся Реми.
«Люблю отчизну я – но странною любовью – не победит ее рассудок мой…» – Фраза вертелась в голове и цеплялась за душу. Куда пристроить ее, он еще не знал…
Помолчали, пытаясь вздремнуть.
Это правда, что мамаша ездила с жалобой на тебя к Нессельроде? – Постыдилась бы – все-таки жена посла! И писателя, кстати, как ты. Писателя!
– Может быть! – сказал Лермонтов. – Мне-то все равно, только бабушка переживает.
– Мне кажется, тут кто-то из наших похлопотал в твоей истории!.. – Я раскинул про себя… Уж не Барятинский-старший?
– А Барятинский при чем?
– Как же! А поэмка «Гошпиталь»? Где ты спарил его со старухой вместо Мариси?
– Ну и что? Тогда все смеялись. Он первый смеялся.—
Но тогда он не был адъютант наследника. К тому ж, твои слова в оде пушкинской… «А вы, надменные потомки – Известной подлостью прославленных отцов…» – Думаешь, они простили тебе?
– Не думаю.
Погасили свечи.
Люблю отчизну я, но странною любовью,
Не победит ее рассудок мой!
Ни слава, купленная кровью.
Ни полный гордого доверия покой…
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья…
Но я люблю, за что не знаю сам…
И вскоре уснул. К счастью, стена оказалась без клопов.
На следующий день когда погрузились в кибитку, у них вышел спор: заезжать или нет в Семидубравное, в имение к их общему однополчанину Алексею Потапову? – тот приглашал их настойчиво еще в Москве. Он уехал раньше их…
– Может, повернем? – раскапризничался Лермонтов. – Собрались в Воронеж – едем в Воронеж и все тут… перед Алексеем извинимся после!
– Ты из-за его дяди? – спросил Реми.
– Ну да…
Он был не в восторге от того, что в гостях у Потапова может быть также его дядя-генерал, что командовал теперь З-м Резервным корпусом. Слухи про дядю из корпуса шли не самые радужные. А военные откуда-то всегда все знали.
– Говорят, он только в строю аракчеевствует. А так вполне светский человек.
– Я не люблю аракчеевых.
Про Потапова-старшего Михаил кое-что слышал. Он был из генералов Сенатской, площади. Потом входил в Следственную комиссию… Михаилу рассказывали о его поведении на следствии. Одоевский покойный хотя бы… И теперь, когда Одоевского не было в живых, ему не хотелось оказаться за одним столом с его гонителем.
Но пока спорили, вышло так, что они уже подъезжают к Семидубравному. Потапов-младший встретил их на крыльце, как родных. Они обнялись.
– Ну, не так уж, не так! – осадил мрачный Лермонтов. – У меня еще нет генеральского чина!
– Так что вам мешает? – сказал, появляясь на крыльце плотный, рослый, хотя и стареющий уже мужчина в домашнем халате. Но какой-то плотный, сбитый.
– Его так просто получить, уверяю вас!.. – это и был тот самый дядюшка, генерал Потапов.
Вскоре они оказались за обеденным столом, уставленным блюдами деревенского пошиба, конечно, но с разными вкусностями и славно поданными. Было несколько бутылок вина. Цымлянское в ведерке со льдом, и, разумеется, графин настоящей русской водки, тоже во льду. Чин по чину.
– Кто из вас знаменитый поэт? – спросил генерал.
– Только не я! – отозвался Реми.
– Значит, вы? А-а… да. Про вас слышал. Правила есть правила, но я не против того, что вы проучили этого француза. Они стали много себе позволять. А теперь едете к боевым действиям? Там сейчас тяжко. Говорят! Я недавно видел офицеров оттуда. Если этот пророк пойдет на Дагестан… – речь шла про Шамиля.
Выпили. Уткнулись в свои тарелки, отмякли. Лермонтов поразвернулся в анекдотах – тут он был силен. Начал с самых простых. Словно пробуя на вкус генерала. Тот смеялся от души. Михаил понял, что можно, и перешел к соленым шуткам и притчам. И тут все тоже оказалось приемлемо. Все смеялись.
Генерал раскраснелся и высказался с любезностью, что рад встретить таких интересных собеседников и вообще веселых молодых людей. Похвастался даже, что вот его, мол, считают строгим, консервативным. Но это только по службе… А за столом, с приятными людьми, с гостями и сослуживцами – он совсем другой…
Было ясно, что Лермонтов генералу понравился.
В конце вечера он подошел к пианино, поднял крышку, тронул клавиши… вроде, исправны… и стал играть. Сперва что-то бессловесное, и вообще без мелодии – но как бы отдаленные друг от друга звуки стали сливаться в нее или обнаружили ее существование.
Он стал напевать песню, которую никто не знал, а Реми смолчал, когда узнал ее…
Это была его «Казачья колыбельная».
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою…
……………………………………………
Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой.
Пел он негромко и без надрыва. Пел хорошо. После Потапов-младший уверял, что Лермонтов тогда же записал эту мелодию. Что он искал потом запись, но она не сохранилась.
– Вон как! А я по слухам представлял вас совсем другим! – сказал генерал.
– А каким? – улыбнулся Михаил.
В Семидубравном они заночевали.
После завтрака Реми разговорился о чем-то с Алексеем, и они остались в столовой, а генерал с Лермонтовым вышли в сад… Когда первые тоже захотели присоединиться, они застали картину сверхъестественную: Лермонтов сидел на шее у генерала… Оказывается, эти двое без них разыгрались в чехарду.
«Таков мальчик уродился!»[6]6
Слова редактора А. Краевского.
[Закрыть].
XII
Еще двинулась стрелка часов, и вот, они уже расстались с Реми – тот умчался в свой Новочеркасск, а Лермонтов сидит в Ставрополе, в здании штаба, за обеденным столом у знаменитого генерала Граббе, начальника Кавказской и Черноморской линий, среди знакомых по прошлому приезду офицеров и совсем юной поросли молодых адъютантов. Он занял свободный стул близко к главнокомандующему, который сидел во главе стола, – и оказался почти рядом с его молодой женой Екатериной Евстафьевной. Звали ее на самом деле как-то не так, она была молдаванкою. Юные адъютанты разместились супротив них, по другой длинной стороне стола. Когда появился Лермонтов, а с ним его старый приятель, еще с 37-го года, с первой ссылки – Лев Пушкин, Левушка, теперь уже майор, – внимание застолья невольно переключилось на них. И генеральша была несколько раздосадована: перед их приходом молодежь щедро рассыпала ей комплименты. А теперь вдруг примолкла. И Лермонтов, и Пушкин Лев были известные острословы, и их было не переговорить. Пушкин пил много, и это тоже раздражало генеральшу – иностранку и дочь доктора медицины, которая, и живя в России, никак не могла привыкнуть к тому, как много здесь пьют. Но Лев Пушкин был таков, что поделаешь! Ему было по жизни никуда не деться от того, что он не просто майор с перспективами повышения, но еще и брат Пушкина. А это – особое звание, против воли часто лишавшее его собственного значения. Он должен был отыгрываться.
Он бросился в рассуждения о том, что названия мест великих сражений почти все кончаются на «о». Так уж исторически повелось: Маренго, Ахулько, Ватерлоо…
Ты позабыл Бородино! – сказал Лермонтов. – А вы что молчите? – бросил он молодым адъютантам. Сидите, как картинная галерея!
– Тарутино! – произнес один из молодых робко.
– Ну, то-то же! Хотя бы Тарутино!
Сам генерал был хмур, как обычно, может даже недоволен поведением жены, – а когда разговорился, речь пошла о том же, о чем в Семидубравном с генералом Потаповым: сможет ли Шамиль поднять против русских Дагестан или не сможет все-таки?
Вошел еще один высокий стройный офицер. И генеральша явно осветилась личиком в его честь. Он был красив, пожалуй даже слишком. Такая холеная красота. И голова обрита наголо. И держался с тем чувством уверенности в своей победительности, какую являют порой представители сильного пола.
– Ротмистр Мартынов! – на всякий случай представил генерал и естественно, пригласил гостя к столу. Лермонтов тоже улыбнулся и кивнул по-дружески.
– Только не коли меня базалаем своим! Я боюсь щекотки!.. – когда Мартынов садился рядом с ним.
– А что такое базалай? – осведомилась генеральша.
– О-о, мадам! Это оружье истинных горцев! Очень страшное! Я в Москве был у твоих! – сказал он Мартынову.
– Я знаю, мне писали!
После обеда Граббе пригласил Лермонтова в кабинет… Предложил сесть.
– Я слышал про вашу историю! – сказал он. – Но, что поделаешь! У нас не умеют ценить людей!..
Он умолк и Лермонтову показалось, он раздумывает о нем – какой приказ издать. Но мысли генерала были сложней… – Прошедший войну адъютантом Барклая, потом Ермолова, удостоенный многих наград и дважды ареста – во второй раз по делу декабря 1825-го, – участник французского похода и Московского съезда Союза Благоденствия, а после четыре месяца узник Динаминдской крепости, – он лишь случайно, как ему казалось, взлетел наверх… Когда одни его друзья легли цепью в землю от Малоярославца до Парижа, а другие, так же цепью, ушли в кандалах добывать руду в сибирских подземельях, и кое-кто – на эшафот, спаси Боже их души! – Может, он смотрел на Лермонтова, как бунтарь прошлых лет на бунтаря нынешнего, и старался понять, в чем они похожи, а чем отличаются друг от друга.
Стихов он не был поклонник. Хотя, стихи о Пушкине, конечно, знал. «Героя нашего времени» читал прилежно и очень расстраивался, что его молодая жена так и не взяла в руки роман. А как добиться единения в семье, если вас тревожат разные вещи? Он видел в книге эпоху и понимание эпохи. Печориных он встретил много среди своих офицеров. И понимал всю тщету прежних мечтаний уходящего поколения. А эти вот сознали, что и мечтать не о чем. Грустная эпоха.
– Мартынов – ваш друг? – спросил он неожиданно.
– Да, почти с отрочества… Потом юнкерская школа…
– А что? С ним что-нибудь? – спросил Лермонтов обеспокоенно, готовый, если что, вступиться за приятеля.
– Нет-нет, что вы! Никаких претензий! – Просто он когда-то, при своем появлении, всех нас удивил… Стал рассказывать у меня за столом, какой храбростью должно обладать на Кавказе, мне даже пришлось одернуть его.
– Узнаю Мартышку! – улыбнулся про себя Лермонтов, но промолчал. – Пришлось пояснить, что здесь не то место, где нужно кого-то учить храбрости. Здесь храбрыми быть умеют!.. Но в остальном, ничего не скажу… – И правда, хороший офицер! – И, выдержав паузу, добавил…
– Я тут подумал… Мною будут недовольны, возможно… Но… вы не поедете пока в свой Тенгинский пехотный… Придется подождать. Вам нужно отличиться, не так? Это опасно, но это необходимо. Сейчас собирается отряд Галафеева в поход, в Малую Чечню. Я вас к ним присоединю. Галафеев даст вам все возможности для отличий… Тогда мы сможем что-то сделать для вас!
После, уже в штабной комнате, где они оформлялись, Лермонтов столкнулся с Мартыновым.
– Привет, Мартышка! Я рад тебе!.. – обнялись дружески.
– Ну, что? Опять нарвался на неприятности? – спросил Мартынов.
– Как водится! Бабушка говорит про меня, что я их выискиваю для себя. Как ты? По-прежнему пишешь стихи?
– Ты ж знаешь! Мы с тобой не можем без этого!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































