Текст книги "Миф Россия. Очерки романтической политологии"
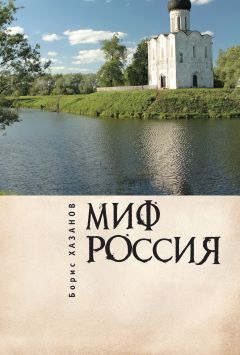
Автор книги: Борис Хазанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
1
Он уверен («Двести лет вместе»), что действует по справедливости, воздавая обеим сторонам (и предварительно придумав, что они противостоят друг другу), требуя признания обоюдной вины. Разделить вину между русскими и евреями «поровну». Равноправие по известному принципу: полконя – полрябчика.
Он думал, что «коллективная вина» народа или общества – это правильно, что так и должно быть. На самом деле принцип коллективной вины и коллективного воздаяния – ложный, если не безнравственный. Он растворяет в общем месиве виновных и невиновных. Вина и расплата индивидуальны. Я не отвечаю за злодеяния Гитлера, если я немец, за злодеяния Сталина, только потому, что я грузин. Я отвечаю за мои собственные злодеяния.
2
Сон патриота. Все евреи собрались и хором: мы ужасные, мы хитрые, мы продали Христа, продали Россию, устроили революцию, убили царя, хотим покаяться. Просыпается и видит, что ничего не изменилось.
3
Антисемитизм не есть результат анализа фактов, но ищёт в «фактах» своё оправдание. Таков Солженицын. Посмотрите, говорит он. Троцкий был еврей, Свердлов еврей, у Ленина дедушка тоже был еврей. Начальник такого-то лагеря в 30-х годах – еврей и т. д.; это что-то означает, не правда ли?
Исключительно удачный тактический ход – поместить на отдельном листе в «Архипелаге» портреты начальников лагерей: одни евреи. Теперь всё ясно.
Богров убил Столыпина, потому что на самом деле он не Дмитрий, а «Мордко»; мстил, стало быть, за евреев.
Сначала удивлялись: «великий национальный писатель» – и здрасьте. Потом стало стыдно.
Национализм, не желающий помнить об Освенциме. Религиозность, похожая на катаракту.
4
Не исполняемый за рубежом, но известный и любимый в России композитор Георгий Васильевич Свиридов (1915–1997) может быть отнесён, если воспользоваться употребительным термином, к поздним романтикам, эпигонам классической русской музыкальной школы XIX века. Он автор музыки к спектаклям и кинофильмам, «Патетической оратории» на слова Маяковского, «Оды Ленину», «Поэмы памяти Сергея Есенина», вокальных циклов на слова русских поэтов, двух музыкальных комедий и множества других сочинений. Свиридов занимал видное положение в советской музыкальной иерархии, был народным артистом, лауреатом премий, Героем Социалистического труда. Редакция журнала «Наш современник» (2002, 9) аттестует его как русского гения, политика, критика, литературоведа, наконец, «мыслителя-философа». Свидетельством этой разносторонности служат публикуемые под рубрикой «Мир Свиридова» фрагменты «одного из наиболее ёмких источников литературного наследия» композитора – записи, которые он вёл в 1961 году, посетив Париж, и небольшое количество написанного в начале 90-х.
5
Париж произвел на него удручающее впечатление. Город оккупирован (как и вся страна) коварным внутренним врагом. В театре Сары Бернар гость прослушал оперу Шёнберга «Аарон и Моисей», отвратительное еврейское произведение. Публика – дельцы и дамы, увешанные драгоценностями, вне всякого сомнения, тоже евреи, «владыки мира и Парижа в том числе». Потолок расписан Шагалом (здесь, очевидно, имеется в виду панно под потолком в Оперном театре Гарнье). Свиридову бросилось в глаза «жёлтое, как яичный желток, пятно, символизирующее цвет еврейства». Вообще безобразная живопись, «уродливые, худосочные фигурки». Оно и понятно: «для еврея главное – это “знаменитость”, а совсем не глубина, не содержание, не духовный смысл и заряд искусства».
В Версале, «другом завоёванном городе», на замызганном здании висит табличка: дворец реставрирован на средства Рокфеллера. Нужны ли ещё доказательства? Экскурсоводы – еврейки. Усталого гостя согнали с дивана, оказывается, это экспонат. Везде грязь. Хотя он не знает французского и приехал на несколько дней, ситуация для него ясна: «Французы весьма цинично относятся ко всему этому, в том числе и к своей истории».
6
Он констатирует крах музыкальной культуры во Франции. «Дирижёрское дело, как и скрипичное, пианистическое, погибло теперь окончательно». Баренбойм – «бездарный махало» (как Шагал – художник-«мазила») и к тому же отъявленный наглец. Главное, везде одни евреи. Несчастная страна. Турист посетил «в районе Шанзелизе» заведение со стриптизом, – почему бы и нет, – и снова разочарование: «Сексуального подбодрения я не получил». Единственная радость – покупки. Мыслитель приобрёл шикарную скатерть, салфетки голландского полотна, великолепные галстуки от Диора и прочее.
Читая всё это, вдруг начинаешь понимать смысл скандалёзной публикации. По-видимому, кто-то в редакции журнала коварнейшим образом решил подмочить посмертную репутацию композитора, обнародовав записи, дорогие сердцу, не предназначенные для печати.
___
Суть литературы, я думаю, в том, что она превращает любое «содержание» в форму; простая мысль, но её приходится повторять. Литература превращает всё что угодно, политику, историю, религию, мораль – в средство. Литература делает относительными любые точки зрения и любые верования. Можно было бы сказать, что она относится ко всем этим важным вещам так, как женщины относятся к разговорам на отвлеченные темы: обыкновенно женщин гораздо больше занимает, кто говорит и как говорит, и какие чувства он при этом выражает, чем сами идеи и мнения. В мире литературы за теориями и вероисповеданиями стоит нечто неуловимое – жизнь. В этом заключается принципиальная безответственность литературы: она подотчётна только самой себе.
Писателя, как и человека науки, можно впрячь в телегу, посадить за руль; подобно науке, литература может оказаться и нужной, и даже полезной, ну и что? Совершенно так же, как адекватное рассмотрение научных достижений возможно лишь в терминах самой науки, условием адекватного рассмотрения литературных явления должно быть признание автономности литературы. А там – можете вычитывать из неё что угодно.
Желая восстановить справедливость, Нобелевский комитет присуждает премии классикам. В этом году рассматривались кандидатуры Горация, Шекспира и русского поэта Михаила Лермонтова. Премию получил Гораций, что отражает консервативные вкусы членов комитета. В прошлом году был забаллотирован Джойс, из-за пристрастия к непристойностям. Отклонена кандидатура Толстого: обкакал церковь. В конце концов академики увязли в дискуссии по вопросу о том, кого считать классиком.
Русский литературный интернет переживает пубертатный период. Взрослые люди, которые притворяются недорослями, шикарно выражаются, лихо сплёвывают. Критика недорослей. Публицистика подростков. Творчество девиц, у которых только что начались месячные.
Плохо, когда писатель начинает свою творческую жизнь в компании, в кружке. Вырабатываются кружковые вкусы, возникают кружковые гении. Это оставляет отпечаток надолго. Изредка чувствуется у Бродского.
Поэтический шовинизм: с удовольствием возвращается к мысли о том, что проза есть некая второсортная словесность по сравнению со стихом. Поэзия древнее прозы.
Поэзия, сказал Пастернак, это скоропись мысли. Чоран повторяет древнее изречение: поэзия – ветер из обители богов.
Но я бы не стал настаивать на том, что поэзия – нечто скоростное, вроде авиалайнера, в сравнении с прозой, длинным, равномерно постукивающим железнодорожным составом. Дело в том, что самое понятие быстроты и краткости в прозе – иное, чем в поэзии. Другие критерии. Это вообще две литературных вселенных, с разной метрикой и разной степенью кривизны пространства. Не зря поэты чаще всего плохо справляются с прозой, хотя проза, казалось бы, освобождает от многих ограничений, от стиховой конвенциональности, от корсета. Кажущаяся, после рифмы и классического размера, свобода прозы обманчива. На поверку выясняется, что внутренние скрепы прозы не менее жёстки, дисциплина прозы такая же суровая, концентрация – в количественном выражении другая, но качественно не уступает поэтической. Музыкальные законы прозы тоньше, сложней, неуловимей, чем пресловутая музыкальность поэтического слова. Многословная проза так же тягостна, как водянистые стихи. (По поводу того, что М.Х. перешёл от прозы к стихам. Чаще бывает наоборот: начинают со стишат, с купания в ручейке, а уж потом погружаются в море прозы.)
У прозы больше общего с музыкой (законы композиции, параллелизм жанров), чем у поэзии.
Маяковский1
…Вы говорите о том, как много он значил для вас в юности. В этом всё дело. Это очень важно. Это, может быть, делает всякое обсуждение излишним. Для меня Маяковский значил гораздо меньше. В разное время жизни я возвращался к Маяковскому и всякий раз думал: в чём дело?
Итак, если всё же позволено будет возражать, то вот один пункт. Ваш ответ на центральный вопрос, действительно ли канонизация «лучшего, талантливейшего» так повредила Маяковскому, точнее, был ли этот поцелуй Иуды незаслуженным, – ваш ответ кажется мне недостаточным. Смирять себя, «наступив на горло собственной песне», разрываться между лирикой и гражданственностью, чистой поэзией и поэзией ангажированной, политической, пожертвовать первой ради второй – мотив достаточно традиционный, восходящий к Гейне. Вы заостряете это противоречие, говорите о двух Маяковских, подлинном и насильственном; это меня не убеждает. Маяковский – один. Он всегда верен себе. (Письмо к Б.С.).
2
Агитационные стихи – от плакатов до поэм – сохранили, если говорить вежливо, историческое значение; проще говоря, читать их всерьёз невозможно. И не потому, что их насильственно внедряли, как картофель при Екатерине. Ведь уже народилось поколение, для которого советского литературоведения не существует. Тем не менее, и для молодёжи эти вирши в лучшем случае – медь звенящая и кимвал бряцающий. Но несчастье (если это несчастье) в том, что и в самых нежных, самых проникновенных своих, охотно цитируемых вами вещах поэт остаётся тем же поэтом – автором «Мистерии-буфф», «150 000 000», поэм о Ленине и «Хорошо!», рассказа литейщика Ивана Козырева, разговора с товарищем Лениным, стихов о советском паспорте, стихов о загранице, стихов для детей и так далее. И наоборот: почти в каждом из барабанных произведений можно найти сильные, свежие, увлекающие строчки; прочитав их однажды в юности, помнишь всю жизнь: «Сто пятьдесят миллионов – этой поэмы имя. /Пуля – ритм, рифма – огонь из здания в здание. /Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими…»
3
Идиотическое вероучение не было для него чем-то чужеродным, насильственно навязанным, внешним по отношению к «подлинному Маяковскому». Он и в самых своих восторженных, самых верноподданных, самых зловещих вещах был подлинным.
Та же поэтика, те же, всегда узнаваемые интонации, угловатые ритмы, обязательные неологизмы, небывалые, брызжущие, поражающие своей изобретательностью, а порой и удручающе искусственные, притянутые за уши рифмы, – а ведь поэтика, если верить Ходасевичу, – самое верное, адекватнейшее выражение души поэта.
4
Иногда мне даже трудно понять, что мне не нравится в Маяковском. Я думаю – всё. Притом что есть – да! – великолепные строчки. Это поэт строчек.
5
Глупо было бы пытаться сбросить с парохода Маяковского. Маяковский не только не умер, он, насколько мы можем заглядывать вперёд, бессмертен. Если я решаюсь повторить фразу Липкина о «крупнейшем из второстепенных поэтов», то потому, что нахожу в ней меньше хулы, чем похвалы. Не будучи поэтом первого ряда (там, где Пушкин, где Лермонтов, где Тютчев, где Блок, Мандельштам, Ахматова), он занимает почётное место во втором ряду, а это, согласитесь, очень, очень много. Это особенно много для поэта, не обладавшего глубокой культурой (условие почти столь же необходимое, как и поэтический дар). Это сказалось и на той черте его поэзии, которая не может не броситься в глаза (которую отметил и Пастернак): необычайный, почти экзотический, ярчайший, порой грубо-плакатный, поразительно талантливый поэтический наряд – и бедность содержания. Бьющая через край эмоциональность, сердце, готовое вместить в себя весь мир, – и плоскость, тривиальность мысли. Маяковский был варваром с изумительной, как у ребёнка, языковой одарённостью, с неуклюжими ухватками подростка, порой нарочитыми, с этим вечным желанием кого-то эпатировать, лихо сплёвывать, с зычным голосом; могучим темпераментом. Он не был поэтом эпохи, он был поэтом времени, которое оказалось очень коротким, и, более того, он был порабощён своим временем – порабощён настолько, что не сумел (да и не хотел) над ним подняться. Но его чрезвычайное значение, между прочим, состоит, как я думаю, и в том, что он был самым, может быть, талантливым в XX веке трубадуром фашизма. В известной мере это было запрограммировано в футуризме (не зря Маринетти стал личным другом дуче). Надеюсь, вы понимаете, что я употребляю слово «фашизм» не в узко политическом смысле; впрочем, и в этом смысле он по праву может быть – тут надо отдать справедливость Карабчиевскому – аттестован как певец тоталитарного режима, хотя бы и почуявший, что с этим режимом что-то не всё в порядке). (АБ.С.)
___
Десятилетия литературной работы оставили чувство никчемности, ненужности моей работы. Que diable allait-il faire dans cette galere? (Кой чёрт занёс его на эту галеру.)
«Не писав, летящи дни века проводити, лучше уж…» (Кантемир).
Но если не писать – помрешь с тоски.
Поезд идёт с возрастающей скоростью, машинист глазными впадинами черепа вперяется в рельсовый путь. Впереди чёрный туннель, грохочут колёса, рушатся вагоны, летят обломки, вздрагивает локомотив, прожекторы посылают вперёд струи света, и всё быстрее идёт поезд.
Уже не осталось ни вагонов, ни локомотива, но поезд идёт вперёд, сияют прожектора, и по-прежнему смотрят вдаль пустые глазницы машиниста.
Трактат об усахУсы представляют собой культурно-исторический феномен исключительной ценности и служат рекламой эпохи не меньше, чем ордена, мундиры, дамские причёски и надгробные памятники. При этом усы и нос образуют единство, усы не существуют без носа, а нос, в том-то и дело! – нос, в сущности, невозможен без усов. Правда, некоторые эпохи не знали усов. Но безусие само по себе есть знак, говорящий о многом, вернее, об отсутствии многого. То были эпохи упадка.
Усы различают по длине, густоте, фасону и цвету.
Новое время вызвало к жизни национально-патриотические модели; в готовящемся к выпуску Альбоме усов, незаменимом пособии для историков и брадобреев, нашли место вислые, цвета гречихи, малороссийские усы, ржаные великорусские, прямолинейные несгибаемые усы Кастилии и Арагона, балканские усы в виде кренделя, эфиопские усы с колокольчиками, соплевидные a la Hitler национал-социалистические усы Третьей империи, нитевидные усы императорского Китая, а также многие другие. Усы порабощения, усы независимости, усы свободы, усы национального возрождения и возвращения к корням. Невозможно представить себе полководца, нельзя признать легитимным монарха без растительности на верхней губе, и не случайно некоторые исторические модели носят имена великих людей. Таковы военно-полевые усы Карла XII; похожие на печной ухват усы кайзера Вильгельма II; метёлкообразные, расширяющиеся на концах, длиннейшие в мире усы легендарного маршала Будённого. Можно без труда показать, что бритьё бороды и усов, как правило, влекло за собой падение авторитетов и кризис власти. Вождь партии и народа – без усов? Нонсенс. («Аквариум»).
___
Кто бы мог подумать, что мы переступим порог 2000-летия, кто вообще думал пятьдесят лет назад об этих двух тысячах. Они казались чем-то астрономическим. Пятьдесят лет назад я сидел в спецкорпусе Бутырской тюрьмы, в узкой, шесть шагов в длину, полтора шага между койками, камере, которая проектировалась как одиночная, но теперь, из-за крайнего переполнения тюрем, вмещала четыре человека, иногда пять. Напротив, почти касаясь меня коленями, сидел на своей койке кинорежиссёр Иван Александрович Бондин, автор фильма «Она сражалась за родину» (или что-то такое), человек, которого арест и следствие совершенно раздавили. Перед этим он находился в тюремном психиатрическом институте имени Сербского. Его сменил студент географического факультета по имени Саша, немного старше меня, накануне ареста женившийся.
На философском факультете (этажом ниже нас) была раскрыта антисоветская организация – кружок студентов, интересовавшихся индийской философией. Ещё где-то (об этом рассказывал Саша С.) была компания весельчаков, где заводилой был парень, прозывавшийся Командор Бен. Вторым лицом был Казначей и Главный Виночерпий Большого Боцманского Сабантуя подшкипер Гарри Тринк. Обе организации были успешно разгромлены госбезопасностью. Все участники арестованы и понесли заслуженное наказание.
В «спецкорпусе», в камере 262 сидели два заслуженных большевика, оба вступили в партию в 18 году, оба были арестованы в 37-м, но остались в живых и были выпущены. Для меня это были люди из какого-то другого века, если не с другой планеты.
Каждый был втрое старше меня. Оба были евреи. Один, доктор Мазо Александр Захарович, был главным врачом ведомственной поликлиники. Он сочинял стихи о своей дочке, но чаще вспоминал девушку, с которой был связан в далёкой юности. Однажды заметил, что она побрита. Оказалось, тайком от него сделала аборт. Другой был директором завода, звали его Александр Борисович Туманов, фамилия, которую он придумал себе во время революции. Несчастье было в том, что, прежде чем вступить в ленинскую (оба, Мазо и Туманов, называли её «наша партия»), он был членом еврейской пролетарской партии Поалей-Цион, «Рабочий Сиона». – «Но мы блокировались с большевиками!» Александр Борисович был человек маленького роста, очень важный, вечно пикировался с доктором и говорил о себе: «Я не рядовой работник. Я крупный политический деятель!» Когда он усаживался поглубже на койке, ноги не доходили до пола. Подкрепившись чем Бог послал, потирал ладошки и декламировал тюремные стихи:
Я сижу и горько плакаю.
Мало ем и много какаю.
___
Это была страна, где всё решало количество; количественная страна. Очень много земли, очень много народу. Страна, где, вопреки Гегелю, количество как-то неохотно переходило в качество. Качество не росло, оно всегда было низким: плохие дороги, плохие законы.
Некоторые считали этот режим насильственным, внешним – чужеродным. На самом деле это был народный режим. Режим, где весь народ вовлечён в практику насилия. Начальство угнетает подчинённых, подчинённые друг друга. Верхний слой насилует нижележащий и вообще всех; нижележащий – следующую социальную ступень, и дальше вниз; низшие – ещё более низших.
«Иван Грозный превратил свою державу в смесь Византии с Монголией… Со своими десятью веками устрашения, потёмок и обещаний, эта страна больше других сумела приспособиться к ночной стороне исторического момента, который мы ныне переживаем. Апокалипсис чудесным образом идёт к ней, она привыкла к нему и даже находит в нём вкус, и упражняется в нём больше, чем когда-либо… “Русь, куда ж несёшься ты?” – вопрошал Гоголь, сумевший ещё сколько лет назад уловить тот неистовый пыл, который скрыт за её неподвижным обликом. Теперь мы знаем, куда она спешила, и более того, мы знаем, что, по образу и подобию наций с имперской судьбой, ей больше всего не терпится решать проблемы других народов, вместо того, чтобы заняться своими» (Cioran, «Histoire et utopie. La Russie et le virus de la liberte»).
Удивительна душа вещей, терпение, с которым они дожидаются вас там, где вы их оставили лежать. Но иногда терпение иссякает, вещи падают, ломаются, разрушаются или просто деваются куда-то.
Известность NN – лучшая, какую можно вообразить: известность настоящего писателя в узком кругу неразговорчивых ценителей. Когда NN умрёт, журналисты спохватятся, но будет поздно, невозможно будет брать у него интервью, чтобы печатать в искалеченном виде, невозможно строчить о нём чепуху в газетах, чтобы завтра же о нём позабыть, невозможно перемолоть его на жерновах массовой печати и телевидения, чтобы ссыпать затем в мусорное ведро. Он ускользнул и остался тем, кем был.
Не следует путать цель со смыслом. Можно упорно преследовать некую цель – и трудиться бессмысленно, жить бессмысленно и умереть бессмысленно.
Плохописъ. Считалось, – вот так открытие! – что хороший писатель тот, кто хорошо пишет. Кто пишет так, чтобы мыслям было просторно, словам тесно. Но возникло предположение, что писать хорошо необязательно. Да и что это вообще означает – писать хорошо? Можно быть писателем, даже не зная как следует родной язык. Странная черта поколения, где всё-таки немало по-своему одарённых людей.
Борьба с чистотой языка: сознательная у критиков, полусознательная у писателей, бессознательная у читателей.
Язык, говоришь ты…
Набоков, при всей его любви к позе, всё же не кокетничал, сказав, что его язык – замороженная клубника. Писатель-эмигрант живёт в иноязычной среде. Оттого он тяготеет к консервации привезённого языка. Волей-неволей он становится пуристом, и его читатели (если у таких писателей вообще находятся читатели) получают от него пищу из банок. Ему кажется, что на родине его родной язык, который там не хранится, как у него, в холодильнике, – портится, разлагается, вульгаризуется, опошляется. Так было со старой эмиграцией. Происходит ли то же и с новой?
История России в XX веке – пример до слёз удручающей бесплодности жертв и усилий. Что осталось? То, что противостояло истории, сопротивлялось ей: дух, искусство, литература. Это уже кое-что. Осталась сама страна – тоже немало.
Писать о войне, – пусть даже в виде пролога, – не быв на войне?
Мне нужны были «интимная посвящённость и характерная деталь», как говорит Томас Манн в одном письме к Адорно, в связи с «Фаустусом»; нужно было получить реальное, до мелочей, представление о том, что происходило в открытом море в снежную ночь января 1945 года. («К северу от будущего».)
Утром в каютах и рубках, в помещениях для раненых и родильниц, на всех палубах, где сидели и лежали вповалку полузамёрзшие пассажиры (в день гибели температура воздуха минус 18°, ветер до семи баллов), радио транслирует речь Гитлера: «Сегодня, двенадцать лет тому назад, в исторический день 30 января 1933 года, провидение вручило мне судьбу немецкого народа».
С маршрутом не все ясно, я предполагал, что «Густлофф» направлялся в Свинемюнде; по другим сведениям, корабль шел в Киль или Фленсбург. В открытом море его должны были сопровождать три сторожевых судна, но они отстали. С наступлением темноты капитан Петерсен распорядился не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. Маринеско совершил обходный манёвр и зашёл с левой, береговой стороны, прежде чем атаковать. Последняя из трёх выпущенных торпед разрушила машинное отделение корабля, электричество погасло, и всё остальное происходило впотьмах.
Спасательные суда смогли увезти 900 человек, другие источники называют цифру 1200. На рассвете немецкий патрульный катер VP-1703 обнаружил на месте гибели, среди всплывших трупов и обломков корабля, шлюпку с двумя мёртвыми женщинами и годовалым ребёнком. Мальчик был жив, его усыновил матрос катера.
Я почувствовал, – хотя это был всего лишь пролог, – что война с Германией вновь преследует меня. Уехав (сорок лет спустя) из России, поселившись в стране, которая тогда, на рассвете самого длинного дня 1941 года, двинула трёхмиллионное войско на Советский Союз, я научился читать летопись этой войны не одним, а двумя глазами, оценивать её историю не только с одной единственной точки зрения, видеть войну не совсем так, как её видят в России.
Моё понимание войны было пониманием человека, живущего полвека спустя, человека, который бродит на пепелище, успевшем зарасти травой. Я всегда думал, что никто так мало способен разобраться в своём времени, как тот, кто в нём живёт. Мы, конечно же, не умней и не проницательней наших отцов, но у нас есть то преимущество (если это – преимущество), что мы пришли позже. Оглядка на военное прошлое, с какой приступил я к писанию, по необходимости отличалась от стереотипа, которое пропаганда усвоила трём поколениям советских граждан.
Сколько раз мы уверяли себя, что традиционный повествовательный принцип исчерпал себя. Невидимый и всевидящий, читающий во всех сердцах повествователь испустил дух. И, однако, я употребляю это слово «рассказ», так как был вынужден к нему возвратиться.
Спустя некоторое время я уже мог сказать о моих персонажах примерно то же, что говорил Ибсен о героях своих пьес: что видит их до последней пуговицы на сюртуке. Мои герои сделались для меня реальнее некогда живших молодых людей. Необходимая иллюзия романиста.
Я часто думаю о прошлом – это несчастье и привилегия старости. Но так как я занимаюсь писательством или, по крайней мере, внушаю себе, что я писатель, то мои воспоминания, весьма живые и подробные, превращаются в материал для литературы. Отсюда следует, что если я, например, обращаюсь к послевоенным временам, к Московскому университету и т. д., то получается нечто такое, что может вызвать протест у живого свидетеля и участника той жизни. Он скажет: всё было совсем не так! Химический процесс, пышно именуемый творчеством, денатурировал действительность.
Мотив любви в репрессивном обществе, куда, как в ворота концлагеря, вступили эти юнцы. Есть нечто закономерное в том, что секс оказывается под подозрением в фашистском обществе, подобно тому, как подозрительно любое проявление независимости; при этом «низ» репрессирован с особой жестокостью. Нравственность носит полицейские черты, ханжество свирепеет; секс в этом обществе есть вторая крамола. И подобно тому, как политическая несвобода усваивается с раннего детства, становится воздухом, которым дышат, входит в плоть и кровь, так воспитываются и становятся непреодолимыми стыд и скованность, пуританские нравы, какие-то невидимые вериги, целая система недомолвок и недоговорённостей, целая область неупотребляемых слов, табуированных тем, неназываемых предметов. Всё это уже не навязанная свыше, но ставшая второй натурой несвобода.
В идеальном согласии с древней мифологией верха и низа (верхняя половина тела – местонахождение возвышенных начал, «низ» низменен; герой может умереть от раны в голову, от лёгочного туберкулёза или от разрыва сердца, но не от дизентерии или рака прямой кишки) персонажи этого искусства могли влюбляться, страдать или возбуждать ответное чувство, но спать в одной постели – упаси Бог.
Существуют работы о самодеятельной графике на стенах общественных зданий (sgraffiti), но, кажется, никому ещё не приходило в голову исследовать надписи и рисунки в отхожих местах. Никто не догадался собирать эти памятники традиционного народного творчества, а между тем заборная письменность с её жанрами представляла собой некое дополнение к высоконравственной официальной литературе и графике. Скажем так: это было её бессознательное. Потому что эстетика социалистического реализма не сводима к идеологии; её тайная психологическая подоплёка – порнографическое воображение.
Я пытался передать то особое чувство молодости, почти физическое ощущение, что вокруг тебя и в тебе дрожит магнитное поле эротики и любви. Этот факт нужно скрывать. Он представляет собой нечто недозволенное. Нужно делать вид, что ничего подобного не существует – как не существует тайной полиции, доносительства, страха и нищеты.
Это поле не могло не вступить в противоречие с другим электромагнитным полем. Если бы объявился кто-то пожелавший создать единую теорию поля (наподобие физической), он пришёл бы к выводу, что женщина и диктатор суть два полюса искомого универсального поля. Но такого поля не было. Поле Вождя исключало присутствие каких-либо иных конкурирующих воздействий, истерическое поклонение Вождю-Вседержителю, повсеместное присутствие Вождя не был простоц метафорой. Надо было жить в то время, чтобы почувствовать реальность этого поля. И надо было сызнова вспомнить, как жестоко насмеялась жизнь над всеми нами.
Император Александр I, в темноте объезжающий посты, спрашивает: «Les hussards de Pavlograd?» Это подается без иронии. Это естественно. И все русские военачальники, воюющие с французами, у Толстого говорят друг с другом по-французски. Но и сражаясь с немцами, мы пользовались немецкими военными терминами, офицеры носили немецкие военные звания, полководцы пользовались достижениями немецкой стратегии и военной науки.
Органная музыка. Распахиваются скрипучие врата. Боги играют на огромных гармонях.
Une cuillerée de thé où j’avais laissé s’amolir un morceau de madeleine, знаменитый кусочек размокшего в чаю бисквита. Непроизвольная память Пруста. Для меня такую роль играют мелодии. Стоит только вспомнить какую-нибудь. Стоит простенькому мотиву, самому, без моей воли, всплыть в сознании, – а я отлично могу слышать музыку мысленно, поющий в мозгу инструмент или целый оркестр, – как встаёт целая картина, сцена прошлого. Лица, обстановка, время. И странное чувство одновременного присутствия другой памяти, внешней по отношению к воспоминанию: памяти о том, что было потом, знание будущего, которое теперь уже – прошлое. Этот процесс повторяется то и дело, этот механизм работает, пожалуй, тем безотказнее, чем глубже я вживаюсь в старость.
Найти в прошлом то, что привело к настоящему; найти причины настоящего – но не его оправдание.
Si on parvenait à être conscient des organes, des tous les organes, on aurait une expérience et une vision absolue de son propre corps, lequel serait si présent à la conscience qu’il ne pourrait plus exécuter les obligations auxquelles il est astreint: il deviendrait luimême conscience, et ce serait ainsi de jouer son rôle de corps. E.M. Cioran. Écartèlement (1979).
(«Если бы нам удалось сознавать свои органы, все органы, мы обрели бы абсолютный опыт и абсолютное видение собственного тела, и оно стало бы для сознания таким реальным, что уже не могло бы исполнять обязанности, навязанные ему: тело само превратилось бы в сознание, которое играло бы роль тела». Чоран, «Четвертование».)
Denke daran, da/3 morgen heute gestern ist. Петер Вейс, автор известной пьесы «Марат – Сад» и огромного нечитаемого романа «Эстетика сопротивления». Попробуйте-ка перевести его изречение. «Помни о том, что сегодняшний день завтра станет вчерашним». Смысл, может быть, и сохранён, зато лаконизм и забавная словесная конструкция пропали.
Похоже на наши старые латинские загадки. Эпитафия: Tu eram ego eris. Сперва кажется – грамматическая нелепость, а на самом деле просто: «Я был тобою, ты будешь мною».
Я получаю по электронной почте письма по-латыни от Н.К. (вместе учились в университете), отвечаю ей на том же языке или, по крайней мере, стараюсь отвечать, и делаю ошибку: английское компьютерное attachment надо переводить appendix, а не adnexio.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































