Читать книгу "Миф Россия. Очерки романтической политологии"
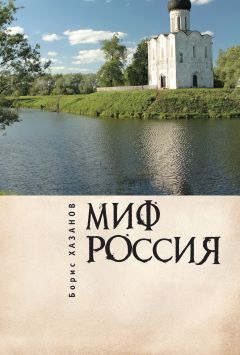
Автор книги: Борис Хазанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Написать о том, как некто покушается на роман, «панораму времени»; вместо этого он пишет о том, как роман не удаётся. Время отвергает таких сочинителей, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.
Написать о сером, незаметном человеке без имени, без профессии, без семьи, без пристанища, о том, чьё имя – quidam, Некто. Человек, чья бесцветность оправдана тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, человек-песчинка в песочных часах истории. Нет, нас не призвали всеблагие, как собеседников, на пир. Вихрь, мусорный ветер Андрея Платонова увлёк тебя за собой, славь судьбу и злодейское государство за то, что они оставили тебя в живых, прогнали вон.
Ты стучишь по клавишам: быть может, эти заметки «по поводу» столкнут с места пульмановский вагон твоей прозы. Написать о том, что роман не даётся? Но не значит ли это, что в дальней перспективе времени, в пропасти зеркал твои персонажи всё-таки живы и машут руками – то ли прощаются, то ли зовут к себе?
13
Престарелый Феникс. Он стоит, одна нога-лапа с длинными птичьими когтями, другая без ступни – он опирается на кость голени. Он держит копьё, на котором насажен череп. Остатки оперения торчат сзади, он гол, видна женская грудь, а вместо крыльев у него что-то похожее на отвисшие водоросли. Но по-прежнему горделиво закинута его голова с хохолком, с величественным клювом, с большим круглым глазом. Пустынный пейзаж: упавшая ветка, там и сям остатки иссохших цветов.
И всё же она бессмертна, эта птица-андрогин. Der greise Phonix, гравюра Пауля Клее.
Вслед за смертью автора, о которой писал Барт, испустил дух и роман. Умер как литературный жанр, лишился легитимации. Так говорят. Это утешает. Значит, дело не только в неудачливом сочинителе. Но роман, этот потрёпанный Феникс, возрождается чуть ли не на поминках.
Мандельштам: крушение человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений – отсюда и крах европейского романа, законченного в себе повествования о судьбе одного лица. Натали Саррот («Эра подозрений»): персонажи классической прозы – фикции; реальная личность неуловима; сюжет, интрига – всё износилось; роман изжил себя. Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, с какой издёвкой взглянет на это читатель, – им овладевают сомнения, рука не поднимается, – нет, он решительно не в силах. De te fabula narratur, о тебе речь, приятель. И опять погребение не состоялось, и с тех пор не раз ещё справляли панихиду по роману.
Когда литературная система приходит к концу, то оказывается, что сильнее всего в ней успела износиться иллюзия реальности. Эти герои, встающие и садящиеся, и раскуривающие папиросу, и думающие словами, которые придумал автор, – литературный факт, в каком-то последнем счете, быть может, того же порядка, что единство времени или цезура на второй стопе… После Толстого стремиться к материальной протяженности романа бесцельно. (Л.Я. Гинзбург.)
Речь идёт о чувстве исчерпанности. Отменить Толстого нельзя, как нельзя отменить солнечную систему. Но дальше так писать невозможно. Истощившиеся литературные парадигмы подхватываются эпигонами и в конце концов перекочёвывают в тривиальную словесность, которая кормится остатками былых пиров, как слуги допивают вино из бокалов ушедших гостей.
Роман умирает каждый раз после того, как явился реформатор романа. Мандельштам объявил роман «Жан-Кристоф» последним живым произведением этого жанра, но Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста стало казаться, что писать романы больше невозможно. Автор «Фальшивомонетчиков» вновь поставил под сомнение перспективы романа. Вирджиния Вульф, «Миссис Деллоуэй» или «К маяку», – и опять: жизнеспособно ли дальнейшее романное сочинительство? «Улисс» как будто окончательно поставил крест на романе. Кафка сызнова закрыл роман. Музиль пал в единоборстве со своим романом-Минотавром, успев нанести роману смертельный удар; казалось, потенции романистики исчерпаны. Но стареющий Феникс вновь находит в себе силы восстать из мёртвых.
14
В защиту фрагмента. Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель дрогнувшим голосом бросает вызов «эпохе». Я подумал, что заметки «по поводу», может быть, столкнут с места мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не даётся?
И не потому ли он оказывается в конце концов набором фрагментов. Эта эпоха похожа на отбивную – кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут. Плавное, связное повествование – роскошь, достоянье ушедшей поры, когда герой романа был субъектом Истории; сейчас он только её объект: её жертва Я начинаю догадываться, что поэтика нового романа есть черта эпохи. Крах полномочного Автора отвечает крушению веры в Историю.
Что такое фрагмент (от frango, ломаю)? Обломок чего-то; нечто выпавшее из целого; начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.
Это эпоха фрагментарного сочинительства. Это какие-то недописатели, они всё не дописывают.
Борис Дубин говорит о Чоране, о том, что он не находил себе места нигде: ни в географии, ни в быту, ни в литературе… Идиосинкратическим воплощением этого и стало его письмо, фрагментарное, как теперь выражаются, по умолчанию.
Господи, да ведь мы все – апатриды классического романа.
Век миновал, «наш» век, – не хотели бы мы принадлежать этому гнусному веку! Не время ли подбить итог? Соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Пусть в действительности светила удалены друг от друга на огромные расстояния, для наблюдателя это – созвездие, нечто связное. Собрать по кусочкам эпоху, как скелет ископаемого ящера. Самые разные события происходят в одно время, но лишь годы спустя осеняет мысль о взаимозависимости, о тайной перекличке. Она кажется объективным фактом. А на самом деле это умозрительный конструкт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким, когда был жив? Жил ли он на самом деле?
15
Паровой котёл эпоса. Гигантская тень Льва Толстого нависла над русской литературой. Уверенность в том, что жизнь нации бесконечно важнее, чем жизнь и участь отдельного человека, до того въелась, что побуждает сочинять народно-исторические эпопеи до сих пор.
Замысел кажется величественным, вдохновляет, окрыляет, а как дошло дело до исполнения… Медуза переливалась красками радуги, пока плыла в воде, стоит её выловить – комок бесцветной слизи.
По-видимому, фатальной ошибкой автора эпопеи «Красное колесо» была презумпция архаического жанра. Проект всеохватного эпоса, в котором судьба и поступки действующих лиц, будь то царь или крестьянин, купец или революционер, должны выглядеть как отражение истории. Этот проект был заведомо обречён. Хочешь не хочешь, а роль персонажей становится функциональной. Им незачем жить собственной жизнью: они кого-то – или что-то – «представляют». От этой иллюстративности им некуда деться. Многоосная музейная колесница с паровым котлом, неприспособленная для современных дорог и скоростей, двигалась еле-еле и, наконец, стала. В который раз пришлось убедиться, что время монструозных эпопей прошло совершенно так же, как умчался век эпических поэм.
Я никогда не понимал людей, которые гордо заявляли, что они жили «со своим народом», славили величие нашего времени, гордились тем, что шагают с ним в ногу, утверждали, что живут «в истории»; я не понимаю, как можно жить в такой истории. Литература противостоит истории. Литература дискредитирует историю. Но этот злой демиург Чорана (le mauvais demiurge) дискредитировал сам себя. Мы живём в царстве абсурда. Мы родились в этом царстве, в нём и околеем.
Для всего нашлись объяснения. Всё было построено на рациональных основаниях, расчислено, распланировано, технизировано, бюрократизировано, санкционировано наукообразной идеологией. Но за этой наукой и техникой, логикой и организацией скрывается пустота – чёрный провал. Двигаясь назад по цепочке причин, следствий, оснований для поводов и причин для причин, мы в конечном итоге упрёмся в абсурд.
Перед лицом истории ты ничто. Девятнадцатый век был назван веком отчуждения человека от производства. Двадцатый принёс отчуждение от истории. От того, что когда-то, ха-ха, именовалось историческим разумом. Мы, как муравьи в щелях и трещинах лживой, политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального достояния, размалёванной, словно труп в палисандровом гробу, истории. С исторической точки зрения жизнь человека значит не больше, чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви. Лагерные лошади выволакивают голые стволы с делянок на лесо-склады. Зелёный убор сгорает на кострах. Остаются кладбища пней и поля чёрного праха. Остаются «поля захоронения»: гигантские кладбища без крестов и надгробий, где лежат в болотной трясине миллионы строителей счастливого будущего.
16
Литература, наркотик свободы. И в который раз задаёшь себе вопрос: возможно ли связать то, что ещё удавалось творцу «Войны и мира» и что сегодня уже никак не связывается, соединить два времени, историческое и человеческое, найти волшебное уравнение литературы – нечто сравнимое с физическим соотношением неопределённостей Гейзенберга?
Соединить – или столкнуть лбами?
Что делать литературе, которая в конце концов ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только индивидуальной, тайной, внутренней жизнью человека, что делать литературе, для которой нет великих и малых и слезинка ребёнка дороже счастья человечества, не говоря уже о том, что и счастье-то оказалось мнимым?
Как всякое искусство, литература существует ради самой себя, другими словами – ради человека. Литература абсолютна: небеса пусты; человеческая личность – её абсолют.
О, эта риторика свободы! Человек не как представитель чего-то, будь то профессия, социальный слой, общество или нация, но человек сам по себе, «просто так», хоть он и живёт в своём веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и прикован к обществу и государству, которые сочли его своей собственностью. Фет, на вопрос, к какому народу он хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к какому».
Если художественная литература несёт какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (чаще всего не хочет). Но потому, что он так устроен. Такова природа существа, наделённого индивидуальным сознанием. Человек заключён в своей свободе, – пусть же литература напомнит ему об этом. Литература есть воплощение его достоинства. В этом её скрытый пафос. В этом, может быть, и её последнее оправдание. Сопротивляться! То, чего не достигла религия, чему не смогла научить гуманистическая философия, посреди сумасшедшего дома истории принимает на свои плечи литература, триединство Слова, Свободы и Духа, как пышно выразился Эрнст Юнгер.
17
Новый ангел. Картон Клее «Angelus Novus», некогда приобретённый Вальтером Беньямином, хранится в Музее Израиля, в Иерусалиме.
Кажется, он сейчас отшатнётся от чего-то, к чему прикован его взгляд. Его глаза выпучены, рот приоткрыт, крылья распахнуты. Должно быть, так выглядит ангел Истории. Свой лик он обратил к прошлому. Там, где нам видится череда цепь случайных происшествий, он зрит непрекращающуюся катастрофу, груды развалин, которые она без устали швыряет к его ногам. Ему хочется крикнуть: «Остановись!», разбудить мёртвых, восстановить то, что разбито вдребезги. Но ветер бури несётся из рая с такой силой, что ангел не может сложить свои вздыбленные крылья. Буря гонит его в будущее, он повернулся к нему спиной, а лицом – к горе обломков, что растёт до неба. Этот ветер и есть то, что мы называем прогрессом.
Восемнадцать тезисов «О понятии “История”», Ueber den Begriff der Geschichte (Новый ангел – IX тезис), Беньямин набросал в первые месяцы после освобождения из лагеря интернированных иностранцев. Героическая попытка слепить новую концепцию истории, которая насмехается над всяческим теоретизированием. Откопать логику среди руин.
Некий высший разум берёт на вооружение исторический материализм, правда, своеобразно толкуемый. В первом тезисе говорится о шахматном автомате конструкции некоего барона фон Кемпелена. Кукла в восточном тюрбане покуривает из кальяна, сидя перед доской с фитурами, хитроумная система зеркал создаёт иллюзию полной отъединённости игрока, так что его можно обозреть со всех сторон. Искусственный шахматист всегда выигрывает.
В действительности в столе спрятан карлик-гроссмейстер, он управляет рукой куклы.
Нечто подобное (заключает Беньямин) можно представить себе в философии. Считается, что кукла, называемая историческим материализмом, всегда выигрывает. Она может успешно сразиться с любым – но при условии, что на помощь ей приходит теология, столь презираемая в наше время.
Между тем Франция капитулирует, одно из условий перемирия с Германией – выдача эмигрантов оккупационным властям, Беньямин пытается бежать от гестапо через Пиренеи в Испанию – неудачно, попытка противопоставить человеческий разум и достоинство личности абсурду истории заканчивается самоубийством.
Бог истории – Злой демиург – потерпел крах вместе с марксизмом, которому едва успел обучиться.
18
Точка отсчёта. Роман «Госпожа Бовари» начинается с воспоминания о школе. Мы готовили уроки, когда вошел директор… кое-кто дремал, но тут все мы очнулись и вскочили… директор сделал нам знак сесть… В классе появился новичок по имени Шарль Бовари. После чего повествователь исчезает: нигде больше эти «мы» и «нам» не упоминаются.
Вам рассказывают о чём-то. Обыкновенно задаётся вопрос: о чём? Обсуждается содержание. Так поступают критики. Нас, однако, интересует, кто рассказывает.
Анна Каренина не знает о Толстом, но Толстой всё знает об Анне Карениной. Нет оснований усомниться в его компетентности. Романист читает в сердце своей героини, он читает во всех сердцах. Романист, как Наполеон, сидит на барабане где-нибудь на холме, откуда открывается вид на всё поле битвы. Мир романа есть мир, видимый метанаблюдателем с неподвижной точки зрения, вынесенной за пределы этого мира.
Мы могли бы снова вспомнить о шахматах, сравнив романиста с игроком, который вдобавок способен воплощаться в любую из фигур. Он склонился над доской, и он же стоит на доске: небожитель, который сошёл на созданную им землю. Он втянут в водоворот событий и умрёт в эндшпиле. Тесный мир доски представится ему единственным реальным миром. И когда ему захочется знать, кто же сотворил этот мир, он создаст гипотезу Игрока.
Он будет рассуждать о своём уделе на доске мира и, как Иов, возропщет на творение и Творца. Вслед за Паскалем он будет шептать о том, что всё его достоинство, достоинство деревянной фигуры, – в разуме. Такова теология классического (реалистического) романа. Проза, которая представляет собой набор изживших себя условностей, в совокупности создающих эффект жизненной правды.
19
Торжество литературного атеизма. Письмо Флобера к пожилой девушке m-lle Leroyer de Chantepie, – род литературного катехизиса; писатель в своём произведении – как Бог в природе. Это полдень классического романа. И вот происходит нечто вроде затмения солнца, темнеет вокруг. Богоподобный автор низвергнут с литературных небес.
Главное – особый тон рассказа (Достоевский в набросках к «Бесам», 1870). Повествование ведётся от первого лица, тем не менее это не традиционная Ich-Erzahlung. Повествование от имени человека, у которого по существу нет имени. То, что формально какое-никакое имя всё-таки есть – «хроникёра» зовут Антон Лаврентьевич, – быстро забывается, и не только оттого, что имя это упомянуто всего два раза на восьмистах страницах романа. Но потому, что это упоминание вынужденное. Имя-отчество г-на Г-ва носит чисто функциональный характер. Когда впервые Хроникёр вместе с Шатовым наносит визит Лизавете Николаевне, возникает необходимость представить гостя, после чего по русскому обычаю полагается обращаться к нему по имени и отчеству. В дальнейшем это имя и отчество не всплывает. Фамилия сокращена, она и вовсе не имеет значения. Гаврилов, Горохов – какая разница?
Пытались подставить под него какое-нибудь реальное лицо, подыскивали прототип. Ложная идея. Хроникёр – не действующее лицо. Он вообще не лицо. Он чрезвычайно скромен, ничего не рассказывает о себе. Мы не знаем, как и на что он живёт, есть ли у него семья. У него нет биографии. Едва взявшись за перо, он предупреждает о своём неумении рассказывать о событиях. На самом деле он совсем неплохо справляется со своей задачей.
Чем он, собственно, занят? Да ничем, – кроме того, что беседует с многочтимым Степаном Трофимовичем, бегает целыми днями по городу, где всех знает, слушает разговоры, собирает сплетни. И всем этим делится с читателем, рассказывает о своих впечатлениях, строит догадки.
Спрашивается, зачем он нужен в романе. Ответ отчасти готов: хотя бы для того, чтобы было перед кем разливаться соловьём Степану Трофимовичу. Этот Г-в необходим ему, как Горацио – принцу Гамлету. Другие заняты денежными делами, любовью, политиканством; заговорщики собираются развалить общество и столкнуть мир в тартарары. Все при деле. У Г-ва никаких дел нет, много свободного времени.
Композиционная функция Хроникёра состоит в том, что он связывает всех действующих лиц и соединяет все нити; он – центр повествования. Но это, странно сказать, безликий центр. Нулевая точка отсчёта. Или, скажем так, некая точка зрения. Г-в нужен, потому что только он может сообщить нам необходимую информацию. Условием для этого, однако, является неучастие: в отличие от привычного «я» – живого участника событий, Хроникёр – не персонаж среди других персонажей.
20
Сомнительная действительность. Спрашивается, насколько «адекватна» информация Хроникёра. Можно ли вполне доверять его рассказу. Опыт «Бесов» пригодился автору для «Братьев Карамазовых», где целые страницы представляют собой пересказ чего-то услышанного, кем-то обронённого. В «Бесах» это главный принцип повествования. Автор передал свои функции кому-то. Это значит, что автор умывает руки. Он снимает с себя ответственность за речи героев, за их поступки, за достоверность рассказа в целом.
До сих пор эту информацию принимают без оговорок, в наивной уверенности, что Хроникёр – уполномоченный всезнающего автора. Как бы не так. Кто же он всё-таки? Мой ответ: персонифицированная молва. Глас народа. Клубок общепринятых версий; совокупность фактов, какими они отражены в усреднённом представлении городского обывателя, перетолкованы общественным мнением; реальность, воспринятая обыденным сознанием.
Этот господин Г-в – не я и не он, а скорее «оно», и у него есть свои литературные предки и свои потомки. Хроникёр «Бесов» – это выродившийся хор античной трагедии, комментирующий события, пристрастный, сострадающий, восхищённый, возмущённый. Что касается потомков, то вот, например, один: доктор Серенус Цейтблом. Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна […] я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу. В том-то и дело, что особа эта – человек благородный, но бесцветный. Сам по себе он, как и Хроникёр «Бесов», совершенно неинтересен.
Для каждого предмета, учил Флобер, существует только одно определение – нужно его найти. Нужно уметь прочесть единственно верную версию, которая даже и не версия, но сама истина – зеркало действительности; нужно верить в действительность действительности. А = А, иных, альтернативных версий не может быть.
И вот явился романист, у которого бог истины аннулирован. Парадокс, не правда ли: писатель с устойчивой репутацией монархиста и реакционера оказывается в своей поэтике революционером и атеистом. В «Бесах» предложена неслыханная для современников концепция действительности – ненадёжной, неоднозначной, скорее вероятностной, чем детерминистской, настолько же «объективной», как и субъективной.
Никто не может ручаться за абсолютную достоверность сведений, которые вам сообщают. Эта валюта ничем не обеспечена. Весь роман проникнут духом подозрительности (столь свойственной характеру человека, который его написал). И не то чтобы вас сознательно водят за нос. Хроникёр – воплощённая честность. Просто жизнь такова, что её, как в квантовой физике, невозможно отделить от измерительного прибора. Действительность представляет собой конгломерат версий, и лишь в таком качестве может быть освоена литературой.
Жуткий смысл фигур и событий брезжит из тёмных и гиблых низин этого мира, онтология его удручающе ненадёжна. Познание проблематично. Последней инстанции, владеющей полной истиной, попросту нет, и этим объясняется чувство тягостного беспокойства, которое не отпускает читателя.
21
Исповедь Ставрогина. Но сказанное все же нельзя отнести ко всему роману. Писатель непоследователен, нет-нет да и сбивается на квази-объективную манеру повествования. Таковы первые главы 2-й части, «Ночь» и «Продолжение». Расставшись с Петром Степановичем, Ставрогин допоздна сидит в забытьи на диване в своём кабинете, очнувшись, выходит под дождём в сад, «тёмный, как погреб». Шагает по безлюдной Богоявленской и, наконец, останавливается перед домом, где в мезонине квартирует Шатов. Во флигеле живёт инженер Кирилов. Обе встречи чрезвычайно важны для сюжета. Но о них никто, кроме участников (и автора), не знает.
Далее – Заречье, визит к капитану Лебядкину. [Ставрогин] прошёл всю Богоявленскую улицу; наконец, пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство – река. Дома обратились в лачужки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков…
Я жил в Твери (в романе не названной), застал и эти домишки, и тусклые закоулки. Всё так же, едва различимая, угадывалась во тьме Волга. Полудеревенский дом, блеск лампы, скрип половиц, переломленные тени спорящих. И бесконечный дождь за окошком…
И лихорадочные речи Шатова, и безумный проект Кирилова, и ночное, загадочное, в глухом одиночестве, странствие Николая Всеволодовича по призрачному городу – всё, как сон. На мосту (в 1860 г. это был плавучий понтонный мост) к Ставрогину выходит ещё один призрак, Федька Каторжный. И опять же Хроникёр никак не мог бы проведать, о чём они толковали.
Сюда же – выпущенная глава «У Тихона». Откуда, спрашивается, было знать Хроникёру о беседе с Тихоном, не говоря уже о том, чтобы заполучить «три отпечатанных и сброшюрованных листочка» – исповедь Николая Ставрогина.
У меня есть только один ответ, почему писатель в этих главах забывает о полуанонимном повествователе и рассказ принимает характер традиционного изложения «от автора». Если г-н Г-в не есть романный персонаж в обычном смысле, а скорее субперсонаж, то Николай Ставрогин – это сверхперсонаж. (Можно было бы сказать: супермен.) В сцеплении действующих лиц ему отведена особая роль. Как эпицентр бури, он мертвенно-спокоен. Будучи центральной фигурой, он вместе с тем стоит над всем, что происходит, – над романом. В этом смысле ему закон не писан.
Его активная роль – в прошлом, до поднятия занавеса. Факел сгорел, остался запах дыма. В романе появляется бывший вождь, которому революция наскучила совершенно так же, как сегодняшнему читателю наскучили славословия Достоевскому – пророку гибельной революции 1917 года. (У бесов Достоевского весьма мало общего с большевиками.)
Был учитель, вещавший огромные слова (говорит Шатов), и был ученик, воскресший из мёртвых. Я тот ученик, а вы учитель. Неподвижная чёрно-серебряная звезда, вокруг которой вращаются, на ближних и дальних орбитах, «бесы» во главе с Петей Верховенским; маменькин сынок, богач и красавец, которого облепили женщины. Николай Ставрогин никого не любит, ни в ком не нуждается. В сфере усреднённого сознания, какую репрезентирует условный рассказчик, этот демон не помещается.
Напрашивается другая аналогия, и, быть может, здесь приоткрывает себя тайна принципиальной амбивалентности замысла, амбивалентной психологии самого писателя. Ставрогин – от греческого отапрод, крест, – Ставрогин с бесами – зловещая трансвестиция Христа с учениками, роман – негатив Евангелия.
22
Предвидение наизнанку. Что-то должно было перемениться к осени 1971 года, если в руководящих инстанциях решили отпраздновать 150-летие Фёдора Михайловича Достоевского, и притом по высшему разряду. На торжественном заседании в Большом театре (где я был) официальный литературовед Борис Сучков возвестил о реабилитации автора «Бесов». Ещё недавно роман считался клеветническим, порочащим революционное движение. Автор был заклеймён Лениным как «архискверный». Теперь оказалось, что писатель развенчал не настоящих, а ложных революционеров – анархистов и заговорщиков, – то есть в конечном счёте совершил благое дело.
Много лет прошло с тех пор, снова переставлены знаки, но манера читать и толковать Достоевского, похоже, осталась прежней. Роман «Бесы» – урок и предостережение: Достоевский предсказал русскую революцию. Предвидел, провидел судьбу России в двадцатом веке, предвосхитил то, что не снилось никому из русских писателей, а заодно и европейских. Как в воду смотрел.
Дальше – больше, и, по словам известного критика и публицистки, «Бесы» – это и большевики, и меньшевики, и эсеры; это и февральская революция, и октябрьский переворот. И гражданская война, и коллективизация, и 37 год, и так далее. «Каждый раз на историческом повороте, вплоть до наших дней, Россия могла найти аналог случившемуся в “Бесах”».
Можно сколько угодно актуализировать этот роман, отыскивать параллели и дивиться прозорливости автора, якобы угадавшего все беды Двадцатого, а теперь уже и Двадцать первого века, – бессмертие Достоевского и бессмертие «Бесов» не в долговечности его прогнозов, а в долговечности искусства.
С тем же правом, с каким мы говорим о торжестве художника, можно говорить о поражении национального мечтателя, православно-христианского идеолога, почвенного мыслителя и своеобразного консервативного революционера. (Публицисты Консервативной революции в Германии 20-х годов – как много у них общего с Достоевским!)
Это поражение, этот крах сам по себе есть пророчество, негативное пророчество, над которым можно было бы крепко задуматься, если не терять головы. Поразмыслить и о той доле идейной вины, которую несёт Достоевский, чьё исступлённое народопоклонничество, проповедь всемирно-очистительной миссии России, величия мужика Марея и т. п. опьянила русскую интеллигенцию, способствовала, вопреки ожиданиям писателя, сочувственному приятию радикально-освободительной идеи, приуготовила интеллигенцию к революционному самопожертвованию и самоубийству.
23
Лео Блум и Саня Лаженицын. Две книги напоминают циклопические сооружения древности; обе намеренно или непроизвольно ориентированы на архаический эпос. (Лев Лосев сравнивал «Красное колесо» с Повестью временных лет.) Оба романа порождены титаническим усилием создать литературную вселенную, которая выдержала бы соперничество с реальной вселенной. Два монстра равно смущают пестротой своего состава, но должны восприниматься как нечто целое.
На этом, возможно, сходство кончается, и более того, есть нечто ставящее их по обе стороны водораздела. Хотя действие обеих книг приурочено к одной и той же эпохе, они принадлежат двум векам литературы.
Действие 1200-страничного «Улисса» укладывается в 18 часов. Весь этот долгий день Блум блуждает по городу – Одиссей плывёт по морю от одного острова к другому. Вечный Жид скитается из века в век. Час жизни Блума соответствует 65 страницам романа, одна страница – минута с небольшим; этот простой подсчёт сделал Герман Брох. Литературное время буквально совпадает с временем жизни, или, что то же, с временем, как оно протекает в сознании героя. Вместе с тем оно раздувается, как мыльный пузырь. Один день Блума равен тридцатилетнему путешествию Одиссея или двадцативековому странствию Агасфера. Или, если дать волю фантазии, соответствует трём возрастам жизни, трём эпохам европейской истории; ипостасям Троицы, ступеням постижения мира в томистской теологии. Но вот пузырь лопается – бедняга Блум, потный и усталый, мотается, ни о чём не подозревая, по улицам и закоулкам Дублина, забредает на пляж, замечает там хромую девицу, и… и что там ещё происходит: мелочи, труха.
Роман строится по принципу обратной перспективы, тесное пространство и ограниченное время действия раздвигаются до вселенских масштабов. У читателя кружится голова. Но стоит протереть глаза, и вновь перед нами один-единственный, ничем не замечательный день 16 июня 1904 года, Bloomsday, суета маленьких людей, «жизни мышья беготня».
Действие эпопеи под названием (довольно безвкусным) «Красное колесо» охватывает примерно четыре года; выбрано несколько коротких отрезков; по определению автора, это повествование в отмеренных сроках. Слово «отмеренный» надо понимать буквально, в этой прозе время не имеет ничего общего с мифом, это именно то эмпирическое время, которое обозначено датами-заголовками. Время, решающее для судеб страны, узлы или сгустки истории.
Джойс говорит устами Стивена Дедалуса о кошмаре истории, от которого он хочет пробудиться. В прозе Солженицына история составляет главнейший предмет повествования. История заменяет сюжет и оттесняет художество.
Писатель намерен восстановить исторический процесс, в который вовлечены все, от крестьянина до монарха, предлагает окончательный вариант исторической истины – то, что должно отменить лживую историю революции, навороченную идеологами коммунизма. Отсюда общая установка на правду — достоверность историко-документального исследования и правдивость жизнеподобной беллетристики. Всё в романическом цикле Солженицына: пейзажи, диалоги, дискуссии, любовные сцены, описания боёв – должно выглядеть так, как оно происходит в жизни, видимой через оконное стекло.
Иначе говоря, это та картина действительности, какую рисует себе усреднённое, обыденное сознание. Такое сознание не позволяет вторгнуться гротеску, не даёт себя исказить иронии, не склонно к мифологизированию. Такое сознание, вопреки кажущемуся «полифонизму» романа, унитарно. Ему чужды догадки относительно того, что действительность может быть зыбкой и двусмысленной, что её вообще можно поставить под сомнение. Автор убеждён: истина, какой бы сложной она ни была, всегда едина, всегда равна самой себе. Наконец, это сознание отождествляет себя с народным и национальным сознанием – писатель говорит как бы от имени народа и обращается к народу.









































