Текст книги "Миф Россия. Очерки романтической политологии"
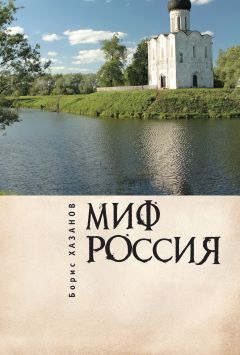
Автор книги: Борис Хазанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Профессор Борг в «Земляничной поляне» Бергмана («Wilde Erdbeeren») живёт в настоящем времени, как сидящий за рулём следит за дорогой, но думает совсем не о том, что несётся ему навстречу. В моём романе «Нагльфар…» была старуха, которую считали сумасшедшей, отчасти так оно и было, но она обладала способностью жить в разных временах. Там говорится, что это привилегия старости.
После выпуска последних известий на экране телевизора появляется бог грома и молнии. Прогноз погоды: бог сообщает о своём решении. На завтра намечена буря – ураган и град.
Посмотрим, сказал слепой. (Mal sehen, sagte der Blinde).
Нельзя иметь всё что захочешь, сказал обезглавленный. (Man kann nicht alles haben, sagte der Entkopfte).
Чтобы социализовать умственно неполноценных людей, устраиваются лечебные мастерские: слабоумные клеют картонные коробки и т. п., обнаруживая при этом исключительную старательность.
Чтобы дать работу садистам, создана тайная полиция: следственные управления, тюрьмы, подвалы и пр., изобретается героическая мифология бдительности, «государственная безопасность», борьба с фантомными врагами и так далее.
Социальный аспект советской литературы. Организованная литература превращает писателей в особое сословие. Они не только изображали («отображали», тогдашний термин) выдуманную жизнь, они сами отгородились от действительной жизни. «За далью даль», поэма Александра Твардовского, демонстрирующая поразительное незнание реальной жизни страны.
Сборник «Как мы пишем». Невозможно не подивиться тому, что читателей 1930 года, на пороге мёртвого времени, могло интересовать, как работает литератор, составляет ли он план работы, когда пишет – утром или по ночам, чем пишет, и проч. Ещё удивительней прямо или косвенно высказанная в каждом ответе уверенность писателей в том, что публика интересуется ими, ждёт их произведений, что у людей есть время и охота их читать.
Сборник «Как мы пишем»: любопытно всё же взглянуть, что осталось от мастеров.
Некоторых – Тихонова, Слонимского, Ник. Никитина, Чапыгина, Лавренёва – поглотило забвение. Другие – Ольга Форш, Вяч. Шишков – стали малочитаемыми авторами. Почти то же можно сказать о Вениамине Каверине, который пережил почти всех своих современников и друзей, сумел сохранить лицо, но остался автором одного произведения – «Двух капитанов». Юрия Либединского никто ни за какие коврижки не станет читать. Федин безнадёжно испортил свою репутацию, но и без того ясно, что оценка была непомерно завышена. Евгений Замятин и Борис Пильняк, вычеркнутые из святцев, вернулись, но былой популярности уже не приобрели. К Алексею Толстому, отнюдь не забытому, ставшему малым классиком, установилось насторожённое отношение, и не зря. Устояли Виктор Шкловский и Юрий Тынянов. Звезда Михаила Зощенко не только не потускнела, но разгорелась ещё ярче. Белый – классик русской литературы. Горький остался тем, чем был.
Странная компания, чем-то напоминающая коммуналку тридцатых годов, где на кухне стояли рядом потерявшая всё, кроме титула, дворянка и перебравшаяся в город дочь пастуха. Пролетарский писатель Юрий Либединский, для которого культура началась позавчера, и рафинированный интеллигент, поэт-символист и теоретик символизма, московский мистик и антропософ Андрей Белый. Поразительно, какой резкий отблеск бросает на всех время, казавшееся прологом вечности, на самом деле до смешного недолговечное. Белый, которому остаётся жить немногим больше трёх лет, заключает рассказ о своих трудах и мытарствах надеждой, что «в 2000-м году, в будущем социалистическом государстве», творчество Белого будет признано «потомками тех, кто его осмеивает как глупо и пусто верещащий телеграфный столб».
Время порабощает писателя. Даже серьёзные литераторы, дети старой культуры, культивируют простоту, понимаемую как упрощение. Драматург Борис Лавренёв, который мог бы сказать о себе, как Филипп Филиппович Преображенский: я московский студент (окончил до революции юридический факультет), в 1930 году излагает своё новое кредо: «Когда мы пишем для театра и для читателя…, мы имеем дело с рядовой массой, состоящей из сотен тысяч людей, из которых девяносто процентов никогда не соприкасались с законом конструирования литературного слова… Я считаю, что язык пьесы должен быть не выше среднего языка. Он должен быть языком простым и не выходящим за пределы понимания рядового слушателя». Зощенко: «Писателю наших дней необходимо научиться писать так, чтобы возможно большее количество людей понимало его произведения… Для этого нужно писать ясно… и со всевозможной простотой».
О, не смейтесь над Либединским и прочими. Эти нищие духом – кто они такие? И кто вы? Их потомки.
Каждое утро я проезжал мимо большого здания у начала Ленинского проспекта и читал лозунг: «Выше знамя социалистического соревнования за дальнейшее повышение качества».
Я старался понять, что это означает.
Некто держит знамя – полотнище на длинной палке. Эту палку надо поднять ещё выше. На самом деле, однако, речь не об этом; никакого знамени не существует. Речь идёт о социалистическом соревновании. Но в действительности никакого соревнования нет, просто кто-то где-то работает. Хотя качество этой работы высокое, его надо сделать ещё выше. Но добиться этого тем способом, который рекомендован, то есть поднимая знамя соревнования, невозможно, так как не существует ни знамени, ни соревнования.
Фраза, составленная грамматически правильно, напоминает сложный арифметический пример с дробями и многочленами. Ученик долго решает его – в итоге получается ноль.
Решающим шагом в расшифровке экзотических письменностей была догадка, что мы имеем дело не с орнаментом, а с письмом. Vice versa, изречение о знамени – не письмо, а орнамент. Украшение, узор; нечто практически нечитаемое.
Рядом висел другой лозунг: «Отличному качеству – рабочую гарантию». Эта фраза ещё загадочней. Попробуйте объяснить её ребёнку или перевести на иностранный язык. Ни одно из четырёх слов не имеет реального смысла.
Впрочем, осторожней. Некогда знаменитое изречение Сталина: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира возьмут дело сохранения мира в свои руки и доведут его до конца» – пример словесной конструкции, казалось бы, начисто лишённой содержания. Ан нет. На самом деле перед вами зашифрованное сообщение, тайный язык, вроде жаргона воров: к нему нужен ключ, каждое слово требует перевода. Кроме того, есть пустые знаки-слова, назначение которых – сбить с толку дешифровщика. Фраза Вождя означала: «Надо вооружаться».
В журнале «Мурзилка» существовала Умная Маша. Мама читала книжку, а Умная Маша рисовала. Мама читала: «Солнце село». Умная Маша рисовала кресло и Солнце – круглоголового дедушку, который сидит в кресле. Но солнце – понятие такое же конкретное, как и кресло. Солнце существует на самом деле. Задача политического языка – вытеснить действительность и образовавшуюся пустоту задрапировать словами, лишёнными смысла. В слова можно веровать. Не говоря о том, что словами с успехом можно заштопать прохудившуюся веру. Из слов можно соорудить систему, говорит Мефистофель.
Denn eben, wo Begriffe fehlen,
Da stellt das Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten laBt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten.
An Worte laBt sich trefflich glauben…
(Пастернак: Бессодержательную речь Всегда легко в слова облечь. Из голых слов, ярясь и споря, Возводят здания теорий. Словами вера лишь жива. Как можно отрицать слова?)
Холодковский: Прекрасно, но о том не надо так крушиться: Коль скоро недочёт в понятиях случится, Их можно словом заменить. Словами диспуты ведутся, Из слов системы создаются; Словам должны вы доверять: В словах нельзя ни йоты изменять).
Перевод Холодковского лучше, честнее.
Во время литературного диспута на тему: «С кем и за что мы будем драться в 1929 году?» Александр Фадеев сказал: «Мы, напостовцы, представляем такой литературный отряд, который хочет быть в современных условиях пролетарскими революционерами». То есть писатели и критики не собираются сидеть в редакции журнала «На посту», а хотят шагать в виде военного формирования – отряда. Этот отряд снова совершит революцию, и не какую-нибудь, а пролетарскую.
Цитата из «Платформы крестьянско-бедняцких писателей»:
«Целый ряд товарищей, проводивших правокулацкую линию, всё ещё не отказались от неё. Комфракция крестьянско-бедняцких писателей опирается на массовое движение сознательных деревенских низов. В условиях, когда к власти пришёл пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством, идеи могут быть только пролетарскими, крестьянско-бедняцкими и батрацкими. Спрашивается: как же можно в условиях господства пролетариата и беднейших слоёв крестьянства мириться с наступлением непролетарской и небедняцкой идеологии? Наш ответ один: смертельный бой!»
Надо представить себе, чем были в действительности крестьяне-бедняки тогдашней России, какова была их житуха. В какой мере их могла интересовать литература. Надо всё это представить, чтобы убедиться: перед нами клинический документ. Его составили душевнобольные люди. Но они не были больными. Просто термины и словосочетания, которыми они жонглировали, не имели реального содержания. Это были слова-пустышки, наподобие мнимых величин в математике, над которыми производятся операции по аналогии с действительными величинами.
Фантомные понятия вроде «гегемонии пролетариата», «литературы рабочего класса», постулаты идеологической выдержанности, выпрямления или искривления партийной линии и проч, завладели умами настолько, что взрослые и серьёзные люди готовы были месяцами спорить о том, как надлежит манипулировать этими словами.
Этот язык зародился в социалдемократических кружках 90-х годов, в густом папиросном дыму ночных собраний, где лысеющие молодые люди в стоячих воротничках и женщины в пенсне и кринолинах осипшими голосами пререкались о рабочем классе и капитале, вещах, о которых не имели ни малейшего представления.
Кризис эротики1
Молодой человек Юлиус влюблён в юную девушку; наступает момент, когда надо действовать, но он ничего не предпринимает, благоговея перед её невинностью. На другой день выясняется, что она недовольна, обижена тем, что Юлиус ею не овладел.
Мы пожимаем плечами, читая о скандале вокруг неслыханной откровенности романа Фридриха Шлегеля «Люцинда».
Процесс над Флобером, над Бодлером, над автором «Любовника леди Чаттерли» кажется недоразумением. С Джойса сняты наручники. Выпущен на свободу через 185 лет после смерти в психиатрическом заточении «божественный маркиз» де Сад. Книги Жоржа Батая признаны доброкачественной литературой, о них написаны солидные труды. Лишился пикантности апостол секса Генри Миллер, увяла Анаис Нин, о многочисленных подражателях нечего и говорить.
Выяснилось, что сочинять порнографическую литературу, вообще говоря, не так трудно. Сколько шума ещё совсем недавно наделал в русской эмиграции жалкий «Эдичка»! Такие романы можно печь, как оладьи.
2
Никакая прежняя эпоха не могла похвастать такой армией похабнейших писателей, лишив их одновременно ореола недозволенности; никакая эпоха не располагала такими возможностями тиражирования порнографических текстов, никакое общество не могло помыслить о таких масштабах коммерциализации секса. То, что ещё недавно могло казаться реакцией на ханжество предшествующей эпохи, восстанием против буржуазного или коммунистического лицемерия, стало рутиной массовой потребительской культуры. Приходится признать, что колоссальные усилия, потраченные в своё время на то, чтобы разрушить заборы, которые воздвигло ханжество, пропали даром. Оставшись без всего, растабуированная, раздетая догола эротика сбежала.
3
С художественной истиной дело обстоит совершенно так же, как с женщиной; довольно тривиальное уподобление. Природа истины такова, что ей подобает игра с покрывалом. Истина может поразить, лишь явившись полуодетой. Больше того, лишь до тех пор она и остаётся истиной. Подобно тому, как эротично не голое тело, а способы его сокрытия, прямая речь бьёт мимо цели. Это и есть та самая «неправда правды», о которой говорит ставший модным в России Жак Деррида (в трактате «Шпоры»). И получается, что для того, чтобы восстановить таинственное очарование наготы, ничего другого не остаётся, как захлопнуть книжку.
Язык истины, уловить которую так же трудно, как поймать в невод русалку, единственно возможный язык, который нам придётся отыскивать заново, – откровенно-прикровенен. Это – язык чувственный и философский, метафорически двусмысленный, бесстрашно-уклончивый, язык, который осциллирует, как луч между зеркалами, это речь об этом и одновременно о другом.
4
Порнография девственно наивна. Порнография однозначна. Вот то, что противоречит природе романа, который не знает, чего хочет, допускает бесчисленное множество интерпретаций и, в конечном счёте, уходит, ускользает от всякой интерпретации. В этом состоит источник бесконечных недоразумений между романистом и его критиками и читателями, всегда склонными вкладывать в книгу неожиданный для его создателя и, что ещё важней, один-единственный смысл. Автор порнографических произведений не имеет оснований жаловаться на непонимание: у него никогда не бывает недоразумений с читателем.
___
Когда-то я сочинил повесть-притчу о короле карликового государства, страна оккупирована вермахтом, издаются грозные указы, небольшое еврейское население королевства подлежит изоляции. Престарелый монарх выходит на улицу, украсив себя звездой Давида, и по его примеру все жители столицы надевают жёлтые звёзды. Вы спрашиваете меня: куда всё это делось? Персонажи моих прежних сочинений, король и другие, совершали поступки в духе некоторого высокого идеала. Этот идеал соединял противостояние злу, гуманизм и религиозность, хотя бы и не прокламируемую. Почему они исчезли с моих страниц? Вместо этого я позволил себе опубликовать роман, который начинается с поистине отталкивающей сцены: столица великой страны загажена ядовитым помётом неизвестно откуда налетевших, зловещих птиц. Птичий кал шлёпается с крыш, висит на зданиях и памятниках, течёт по улицам, отравляет воду и психику людей. Что означает эта пародия на гибель Содома? Издёвку? Над кем?
Вы говорите о трагическом недуге современной литературы, в том числе русской, и даже в первую очередь русской; вы видите во мне представителя этой литературы или, лучше сказать, делаете из меня ближайшего козла отпущения.
На ваш вопрос, что стряслось с идеалами и куда подевалась «ценностей незыблемая скала», я бы ответил так: идеалы растворились в литературе. Король Клавдий в последней сцене «Гамлета» поднимает кубок, растворив в нём жемчужину из короны датский королей. Вот так же растворились герои-идеалисты в современной литературе. Напрасно было бы их искать: их функции взяла на себя сама словесность. Видите ли, и смысл нашей работы (если она вообще имеет какой-то смысл), и ответственность писателя (если это слово ещё что-то значит) – все эти вещи приходится постоянно обдумывать заново.
Такая литература может казаться равнодушной к добру и злу, но это не значит, что ей на всё наплевать. Я полагаю, что большая литература не вовсе иссякла и в нашем веке – и не лишилась сознания того, что она излучает некую весть, благую и мужественную. Может быть, эту весть не так легко расслышать, это великое Подразумеваемое не так просто угадать, ибо оно не артикулируется так, чтобы его можно было без труда вычленить и распознать, не подставляет себя с охотой религиозным интерпретациям, оно, как я уже сказал, химически растворено в прозе. Чего, однако, современная литература в самом деле лишилась, невозвратимо лишилась, так это веры в абсолютную ценность бытия, в благое божество, правящее миром.
Вы говорите об отказе от «вертикального измерения», о том, что искусство отвернулось от христианства; я отвечу, что искусство – это болезненный нерв эпохи, утратившей доверие к бытию. Вот то, что невозможно отрицать, и никакие увещевания здесь не помогут. Утрачено фундаментальное доверие к бытию, нет больше этой почти инстинктивной уверенности в том, что наш подопечен некоему благому началу. Невозможно и взывать к этому началу. Художник это знает – от такого знания невозможно убежать. Что он может ему противопоставить? Литературу, которая реабилитирует достоинство человека, только и всего, и она это делает – собственными средствами, создавая свой мир, не прибегая к проповеди, не пытаясь конструировать образцы поведения, чураясь какой бы то было идеологии – и не повторяя предшественников.
Похоже, найти своё оправдание литература может лишь в самой себе.
Представьте себе: вы просидели два года над неким сочинением. Вы хотели соединить опыт собственной жизни и опыт эпохи. Образы, созданные вашим воображением, обступили вас со всех сторон. Они преследовали вас днём и ночью. Вы раздумывали над каждой фразой, набирали на компьютере и гасили; иные главы были вами переписаны 15 или 20 раз. Вы ставили перед собой задачи высокой сложности. И вот приговор: скукотища. Одно слово, перечеркнувшее всю вашу работу.
Я оказался в помещении, где собрался народ, это были мои персонажи. Некоторых я забыл и чуть было не спросил: кто вы такие? Они осыпали меня упрёками, угрозами, хотели убить.
Тезей отправился в лабиринт. Ушёл, и нет его. Время идёт. Ариадна начала беспокоиться, в тревоге дёргает за нить. Наконец, он появляется. «Убил?» – «Кого?» – «Да Минотавра!» – «Представляешь: не нашёл. Искал, искал…»
Вопрос: можно ли сфотографировать галлюцинацию. Да, если галлюцинирует сам фотоаппарат; такая гипотеза пока ещё не опровергнута.
Ты торопишься, ты несёшься следом за человеком, боясь потерять его, тебе ужасно хочется, чтобы, сворачивая в переулок, он обернулся, и ты боишься, что он обернётся, боишься узнать его.
Человек с неразвитым вкусом не отличает хорошую фразу от плохой; человек с испорченным вкусом отличает – и предпочитает плохую.
Вечная история: мужчина ищет обладания, а женщина – владения. Превратить в собственность всё вокруг, начиная с возлюбленного. Брак закрепляет права собственности. На этом, вероятно, и стоит мир.
Женщиной моей жизни, вероятно, стала бы моя мать. Но она умерла, когда мне было 6 лет.
В конце концов её место заняла Л. – единственная и окончательная женщина моей жизни. Без неё я бы давно уже коротал вечность на том свете, в ожидании, когда, наконец, раздвинутся чугунные врата без вывески. Рай? Ад?.. Скорее всего, это одно и то же.
Я напечатал когда-то рецензию на книгу Дж. Глэда «Russia Abroad», о российской эмиграции всех веков; рецензия называлась «Отечество изгнанных», а надо бы назвать: «Изгнанное отечество».
Эмиграция – вот что это такое: изгнанное отечество.
Сколько бед принёсло в мир разрушение благородной лапидарности латинского языка. Катастрофа языка предваряет исторические катастрофы. Варвары не сокрушили бы Рим, если бы не упадок латыни. Надо бы задуматься над ролью языка, смены языков, умирания языков в истории. Об этом вещает персонаж повести «Плюсквамперфект».
«Конечно, сказал он, многие обстоятельства споспешествовали краху, так сказать, подтолкнули падающего (мы не знали, что наш учитель цитирует Ницше). Однако, – тут он вознес палец, вперился блекло-голубыми глазами в нашу малочисленную компанию и, открыв рот, умолк на минуту, – однако главная причина была упущена исторической наукой, какая же, по-вашему? Деградация языка! – возгласил он с торжеством. – Разрушение благородной лапидарности латинского языка, неумелое использование свободного порядка слов, многоглаголание, вычурность, дурновкусие! Варвары не сокрушили бы Рим, если бы не упадок латыни, утрата чистоты, энергии, сжатости классического стиля».
Если бы я принимал вступительные экзамены в каком-нибудь Литературном институте, то первым делом спрашивал бы: читал ли Переписку Флобера? Не читал? Приходи в следующем году.
Ранняя смерть русских писателей – не одна ли из причин поспешной, стремительной эволюции русской литературы в XIX веке?
Величайший соблазн, соблазнительное величие времени заключалось в том, что оно приглашало всех соучаствовать в грандиозном и головокружительном общем деле. Идея Общего дела опьянила всех. И ринулись делать это дело, не страшась жертв. И оно, это дело, этот хрустальный дворец, волшебное чудо-юдо, росло и росло, его невозможно было доделать, ширилось, раздувалось, набухая кровью, пока не треснуло снизу доверху. И остались стоять перед околевшим вампиром, точно очнулись от угара, те, кто уцелел, и поняли, наконец, что великое дело было пузырём, фантомом, мифом. Это был миф обанкротившейся Истории. Оставалось доживать собственную, никому не нужную жизнь…
Сатин: «Человек – это звучит гордо!» (М.Горький).
Сверху, из-за облаков показывается некто или нечто. Высунулся огромный кукиш.
Гипертрофия памяти – старческий недуг наподобие гипертрофии простаты. Умение преодолевать эту агрессию памяти – секрет молодости, её защитный механизм. Умение защищаться, собственно, и есть молодость. Ибо забвение – это активная жизненная сила. Так настоящее защищается от прошлого, будущее – от настоящего, которое стремительно превращается в прошлое. Забвение освобождает от этого тяжкого бремени, освобождает, очищает от воспоминаний, которые накапливаются с годами и, как известь, откладываются в мозгу.
Копоть памяти мешает смотреть в будущее. Наши окна покрываются копотью памяти. Горб памяти мешает распрямиться. Мы молоды, покуда способны забывать. Потеря способности забывать, растущий с годами деспотизм памяти – вот оно, старение, приближение к смерти. Мы умираем, когда это бремя становится невыносимым. Прошлое погребает нас. Память давит могильной плитой.
Спору нет, современная русская литература глубоко провинциальна. Но на это можно было бы возразить, что и немецкая, и американская, и даже французская литература сегодня провинциальны. Может быть, это так и есть. Столичная литература осталась где-то в далёких веках. От Пушкина до нас расстояние как до Сатурна.
«Мы, цивилизации, знаем теперь, что мы смертны». Знаменитое эссе Поля Валери написано после Первой мировой войны. – А мы теперь знаем, что смертен человеческий род.
…и оказался лишним, как шестой палец или третья половинка зада.
Существует интерес исторический – и сверхисторический. Не стоит писать ради исторического интереса.
Надо жить так, чтобы над тобой развевалось некое знамя; надо жить со знаменем. Услышать зов валторны в Первом ф.-п. концерте Брамса. Не об «идеалах» речь идёт, а о мужестве сражаться с жизнью и одолевать невыносимую скуку жизни.
В мире, куда нас занесло, безоговорочная религиозность невозможна. С этим надо жить, с этим придётся умирать.
Решил посетить Гёльдерлина в Тюбингене, поднялся на его башню, отворил дверь. Тотчас он вскочил и бросился навстречу; я понял, что он хочет бежать, боролся с ним на пороге, наконец, удалось захлопнуть дверь. Подождав, я заглянул туда, поэт лежал на полу без признаков жизни.
Знаменитая фраза Стендаля: роман – зеркало, поставленное на большой дороге. Правильно; кривое зеркало.
«Oder glaubt man etwan, dab bei solchem Streben und unter solchem Getummel, so nebenher auch die Wahrheit, auf die es dabei gar nicht abgesehen ist, zu Tage kommen wird? Die Wahrheit ist keine Hure, die sich denen auf den Hals wirft, welche ihrer nicht begehren; vielmehr ist sie eine so sprode Schone, dab selbst wer ihr alles opfert, noch nicht ihrer Gunst gewib sein darf». (Arthur Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung, Vorrede zur zweiten Auflage 1844.)
(Или вы думаете, что в этой сутолоке тщеславия можно будет поймать за хвост истину, до которой никому всё равно нет дела? Истина – не уличная девка, готовая броситься на шею всякому, хочет он её или не хочет; истина – это неприступная красавица, и даже тот, кто всем ей пожертвовал, не может рассчитывать на её благосклонность. – Предисловие Шопенгауэра ко 2-му изд.).
Как можно было заниматься литературой, чего-то добиваться, как можно было пытаться устроить жизнь, на что-то надеяться, чего-то ждать, воспитывать сына – в этой стране. Разве не ясно, что дело не в тебе, не во мне, кто бы я ни был, – не в чьей-либо отдельной судьбе, не в том, что повезло или не повезло, – а в том, что над этой страной тяготеет страшный сверхисторический рок, дело в особом, специальном несчастьи родиться и жить в России.
Досадно, что жизнь подходит к концу; я не сделал многого и, вероятно, самого главного. Это, по-видимому, довольно распространённое чувство. Но не было, кажется, ещё писателя, который был бы до такой степени пропитан сознанием своей никомуненужности именно как писателя, да и ненужности литературы вообще. Я понимаю, что напрашиваюсь на возражения. Какие могут быть возражения…
Говорится о «сегодняшнем чувстве, что мы стоим на руинах разума, на краю развалин истории и самого человека» (С.Зонтаг). Говорится об усталости от истории. Справедливо; и лучшего примера, чем Эмиль Чоран, не найдёшь. Но Чоран – это тупик. Как это ни парадоксально, наступает усталость от чувства усталости. Чоран завершает линию Кьеркегора, дневников и писем Кафки. Приближается время новой объективности. Возникает необходимость в новом, пусть и лишённом всякого оптимизма и благодушия, синтезе действительности. Это и есть задача художественной прозы, утонувшей в безбрежном субъективизме. Выкарабкаться, вынырнуть из этого омута. Если нет – плохи наши дела.
Нужна новая объективность, которая вбирает в себя всё внутреннее пространство индивидуального, солипсического, законопаченного в черепной коробке. Нужна объективность, которая поставила бы под сомнение и чистую субъективность, и самоё себя. Нужно четвёртое лицо глагола.
Бронзовый закат. Бронзовые стволы деревьев. Вселенная из бронзы, постепенно чернеющей.
Не могу вспомнить, кому принадлежит мысль, что мир – это сновидение без сновидца, – может быть, мне самому; но не в этом дело. Мысль-то, в сущности, очень старая.
Вот я всегда считал «Аквариум» неудачей. А тут как-то заглянул, и показалось, что кое-что в нём как раз и схвачено.
Это был мой первый опыт романа в эпизодах, «фрагментах» лишённой стержня, распавшейся жизни
Наша обязанность – не описывать жизнь. Наша обязанность – добиваться, чтобы читатель не думал, что ему рассказывают о жизни.
…plus grande est la solitude d’un artiste, dans son epoque, plus vive et plus feconde est sa joie a se retrouver dans le passe des parents. (A. Gide, Journal 1927).
(Чем больше одиночество художника в своём времени, тем сильней и плодотворней его радость, когда он находит близких себе в прошлом. – Дневник Андре Жида.)
Два условия необходимы, чтобы хорошо и со вкусом чесаться: 1) три недели не мыться и 2) иметь качественные когти.
То же, mutatis mutandis, относится к писательству.
Двадцать первого октября этого года – сознательно ставлю дату, настаиваю на точности, – я был свидетелем следующего происшествия. В последнюю минуту перед отправлением (я сидел в вагоне) на перрон подземной станции, в этот час уже безлюдной, выбежал человек, попытался вскочить в вагон, рука с портфелем застряла в дверях – он отдёрнул руку – вероятно, испугался, что поезд потащит его за собой, – автоматические двери захлопнулись, он остался на перроне, что-то кричал и махал руками. Поезд шёл по маршруту, время, как уже сказано, было позднее, два-три пассажира дремали в другом конце вагона, за стёклами пошатывалось моё отражение, мелькали огни туннеля, портфель лежал на полу перед дверью. Я вышел на ближайшей станции, долго ждал следующего поезда, вероятно, последнего, поезд подошел, никто не вышел. Искать бюро находок уже не имело смысла, спросить не у кого.
Толстая пачка пустой бумаги, рукопись ненаписанного романа «Вчерашняя вечность». Значит, это был я?
В Москве, на здании главного управления тайной полиции, по распоряжению президента установлена мемориальная доска в честь дорогого учителя – министра государственной безопасности. Здание охраняется, и нет возможности забросать дерьмом эту скрижаль.
Моему сыну понадобилась заверенная копия метрического свидетельства, которое он потерял; по этому случаю мы явились в российское консульство. Я давно уже там не был. Чёрные стёкла, за которыми сидели чиновники (тебя видят, ты никого не видишь), заменены обыкновенными. В остальном ничего не изменилось; приемная битком набита людьми. Смирные деревенские бабушки в платках, очевидно, родственницы приехавших на работу в Германии, мордатые мужики, подобострастные, приниженные просители и просительницы: кто протискивается с бумагой к окошку, кто тупится за тесным столом, заполняет чудовищную анкету, ещё кто-то (сам видел двух таких) стоит за получением справки о том, что он жив. Островок отечества.
Чувство безнадёжной несовместимости. Университет и классическое отделение, Герцен и Огарёв – а в пятнадцати минутах ходьбы цитадель с железными воротами, подвалами, боксами-отстойниками, переполненными камерами, прогулочными дворами на крышах и кабинетами, где сидели люди, которые вчера слезли с деревьев. В лагере девять десятых обитателей едва умели расписаться, немногим образованней было и начальство. Много лет спустя я жил в Чертанове, сидел в уютной комнате за письменным столом и сочинял что-то высокоумное, цитировал Платона и Паскаля, а на лугу, превращённом в пустырь, перед бакалейным магазином, среди старых ящиков и лохмотьев обёрточной бумаги спал упившийся безногий инвалид на тележке, колёсиками кверху. Как это всё может сочетаться? Странная культура, похожая на кирпичи, по которым пробираются через лужи и разливы экскрементов.
«Я чувствую, что меня делает история» (Тынянов, со слов Л.Я.Гинзбург). А я чувствую, как меня корёжит история.
Жалкая писклявая флейта – жизнь отдельного человека – заглушается рёвом тромбонов, ударами литавр. Сравнение с симфоническим оркестром как будто предполагает гармоническое созвучие, но где тот композитор, который соединит солирующую флейту с оркестром. И этот человек должен взвалить на себя бремя истории?
Я спрашиваю себя, чьими глазами обозревается романный мир, и не могу дать однозначный ответ, так как единого повествователя нет. Если считать, что роман представляет собой жизнеописание главного героя, начиная с детства и кончая старостью, то он выступает по крайней мере в трёх лицах: некто живущий и совершающий поступки, некто вспоминающий о своей жизни и некто сочиняющий роман «по материалам» этой жизни.
Наконец, можно угадать и присутствие некой сторонней инстанции, род сверхавтора; иногда он почти отождествляет себя с героем, иногда – существует сам по себе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































